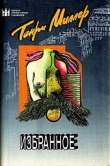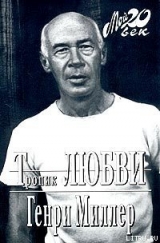
Текст книги "Колосс Маруссийский"
Автор книги: Генри Валентайн Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Рано утром мы свернули лагерь, чтобы вернуться в Калами. День был необычайно знойный, а предстояло два часа добираться до горной деревушки, где нас ждал Спиро с машиной. Первым препятствием была песчаная полоса, которую нужно было перебежать галопом, потому что песок так раскалился, что жег ноги даже сквозь сандалии. Потом долгий переход по высохшему речному руслу, усеянному камнями, – серьезное испытание и для более крепких лодыжек. Наконец мы вышли на тропу, которая вилась вверх по горному склону, скорее узкую расселину, чем тропу, трудную даже для привычных местных пони, тащивших нашу поклажу. Мы продолжали подниматься, а навстречу нам неслась откуда-то сверху таинственная мелодия. Подобно густому туману, плывущему с моря, она обволакивала нас ностальгическими волнами, а потом так же внезапно смолкала. Поднявшись на несколько сот футов, мы вышли на лужайку, посреди которой стоял огромный чан с ядовитой жидкостью – инсектицидом для оливковых деревьев. Молодые женщины, окружавшие чан, помешивали жидкость и пели. Это была песнь смерти, которая удивительно сочеталась с пейзажем, погруженным в туман. Кое-где в разрывах похожих на пар облаков открывались купы деревьев или неровно торчащие, словно клыки, скалистые выступы, и отраженное от них эхо тревожащего душу пения гремело, как оркестровая медь. Выше тумана ритмично вздымалась синяя сфера моря, не вровень с сушей, а где-то посредине между небом и землей, как после тайфуна. Дома, когда их литые силуэты прорывались сквозь мираж, тоже казались висящими в воздушном пространстве. Все было пронизано бросающей в дрожь библейской лучезарностью, подчеркиваемой звяканьем колокольцев на шее пони, отзвуками песни яда, приглушенным шумом прибоя далеко внизу и невнятным ропотом гор, который, верно, был всего лишь колокольным звоном храмов, невидимых в вышине за каленой дымкой ионийского утра. Мы присели отдохнуть на краю обрыва, слишком зачарованные открывшейся картиной, чтобы подыматься дальше по ущелью к простому, яркому миру трудового дня маленькой деревушки за перевалом. В этом оперном царстве, где Дао[9]9
То есть «Дао дэ цзин» – трактат, авторство которого традиция приписывает Лао-цзы (VI – V вв. до н.э.) и в котором изложено учение о пути вещей (дао) и его проявлениях (дэ). Первый китайский историк, Сыма Цянь (II – I вв. до н.э.), пишет, что Лао-цзы служил главным хранителем архива государства Чжоу и встречался с Конфуцием, который приезжал к нему за советами и наставлениями. Прим. перев.
[Закрыть] и древние Веды[10]10
Веды, букв, «знание, ведение» (санскр.) – древнейший литературный памятник Индии. Прим. перев.
[Закрыть] драматически слились в полифоническом разноголосии, вкус легкой греческой сигареты еще больше напоминал вкус жженой соломы. Здесь само небо метафизическим образом настраивалось созвучно окружающему: это была драма эфира, высших сфер, извечного конфликта между душою и духом.
Потом было ущелье, о котором я всегда думал как о перекрестке бессмысленных боен. Здесь на протяжении бесконечной кровавой истории человека вновь и вновь происходила самая ужасная, возбуждаемая жаждой мести резня. Это ловушка, придуманная самой Природой для уничтожения человека. Греция полна подобными смертельными ловушками. Это как мощный космический камертон, по которому настраивается пьянеющий слабый мир, где героические и мифологические фигуры блистательного прошлого постоянно угрожают взять верх над сознанием. Древний грек был убийцей: он жил среди грубой реальности, которая терзала и приводила в исступление дух. Он воевал со всеми и каждым, в том числе и с собой. Его яростный анархизм породил ясную, живительную метафизическую философию, которая даже в наши дни очаровывает мир. Я поднимался по ущелью, двигаясь свастикообразными зигзагами, стремясь выбраться на открытое пространство высокого плато, и мне казалось, что я бреду по морю крови; земля была не цвета ожога и не сведенная судорогой, что обычно в Греции, но бледной и застывшей в нелепом вывихе, как руки и ноги павших, которых бросали здесь разлагаться под безжалостным солнцем и поить своей кровью корни диких олив, вцепившиеся в крутые откосы, как когти грифов. Должно быть, случались в этом горном ущелье моменты прозрения, когда люди разных рас стояли, взявшись за руки и глядя в глаза друг другу с симпатией и пониманием. И должно быть, в этом месте кровавой резни, где земля насыщена прахом павших, останавливались пифагорейцы, чтобы, медитируя в тиши и одиночестве, обрести новую ясность, новое откровение. Греция украшена венцом из подобных парадоксальных мест; возможно, это объясняет тот факт, что Греция добилась свободы для себя как страны, нации, народа для того, чтобы продолжать оставаться лучезарным перекрестком меняющегося человечества.
В Калами дни текли плавно, как песня. Изредка я писал письмо или брался за акварельные краски. В доме была богатая библиотека, но на книги смотреть не хотелось. Даррелл пытался заставить меня читать сонеты Шекспира, и после недельной осады я прочел один сонет, может быть, самый таинственный из написанных Шекспиром. (Полагаю, это был «Феникс и Голубь».) Вскоре после этого я получил «Тайную доктрину» Блаватской и одолел ее в один присест. Перечитал дневник Нижинского. Эту книгу я буду перечитывать снова и снова. На свете мало книг, к которым я могу постоянно возвращаться, и одна из них – гамсуновские «Мистерии», другая – «Вечный муж» Достоевского. Возможно, стоит добавить к ним «Алису в Стране чудес». Как бы то ни было, куда лучше было проводить вечера, болтая и распевая песни или разглядывая в телескоп звезды с обрыва над морем.
Графиня, которая вновь возникла на сцене, уговорила нас отправиться на несколько дней в ее поместье в другой части острова. Мы провели там все вместе три чудесных дня, а потом ночью началась мобилизация греческой армии. Война еще не была объявлена, но спешное возвращение короля в Афины было воспринято как зловещий знак. Все, кто располагал средствами, решили последовать примеру короля. Город охватила настоящая паника. Даррелл пожелал записаться в греческую армию, чтобы отправиться на албанскую границу; Спиро, который по возрасту не подлежал призыву, тоже жаждал облачиться в солдатскую форму. Так прошло несколько дней в истерических жестах, а затем, точно о нас позаботился некий антрепренер, все оказались на пристани в ожидании парохода до Афин. Пароход должен был прибыть в девять утра; на борт мы попали только на другое утро, часа в четыре. К тому времени весь причал представлял собой неописуемое скопище узлов, сундуков и прочей клади, на которой сидели или лежали ее хозяева, внешне беззаботные, но внутри трясущиеся от страха. Совершенно позорная сцена разыгралась, когда наконец подошли шлюпки, чтобы отвезти пассажиров на пароход. Богачи, как водится, требовали, чтобы их забрали в первую очередь. Имея билет в первый класс, я неожиданно для себя тоже оказался причислен к ним. Я почувствовал такое отвращение к происходящему, что уж было решил не садиться на пароход, а спокойно вернуться в дом Дарреллов и предоставить событиям развиваться своим чередом. Вдруг все каким-то удивительным образом изменилось, и я обнаружил, что нас будут забирать не в первую, а в последнюю очередь. Весь грандиозный багаж богачей был выгружен обратно на пристань. Браво! Настроение у меня поднялось. Графиня, у которой вещей было больше всех, должна была отправляться последней. Позже я, к своему удивлению, узнал, что она же сама и устроила все таким образом. Ее возмутила не несправедливость классовых привилегий, а царившая при посадке неразбериха. Она, по всей видимости, ничуть не боялась прихода итальянцев; что ее волновало, так это сумятица, постыдная свалка у шлюпок. Было, как я уже сказал, четыре утpa, и яркая луна блестела на гневно вздымавшихся волнах, когда мы отчалили от пристани на утлых шлюпках. Я никогда не предполагал, что придется вот так покидать Корфу, и был малость зол на себя за то, что рвался в Афины. Важнее для меня было то, что я прервал свой блаженный отпуск, а не опасности надвигающейся войны. Еще стояло лето, и я совсем не насытился солнцем и морем. Я думал о крестьянках и оборванных детишках, которым скоро предстояло голодать, о том, какими глазами они смотрели на нас, отплывающих. Мне казалось малодушным бежать вот так, оставляя слабых и невинных на произвол судьбы. Снова деньги. Кто их имеет – спасается; у кого их нет, тех зверски убивают. Я молился о том, чтобы итальянцы перехватили нас, чтобы мы не смогли столь постыдным образом избежать общей участи.
Когда я проснулся и вышел на палубу, пароход скользил по узкому проливу; по обеим сторонам проплывали низкие голые холмы, мягкие, усеянные фиалками выпуклости земли столь уютных человеческих пропорций, что можно было заплакать от радости. Солнце стояло почти в зените, и его блеск был ослепителен. Я находился в том самом греческом мире, границы которого описал в своей книге за несколько месяцев до того, как покинул Париж. Это все равно, как проснуться и увидеть, что находишься в воплощенном сне. Было что-то фантастическое в сияющей яви тех фиалковых берегов. Мы словно бы скользили внутри картины Таможенника Руссо. Это было больше чем Греция – это была сама поэзия, вне времени и пространства, известного человеку. А наш пароход – всего лишь звено, связывавшее с реальностью. Он по самые планширы был набит потерянными душами, отчаянно цепляющимися за свое земное имущество. Женщины в рванье и с обнаженной грудью тщетно пытались успокоить орущих младенцев, сидя на досках палубы среди рвоты и крови, и сон, сквозь который они плыли, не касался их век. Если бы нас тогда торпедировали, то вот так, в крови и рвоте и душевном смятении, мы и отправились бы во тьму преисподней. В тот момент я возрадовался, что свободен от какого бы то ни было имущества, каких бы то ни было уз, свободен от страха, зависти, злобы. Ничего не имея, ни о чем не сожалея, ничего не желая, я мог бы спокойно перейти из одного сна в другой. Никогда еще не был я так уверен в нерасторжимости жизни и смерти и в том, что нельзя наслаждаться первой, не принимая вторую.
* * *
В Патрах мы решили сойти на берег и поездом добраться до Афин. Отель «Сесил», в котором мы остановились, – лучший из всех, в которых я когда-либо жил, а я живал во многих отелях. Номер, какой в Америке обошелся бы не менее чем в пять долларов в сутки, здесь стоил что-то около двадцати центов. Надеюсь, каждый, кто попадет в Грецию, остановится в отеле «Сесил» и убедится в этом сам. Такое запоминается на всю жизнь... Завтракали мы ближе к полудню на террасе солярия, обращенного к морю. Между Дарреллом и его женой происходили жуткие ссоры. Я чувствовал себя совершенно беспомощным и только и мог, что всей душой жалеть обоих. Их ссоры были исключительно личного свойства, и война была лишь предлогом. Мысль о войне сводит людей с ума, даже если это такие умные и дальновидные люди, как Даррелл и Нэнси. Война имела еще одно отрицательное следствие – она заставляла молодых людей испытывать чувство вины и угрызения совести. На Корфу я наблюдал, какие фортели выкидывал психически совершенно здоровый молодой англичанин, парень лет двадцати, который намеревался посвятить себя изучению Греции. Он бестолково носился, словно петух с отрубленной головой, умоляя кого-то отправить его на фронт, где его могло разнести на куски. Теперь вот Даррелл говорил в том же духе, с той лишь разницей, что он не настолько помешался, чтобы искать смерти, отправившись с греческой армией в Албанию, – потому что о греках думал больше, чем о соотечественниках. Я старался как можно меньше высказываться на эту тему, потому что, если бы попытался отговорить его, то лишь укрепил бы в самоубийственном намерении. Я не желал видеть его убитым; мне казалось, что война превосходно может подойти к своему бесплодному концу, не принося в жертву того, кому назначено столько дать миру. Он знал, что я думаю о войне, и, полагаю, в глубине души соглашался со мной, но, как человек молодой, годный к военной службе и, на свою беду, англичанин, он был в затруднении. К тому же место было неподходящим, чтобы спорить на подобную тему. Здесь жива была память о Байроне. Когда рукой подать до Миссолунги, почти невозможно рассуждать о войне трезво. Британский консул в Патрах оказался более рассудительным. После краткой беседы с ним я вновь почувствовал уважение к Британской империи. А еще я напомнил себе, что война пока фактически не объявлена. Уже не раз казалось, что она вот-вот разразится – может статься, все-таки пронесет.
Отлично поев в кабачке на площади, под вечер мы отправились на автомотрисе в Афины. Один из попутчиков, грек, возвращавшийся из Америки, жовиальным манером приветствовал меня как собрата американца и пустился в бесконечный, глупый и нудный монолог о великолепии Чикаго, где, подозреваю, он и месяца-то не прожил. Смысл всей его болтовни сводился к одному – как ему не терпится вернуться домой, то есть, разумеется, в Америку; соотечественники его все, мол, грубы, грязны, бестолковы и так далее. Даррелл прервал его, чтобы поинтересоваться, на каком языке тот говорит, – он никогда не слышал, чтобы грек так коверкал английский. Людям, с которыми я беседовал, захотелось знать, чем так восторгается их чудной земляк. Пока этот иеху[11]11
Слово «иеху» пошло из романа Джонатана Свифта (1667 – 1745) «Путешествия Гулливера», где так называются отвратительные звероподобные существа человеческой породы. Прим. перев.
[Закрыть] не встрял в наш разговор, мы беседовали по-французски. По-французски же я им ответил, что земляк их – невежда. Тут же грек спросил, на каком это языке я с ними разговариваю, и, когда я ответил, фыркнул: «Не знаю, не слышал о таком; мне хватает американского... я из Чикаго». Хотя я ясно дал ему понять, что меня его истории не интересуют, его желание говорить о себе не уменьшалось. Он рассказал, что направляется в маленькую деревушку в горах, где живет его мать, – повидаться на прощанье. «Представьте, до чего ж это темный народ, – добавил он. – Я привез матери из Чикаго ванную; установил ее собственными руками. Думаете, они оценили? Надо мной потешались, говорили, что я совсем свихнулся. Не хотят они соблюдать чистоту. А вот в Чикаго...» Я извинился перед своими попутчиками, что приходится выслушивать подобного идиота, и заметил, что так Америка действует на своих приемных сыновей. Все от души рассмеялись, в том числе и сидевший рядом со мной грек крестьянин, который ни слова не понял, поскольку все говорилось по-французски. В довершение болван спросил, где я научился говорить по-английски. Я объяснил, что родился в Америке. Тот сделал удивленный вид и ответил, что никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил по-английски, как я, подразумевая, что только его язык мясника с бойни[12]12
Чикаго до недавнего времени был знаменит своими скотобойнями. Прим. перев.
[Закрыть] и может считаться настоящим английским.
* * *
В Афинах оказалось настолько прохладно, что можно было надевать пальто. Климат в этом городе неустойчивый, как в Нью-Йорке. В предместьях – жуткая пылища. Порой даже в центре Афин, где можно увидеть самые фешенебельные, ультрамодные многоквартирные дома, улицы немощеные и представляют собой просто грязную дорогу. Полчаса пешком, и вы можете оказаться на окраине. Это действительно огромный город с чуть ли не миллионом жителей; он вырос в сотни раз со времен Байрона. Преобладающие цвета, как и во всей Греции, – синий и белый. Даже газетный шрифт здесь – яркий небесно-синий, отчего вид у газет безгрешный и ювенальный. Афиняне просто набрасываются на газеты; у них неистребимый голод на новости. С балкона номера в «Гранд отеле» мне открывался вид на площадь Конституции, которая по вечерам была черна от народа: тысячи людей сидели за маленькими столиками, уставленными каким-нибудь питьем со льдом, официанты с подносами носились от столиков к кафе, окружающим площадь, и обратно.
Здесь однажды вечером я и познакомился с Кацимбалисом, возвращавшимся в Амаруссион. Это была встреча так встреча. Из всех неожиданных знакомств с людьми, с которыми меня сводила жизнь, это можно сравнить лишь с двумя – знакомством с Блезом Сандраром и Лоренсом Дарреллом. В тот первый вечер я больше помалкивал – только завороженно слушал каждое слово Кацимбалиса. Я понял, что он создан для монолога, подобно Сандрару или Морикану, астрологу. Монолог, когда он хорош, нравится мне даже больше дуэта. Это все равно что смотреть, как человек пишет книгу исключительно для тебя: пишет, читает вслух написанное, разыгрывает в лицах, исправляет, смакует, упивается ею, наслаждается твоим восхищением, а потом рвет ее и швыряет клочки на ветер. Величественный жест, ибо, пока он произносит свой монолог, ты для него Бог – если паче чаяния не болван, лишенный чуткости и терпения. Но в таком случае вы никогда не услышите монолог, сравнимый с тем, о каком я говорю.
В первую нашу встречу он предстал передо мной занятною смесью черт: бычье сложение, устремленность грифа, проворство леопарда, нежность ягненка и жеманность горлицы. Меня восхитила его прекрасная огромная голова, заставившая почему-то предположить, что это особенность афинян. Руки его были слишком малы для такого тела, однако изящны. Это был полный энергии, сильный мужчина, который не чуждался хулиганского поступка и сочного словца и от которого вместе с тем исходила какая-то мягкая и женственная теплота. Трагичность была сущностным элементом его души, и искусная мимикрия только подчеркивала это. Он был невероятно отзывчив и в то же время безжалостно жесток. Казалось, он все время говорит только о себе, но при этом – никакого самолюбования. Он говорил о себе потому, что был самым интересным человеком из всех, кого знал. Мне такое свойство по душе – я и сам этим грешу.
Несколько дней спустя мы встретились, чтобы вместе пообедать – он, его жена Аспазия и чета Дарреллов. Потом предстояла встреча с его друзьями. Он сверкал и пенился, как шампанское. Он всегда был таким, даже когда неважно себя чувствовал и жаловался на головную боль, или головокружение, или сто и одну хворь, которые не отпускали его. Он отведет нас в taverna в Пирее, сказал он, потому что хочет, чтобы мы попробовали настоящую греческую кухню. В старые добрые времена это было одно из его любимых местечек. «Я совершил огромную ошибку, женившись, – продолжал он; жена слушала его и снисходительно улыбалась. – Я не создан для семейной жизни, она действует на меня губительно. У меня пропал сон, я уже не могу ни курить, ни пить... Конченый я человек». Он всегда говорил о себе как о ком-то, кому уж подписан приговор: эту тему он исподволь вплетал в свой монолог с тем, чтобы приблизиться к любому предмету, о котором говорил. Случившееся только вчера принадлежало у него тому же безвозвратно ушедшему ностальгическому прошлому. Бывало, когда он говорил в такой манере, он казался мне похожим на огромную черепаху, выползшую из своего панциря, существо, которое отчаянно старается втиснуться обратно в защитную оболочку, из которой выросло. Старания его были всегда намеренно гротескными и нелепыми. Он смеялся над собой – смеялся трагическим смехом клоуна. Мы все смеялись, и его жена тоже. Сколь бы печальной, ужасной или трогательной ни была рассказываемая им история, он непременно заставлял нас смеяться. Он видел юмористическую сторону во всем, так по-настоящему и испытывается трагическое сознание.
Еда... у него была подлинная страсть к хорошей еде. С детства он любил хорошо поесть и, думаю, будет получать удовольствие от еды до самой своей смерти. Его отец был большим гурманом и знатоком по этой части, и Кацимбалис, хотя, может, его вкус не был столь тонким и совершенным, как у его отца, унаследовал семейную традицию. Плотоядно заглотнув кусок, он бил себя в грудь, как горилла, прежде чем сопроводить его чуть ли не бочкой рецины. В свое время он пил много: он говорил, что вино полезно – полезно для почек, для печени, для легких, для кишечника и для мозгов, полезно для всего. Что бы он ни потреблял внутрь, все шло на пользу, будь то отрава или амброзия. Он не верил ни в умеренность, ни в здравый смысл, ни во что другое, что ограничивает или налагает запреты. Он верил, что нельзя себе ни в чем отказывать, – расплачиваться будем потом. Теперь он многого не мог – война его малость покалечила. Но пусть у него плохо работала рука, не гнулось колено, было повреждено зрение, расстроена печень, ломал ревматизм и мучили артрит, мигрень, приступы головокружения и бог знает что еще, но то, что осталось от катастрофы, было живым и роскошным, как дымящаяся навозная куча. Он способен был гальванизировать мертвеца своим разговором. Говоря о каком-то предмете, он как бы пожирал его: описывая какую-нибудь местность, он жевал ее, как козел – ковер. Если речь заходила о человеке, он съедал его живьем, от головы до пальцев ног. Если о событии – обгладывал каждую деталь, как полчища белых муравьев, напавших на лес, обгладывают все деревья до единого. Когда он говорил, он был одновременно повсюду. Атаковал сверху и снизу, спереди, сзади и с флангов. Если не удавалось разгрызть какую-то тему с ходу, он на время откладывал ее в сторону и шел дальше, а потом возвращался и постепенно приканчивал ее. Или подбрасывал ее в воздух, точно фокусник – стеклянный шарик, и, когда вам уже казалось, что он забыл о ней, что та упала и разбилась, он проворно протягивал руку назад и ловил ее в ладонь, даже не обернувшись. Он предлагал не просто разговор, но язык – язык пищи и зверя. Его речь перекликалась с окружающим пейзажем, как речь трагического героя потерянного мира. Пейзаж Аттики как нельзя лучше отвечал его цели: в нем есть необходимые ингредиенты для драматического монолога. Достаточно увидеть развалины древних театров на склонах холмов, чтобы понять важность такого обрамления. Даже если б язык завел его в Париж, на рю Фобур-Монмартр например, он принес бы с собой особые остроту и аромат своих аттических ингредиентов: тимьяна, шалфея, известняка, асфоделей, красной глины, синих крыш, резных акантов, фиалкового света, горячих скал, сухих ветров, пыли, рецины, артрита и электрического потрескивания, словно над низкими холмами рассыпается фейерверк – дракон с перебитым хребтом. Он был странно двулик, даже когда говорил. Его змеиный язык разил как молния, пальцы нервно шевелились, словно блуждая по клавишам воображаемого спинета, кулаки угрожающе взлетали, никого, впрочем, не задевая, а лишь опускались на стол с грохотом морского вала, бьющего в берег, но стоило неожиданно вглядеться в него, и начинало казаться, что он неподвижен, что только круглый соколиный глаз смотрит настороженно, что он – птица, которую загипнотизировали или которая сама гипнотизирует, сидя на запястье незримого гиганта, гиганта вроде земли. Весь этот шквал и шум, весь этот калейдоскоп жонглерских жестов были всего-навсего отвлекающим маневром, призванным усыпить ваше внимание и скрыть тот факт, что он сам был узником, – такое впечатление создавалось у меня, когда я изучал его и когда мне на мгновение удавалось освободиться от его чар и внимательно понаблюдать за ним. Но чтобы освободиться от его чар, нужно было обладать силой и магией, почти что равным тем, которыми обладал он; и если кто-то пытался разрушить власть иллюзии, то всегда чувствовал себя дураком и импотентом. Магию нельзя уничтожить, самое большее, что мы можем сделать, – это отрезать себя от нее, ампутировать антенну, связующую нас с силами, постичь которые мы не в состоянии. Много раз, когда Кацимбалис говорил с кем-нибудь, я видел по выражению на лице слушателя, что между ними установилась связь, как по невидимым проводам, и по ним передается нечто, что лежит за пределами языка, за пределами личности, нечто магическое, что мы распознаем во сне и отчего напряжение покидает лицо спящего и оно словно расцветает. Размышляя об этой его способности, я часто возвращался к его постоянным упоминаниям о несравненном меде, который пчелы собирали на склонах его любимого Гиметтоса[13]13
Гиметтос, гора в окрестностях Афин. Прим. перев.
[Закрыть]. Он снова и снова пытался объяснить, в чем неповторимость этого меда с Гиметтоса. Никто не мог найти этому удовлетворительное объяснение. Никто не может объяснить то, что неповторимо. Это можно описать, перед этим можно преклоняться, этим можно восхищаться. Что я и делаю, рассказывая о том, как говорил Кацимбалис.
* * *
Позже, когда я возвратился на Корфу и в полной мере вкусил одиночество, я еще больше оценил монологи Кацимбалиса. Жарясь голышом на солнце на краю скалы над морем, часто я закрывал глаза и пытался воскресить в памяти его манеру говорить. Именно тогда я понял, что его речь порождала отзвук, что эхо достигало ушей слушателя порядочное время спустя. Я стал сравнивать его речь с речью французов, которая так долго окружала меня. Последняя больше походила на игру света на алебастровой вазе, нечто отраженное, подвижное, танцующее, текучее, мимолетное, тогда как язык Кацимбалиса был матовый, туманный, полный отзвуков, смысл которых становился ясным только время спустя, когда долетало эхо, отраженное от мыслей, людей и вещей, находящихся в удаленных уголках земли. Француз окружает свою речь стеной, как он окружает сад: он ограничивает себя во всем, только чтобы чувствовать себя как дома. В глубине души он не испытывает доверия к своему коллеге; его скепсис вызван неверием во врожденную доброту людей. Он стал реалистом, потому что быть реалистом безопасно и практично. Зато грек – это искатель приключений: он беспечен и открыт и легко заводит дружбу. Стены, которые вы видите в Греции, когда они не возведены турками или венецианцами, принадлежат к эпохе циклопов. По собственному опыту знаю, что нет более прямого, доступного и приятного в общении человека, нежели грек. Он становится вам другом с первого мгновения знакомства, с самого начала испытывая к вам симпатию. Дружба с французом – это долгий и трудный процесс: на то, чтобы с ним сдружиться, может уйти целая жизнь. Водить с вами знакомство, когда минимум риска и никаких последствий, – тут он хорош. В самом слове ami почти и следа нет той теплоты, какой наполнено английское friend. C'est mon ami нельзя перевести фразой «Это мой друг». Этой фразе нет аналога на французском. И это – брешь, которую ничем не заполнить, как и в случае со словом «дом». Такие вещи влияют на разговор. Можно прекрасно общаться, но трудно разговаривать по душам. Франция, как часто говорят, – это сад, и если любишь ее, как я ее люблю, то она может быть очень красивым садом. Что касается меня, то она благотворно и умиротворяюще подействовала на мой дух; там я исцелился от многих потрясений и ран, полученных у себя на родине. Но наступает день, когда снова чувствуешь себя здоровым и сильным, и тогда эта атмосфера перестает вдохновлять. Ты жаждешь вырваться на волю, испытать свои силы. И тогда французский дух кажется тебе ущербным. Жаждешь завести друзей, обрести врагов, увидеть, что находится за пределами стен и возделанных лоскутков земли. Жаждешь перестать думать категориями страхования жизни, пособий по болезни, пенсии по старости и прочая.
После обильной трапезы в пирейской taverna мы все, порядком хмельные, вернулись на большую площадь в Афинах. Было уже слегка заполночь, а народу на площади не уменьшалось. Кацимбалис каким-то шестым чувством вычислил столик, за которым сидели его друзья. Душевные его друзья – Сефериадис и Антониу, капитан славной посудины под названием «Акрополь». Он познакомил нас, и вскоре Сефериадис и капитан Антониу начали забрасывать меня вопросами об Америке и американских писателях. Подобно большинству образованных европейцев, они знали американскую литературу так, как я никогда не буду ее знать. Антониу несколько раз плавал в Америку, ходил по улицам Нью-Йорка, Бостона, Нового Орлеана, Сан-Франциско и других портовых городов. Я представил себе, как он бродит, ошеломленный, по улицам наших огромных городов, и упомянул имя Шервуда Андерсона, который, по моему мнению, был единственным из современных американских писателей, кто увидел улицы наших американских городов глазами истинного поэта. Поскольку они едва слышали о нем и поскольку разговор уже сворачивал на хоженую тропу, а именно к Эдгару Аллану По, слышать о котором мне было невмоготу, мне пришла вдруг в голову идея продать им Шервуда Андерсона. Для разнообразия я сам начал монолог – о писателях, которые ходили по американским улицам и оставались безвестными, пока им не приходила пора умирать. Я настолько увлекся, что буквально почувствовал себя самим Шервудом Андерсоном. Он бы, наверно, изумился, если бы услышал о тех подвигах, которые я ему приписывал. Я всегда испытывал особую слабость к автору «Многих свадеб». В самые мои тяжелые дни в Америке именно его рассказы приносили мне утешение. Только недавно я впервые лично познакомился с ним и не нашел никакого расхождения между ним как человеком и писателем. Это был рассказчик от Бога, человек, способный заставить торжествовать даже яйцо[14]14
Аллюзия на сборник рассказов Шервуда Андерсона (1878 – 1941) «Триумф яйца». Ниже упоминается другой его сборник рассказов – «Уайнсбург, штат Огайо». Прим. перев.
[Закрыть].
Итак, я продолжал взахлеб рассказывать о Шервуде Андерсоне, обращаясь главным образом к капитану Антониу. Помню, какой взгляд он бросил на меня, когда я закончил, взгляд, в котором читалось: «Сдаюсь. Беру все, заверните». С тех пор я много раз перечитывал Шервуда Андерсона глазами Антониу. Он постоянно плавает от одного острова к другому и пишет стихи, бродя ночью по незнакомому городу. Несколько месяцев спустя я как-то встретился с ним на несколько минут в странном порту Ираклион на Крите. Он продолжал думать о Шервуде Андерсоне, хотя говорил со мною о грузах, которые перевозил, о сводках погоды и запасах пресной воды. Как-то раз в море я заметил, как он, зайдя к себе в каюту, достал с полки небольшую книжицу и с головой погрузился в таинственную ночь заштатного безымянного городка в Огайо. Ночами я всегда завидовал ему, завидовал его покою и одиночеству в море. Я завидовал его остановкам у островов и одиноким прогулкам по молчаливым деревушкам, названия которых ничего нам не говорили. Моим первым желанием в детстве было стать лоцманом. Я представлял, как буду стоять один в маленькой рубке на палубе и направлять корабль в узкий проход между опасными рифами. Идти навстречу штормам, сражаться с ними – это было так заманчиво, так восхитительно. Лицо Антониу носило на себе печать подобных сражений. Такая же печать лежала и на сочинениях Шервуда Андерсона. Мне нравятся люди со штормовым темпераментом...
Мы расстались под утро. Я вернулся в гостиницу, распахнул балконную дверь и долго стоял, глядя на опустевшую площадь. Я приобрел еще двоих настоящих друзей и был счастлив этим. Я думал обо всех друзьях, которых приобрел за недолгое время пребывания в Греции. О Спиро, и таксисте, и Карименаиосе, жандарме. А еще был Макс, беженец, по-княжески расположившийся в отеле «Король Георг»; у него, казалось, не было других забот, как делать друзей счастливыми с помощью драхм, которые он не мог вывезти из страны. Еще был владелец гостиницы, в которой я жил; в отличие от французов, хозяев отелей, он время от времени спрашивал меня, не нуждаюсь ли я в деньгах. Если я говорил ему, что собираюсь ненадолго куда-то уехать, он просил: «Обязательно дай телеграмму, если понадобятся деньги». То же самое Спиро. Когда мы прощались в порту в ночь всеобщей паники, его последние слова были: «Мистер Генри, если вернетесь на Корфу, я хочу, чтобы вы остановились у меня. Не нужно никаких денег – просто приезжайте и живите, сколько захочется». Куда бы я ни поехал в Греции, повсюду я слышал одно и то же. Даже в префектуре, пока мне оформляли все бумаги, жандарм послал за кофе и сигаретами, чтобы мне комфортнее было дожидаться. Нравилось мне и то, как они побирались. Они этого не стыдились. Они просто останавливали вас и просили деньги или сигареты так, словно имели на это право. Это хороший знак, когда люди вот так просят подаяния: значит, они сами умеют давать. Француз, к примеру, не умеет ни дать, ни попросить о помощи – и в том и в другом случае он испытывает неловкость. Для него великая добродетель – не досаждать вам. Грек не окружает себя стеной: он и дает от души, и берет не чинясь.