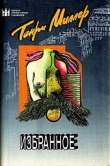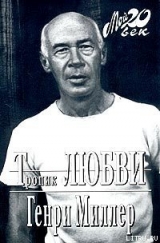
Текст книги "Колосс Маруссийский"
Автор книги: Генри Валентайн Миллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– За Генри Миллера! – подхватил кто-то. – Потому что он верит в себя.
Я едва успел вернуться в отель до очередного приступа. Завтра обязательно сяду на рисовую диету. Лежа в постели, я смотрел на мужчин без пиджаков в здании напротив. Это напомнило мне точно такие же картины, что я видал в мрачных чердачных помещениях контор по соседству с бродвейским «Центральным отелем» – на Грин– или Бликер-стрит, например. В промежуточной зоне между сумасшедшим богатством и настоящими трущобами. Бумажные души... целлулоидные воротнички... шпагат... мышеловки. Луна стремительно неслась сквозь тучи. До Африки почти рукой подать. На другом конце острова – место с названием Фест. Я уже засыпал, когда в дверь постучала мадемуазель Сведенборг, чтобы сообщить, что звонил префект полиции и справлялся обо мне. «Что ему надо?» – спросил я. Она не знала. Известие встревожило меня. Я впадаю в панику от одного слова «полиция». Я непроизвольно поднялся и полез в бумажник, проверить, на месте ли permis de sejour[55]55
Вид на жительство (франц.), прим. перев.
[Закрыть]. Внимательно просмотрел его, чтобы убедиться, что все en regle[56]56
Согласно требованиям закона (франц.), прим. перев.
[Закрыть]. Что этому ублюдку могло быть от меня нужно? Не собирался ли он спросить, сколько у меня денег при себе? В таких захолустных местах обожают досаждать по всяким мелким поводам. «Vive la France»[57]57
Да здравствует Франция! (франц.), прим. перев.
[Закрыть], – бормотал я рассеянно. Тут мне пришла в голову другая мысль. Я влез в купальный халат и принялся обходить этажи один за другим, чтобы быть уверенным, что, когда понадобится, быстро смогу найти туалет. Потом захотелось пить. Я позвонил и спросил, есть ли у них какая-нибудь минеральная вода. Горничная никак не могла взять в толк, чего я хочу. «Вода, вода», – повторял я, оглядываясь в тщетных поисках бутылки, чтобы наглядно показать, что мне нужно. Горничная исчезла и вскоре вернулась с кувшином воды со льдом. Я поблагодарил ее и выключил свет. Во рту горело – так хотелось пить. Я встал и смочил губы, страшась, как бы капля воды случайно не попала в пересохшее горло.
Наутро я вспомнил, что надо было зайти в офис вице-консула за книгой, которую он мне обещал. Я отправился в офис, где долго ждал появления его светлости. Он вышел ко мне, сияя довольной улыбкой. Он уже надписал мне книгу; он желает, чтобы я непременно, как только прочитаю ее, сообщил ему, что я о ней думаю. Успешно отбив его попытку подкинуть мне идею съездить в лепрозорий где-то на острове, я, как можно деликатней, поделился с ним своей рисовой проблемой. Вареный рис? Нет ничего проще. Его жена может готовить его для меня каждый день – с радостью. Как бы то ни было, но я был тронут его готовностью помочь мне. Я попытался представить себе французского чиновника высокого ранга, который был бы столь же обходителен, – но не хватило воображения. Вместо этого вспомнилась француженка, которая выращивала табак по соседству с тем местом, где я жил несколько лет, и как однажды, когда мне не хватило двух су, она выхватила у меня сигарету и паническим голосом завопила, что они просто не могут никому ничего отпускать в кредит, что это их разорит и прочее в том же роде. Вспомнил я и сцену в другом бистро, где я тоже был постоянным посетителем, когда меня отказались ссудить двумя франками на билет в кино. Помню, как я взбесился, когда женщина у кассы отговорилась тем, что она, мол, не хозяйка, а всего лишь кассирша, и как я выгреб из кармана мелочь, только чтобы показать, что не сижу без гроша, и, швырнув монеты на улицу, сказал: «Вот, возьми, плевал я на ваши вшивые франки!» И подавальщик тут же кинулся на улицу подбирать монетки на грязной мостовой.
Немного позже, слоняясь по городу, я зашел в лавчонку возле музея, где торговали сувенирами и открытками. Я не спеша просмотрел открытки; те, что мне понравились, были грязные и помятые. Хозяин, который бегло говорил по-французски, предложил придать им более презентабельный вид. Попросил подождать несколько минут, пока он сбегает домой и почистит и отгладит их. Будут как новые, пообещал он. Я был до того огорошен, что прежде, чем успел что-то сказать, он исчез, оставив лавку на меня. Несколько минут спустя появилась его жена. Я подумал, что она странно выглядит для гречанки. Мы обменялись парой фраз, и я понял, что она француженка, а она, узнав, что я прямиком из Парижа, была ужасно рада поболтать со мной. Так мы болтали ко взаимному удовольствию, пока она не заговорила о Греции. Она ненавидит Крит, призналась хозяйка. Тут слишком сухо, слишком пыльно, слишком жарко, слишком голо. Ей не хватало прекрасных деревьев Нормандии, садов с высокими каменными оградами, цветников и тому подобного. А как я, не скучаю ли по всему этому? «НЕТ», – ответил я решительно. «Monsieur!» – воскликнула она, побагровев от праведного возмущения, словно я ударил ее по лицу.
– Ни по чему такому я не скучаю, – сказал я с нажимом. – Я считаю, что здесь замечательно. Я не люблю ваши сады с их высокими стенами; не люблю ваши миленькие цветнички и ваши ухоженные поля. Мне нравится вот это... – И я показал на улицу, где ослик обреченно тащил по пыльной дороге свою неподъемную поклажу.
– Но это же нецивилизованная страна, – визгливо заверещала она, напомнив мне скаредную табачницу с рю де ла Томб-Иссуар.
– Je m'en fous de la civilisation europeenne![58]58
Не выношу европейскую цивилизацию (франц.), прим. перев.
[Закрыть] – крикнул я, не сдержавшись.
– Monsieur! – снова воскликнула она, шерсть у нее стала дыбом, нос посинел от злости.
По счастью, в этот момент вернулся ее муж с открытками, которым он устроил сухую чистку. Я сердечно поблагодарил его и купил еще пачку открыток, выбрав их наугад. Оглядел лавку, ища, чего бы еще купить, чтобы выразить свою признательность. В своем рвении продать мне какую-нибудь мишуру, женщина тут же забыла про мой выпад. Она взяла шарф ручной вязки и, нежно поглаживая его, протянула мне.
– Благодарю, – сказал я, – не ношу шарфов.
– Можете его подарить кому-нибудь, – предложила она, – красивый сувенир с Крита, которым вы так очарованы. – При этих словах муж насторожил уши.
– Так вам тут нравится? – спросил он, с одобрением глядя на меня.
– Здесь замечательно, – ответил я. – Это самая прекрасная страна, какую я когда-либо видел. С радостью прожил бы тут всю жизнь.
Женщина даже выронила шарф, так ее передернуло.
– Заходите еще, – умоляюще сказал хозяин. – Выпьем вместе, поговорим, хорошо?
Я пожал ему руку и холодно кивнул ей.
Смоковница бесплодная, подумал я про себя. И как только настоящий, полный жизни грек может жить с таким несчастьем? Она небось уже пилит его за то, что он взял на себя труд угодить невеже иностранцу. Я так и слышал ее скрипучий голос: «Les Americains, ils sont tous les memes; ils ne savent pas ce que c'est la vie. Des barbares, quoi!»[59]59
Американцы, все они одинаковы; не знают, что такое жизнь. Дикари, что с них возьмешь! (франц.). Прим. перев.
[Закрыть].
И, шагая по раскаленной, пыльной дороге – мухи жалят нещадно, солнце выжигает прыщики на подбородке, а вокруг раскинулась пьяняще-пустынная земля Ура Халдейского, – я в блаженной радости отвечаю ей: «Oui, tu as raison, salope que tu es. Mais moi je n'aime pas les jardins, les pots de fleurs, la petite vie adoucie. Je n'aime pas la Normandie. J'aime le soleil, la nudite, la lumiere...»[60]60
Что ж, ты права, хоть ты и шлюха. Но я не люблю сады, цветы в горшках, мещанский уют. Не люблю Нормандию. Я люблю солнце, наготу, свет... (франц.). Прим. перев.
[Закрыть].
Облегчив таким образом душу, я выпустил из сердца песню, славя Господа за то, что великая негритянская раса, которая одна удерживает Америку от развала, никогда не знала зла хозяйственности. Из сердца моего льется песня Дюку Эллингтону, этой вкрадчивой, сверхцивилизованной, гуттаперчевой кобре с запястьями в стальных манжетах, – и Каунту Бейси (я послал за тобою вчера ты пришел сейчас), давно утраченному брату Исидора Дюкаса[61]61
Дюкас, Изидор-Люсьен (1846 – 1870) – настоящее имя Лотреамона, поэта, странной и загадочной фигуры французской литературы, который оказал огромное влияние на сюрреалистов. Прим. перев.
[Закрыть] и последнему прямому потомку великого и единственного Рембо.
* * *
Мадам, раз уж вы заговорили о садах, позвольте рассказать вам в первый и последний раз, как работает Жарь-Наяривай. Примите пассакалью, что украсит ваш сегодняшний вечер, когда сядете за вязанье. Как говорит Джо Дадли из Де-Мойна, барабаны создают успокоительное ощущение реальности. Сперва быстрый подскок, матчиш а-ля Гюисманс.
Мадам, вот что это такое... Была когда-то одна страна. И не было в ней ни стен, ни садов. Был только человек-буги-вуги по имени Агамемнон. Прошло время, и он родил двоих сыновей – Эпаминонда и Луиса Сильная Рука[62]62
Эпаминонд – фиванский полководец и политический деятель, основавший вместе с Пелопидом фиванское государство в 379 г. до н.э. и создавший войско по новому образцу. Положил конец гегемонии Спарты в битве при Левктрах (371 г. до н.э.); Луис Сильная Рука, то есть Луис Армстронг. Прим. перев.
[Закрыть]. Эпаминонд был создан для войны и цивилизации и со свойственным ему вероломством показал, на что способен: насадил повсюду туберкулез, который кончился в том месте, где когда-то стоял дворец Клитемнестры, а теперь находится выгребная яма. Луис был создан для мира и радости. «Мир – это прекрасно!» – возглашал он целыми днями.
Агамемнон, видя, сколь мудр один из его сыновей, купил ему золотую трубу и заповедал: «Иди и возвещай повсюду мир и радость!» Он ничего не сказал о стенах, или садах, или о цветниках. Он не сказал, чтобы сын строил соборы. Он сказал: «Иди, мой сын, и играй об этом по всей земле!» И Луис пошел в мир, который к тому времени уже объят был печалью, и он ничего не взял с собой, только свою золотую трубу.
Скоро Луис увидел, что мир поделен на черную и белую части, разделен очень резко и очень непримиримо. Луис хотел сделать его золотым, не как монеты или иконы, но как кукурузные початки, золотым, как золототысячник, таким золотым, чтобы все видели и проникались радостью.
Придя в Монемвазию, которая находится на южной оконечности Пелопоннеса, Луис сел в поезд-кафе до Мемфиса. В поезде было полно белых, которых его брат Эпаминонд довел до полного отчаяния. И Луису очень захотелось сойти с поезда и омочить свои израненные ноги в реке Иордан. Ему захотелось сыграть горестную мелодию, захотелось излить ярость.
Наконец поезд остановился в Таксидо-Джанкшн, недалеко от Мансон-стрит. И очень вовремя, потому что Луис чувствовал: еще немного, и он не выдержит. Но тут он вспомнил, что сказал ему однажды отец, славный Агамемнон: сперва возьми себя в руки, стань спокоен, как бес, а потом играй! Луис поднес золотую трубу к своим толстым ласковым губам и заиграл. Он играл одну великую пронзительную, как визг крысы в капкане[63]63
Луис Армстронг славился искусством брать очень высокую ноту, так что в среде джазовых музыкантов даже существовал термин «армстронг», обозначавший подобную ноту или ряд нот, особенно исполняемых на трубе. Прим. перев.
[Закрыть], мелодию, и слезы подступили к его глазам, и по шее катился пот. Луис чувствовал, что несет покой и радость всему миру. Он снова набрал в грудь воздуху, и зазвучала расплавленная нота, так высоко взлетевшая в небеса, что она застыла там и повисла в синеве звездой, лучащейся, как бриллиант. Луис играл и играл, и труба звучала оглушительным сияющим воплем экстаза. Пот по нему катился рекой. Луис был так счастлив, что из глаз его потекли слезы и образовали два золотых озера радости, одно из которых он назвал Королем Фив в честь Эдипа, самой близкой из всех родственных душ, который жил, чтобы встретиться со Сфинксом.
Однажды наступил день Четвертого июля, и в Уола-Уола это был день Жарь-Наяривай. Луис, ходя со своей трубой по новой земле, приобрел нескольких друзей. Одного звали Граф, другого – Герцог[64]64
То есть Каунт Бейси и Дюк Эллингтон. Прим. перев.
[Закрыть]. На кончиках их пальцев сидели маленькие белые крысы, и, когда им становилось совсем невмоготу в грустной белой забегаловке мира, они кусали кончиками пальцев, и там, где они кусали, там было прямо как в лаборатории с морскими свинками, обезумевшими от экспериментов. Граф был мастер кусать двумя пальцами, он был невысокий и круглый, как ротонда, и с ниточкой усиков на верхней губе. Он всегда начинал, легко тронув клавиши: бинк-бинк. Бинк – яд, бинк – поджог. Он был спокойный и тихий, как застенчивая горилла, и когда увязал в герундиальной трясине, то начинал бормотать по-польски или по-литовски или говорил по-французски, как маркиз. Каждый раз он начинал по-другому. А когда заканчивал, то, не в пример прочим отравителям и поджигателям, всегда смолкал. Он смолкал неожиданно, и рояль вместе с ним, и маленькие белые крысы. Пока не наступал следующий раз...
Герцог же всегда спускался сверху в хламиде на серебристой подкладке. Герцог вырос на небесах, где в детские годы учился игре на перламутровой арфе и других инструментах неземных. Он был всегда обходителен, всегда был сдержан. И когда улыбался, вокруг рта сияли кольца его эманации. Любимый тон его музыки был тон индиго – любимый тон ангелов, когда мир спит глубоким сном.
Были, конечно, еще и другие – шоколадный херувим Джо, Чик[65]65
Чик Уэбб (Уильям Генри Уэбб) – чернокожий ударник, возглавлявший один из ведущих биг-бэндов эры свинга. Прим. перев.
[Закрыть], у которого всегда вырастали крылья, Большой Сид, и Фэтс, и Элла, а иногда Лайонел[66]66
Лайонел – Лайонел Хэмптон по прозвищу ХЭМП Хэмптон и Лайонел Лео – свинговый музыкант, первым использовавший виброфон в джазе. Прим. перев.
[Закрыть], золотой мальчик, сущий маг. И разумеется, всегда был Луис, просто Луис, с этой его улыбкой на миллион долларов, широкой, как сама Аргосская равнина, и гладкими бархатными, лоснящимися, как листья магнолии, крыльями ноздрей.
В день Жарь-Наяривай они собирались все вместе вокруг золотой трубы и устраивали джем-сейшн – миссионерский джем-сейшн. И Чик, который всегда вспыхивал как молния, всегда сверкал зубами и резал правду-матку, Чик летал в джунгли и обратно, легкий, как ветерок. Вы спросите, зачем летал? Чтобы прихватить здоровенного жирного миссионера, сварить его в кипящем масле, вот зачем. Джо, чье дело было внушать успокоительное чувство реальности, Джо возвращался к главной теме, как резиновая задница.
Варить их живьем – вот что хочет Жарь-Наяривай. Это варварство, мадам, но ничего не попишешь. Нет больше ни цветников, ни стен. Король Агамемнон просит: «Верни нам эту землю, сын!» И сын возвращает ее. Он возвращает ее, негромко наигрывая на трубе. Он возвращает золототысячник и желтый сассафрас, он возвращает золотых петухов и спаниелей, рыжих, как тигры. Больше никакой миссионерской культуризации, никакой Пэмми Памондас. Мог быть Ганнибал на Миссисипи, мог быть Карфаген в Иллинойсе. Могла быть низкая луна, могла быть похоронизация. Больше ничего быть не могло, потому что я еще не придумал, как это назвать.
Мадам, я сыграю так, что вас страх придавит и заставит уползать, как змею. Я возьму ноту визжащей жирной крысы и отправлю вас в лучший мир. Слышите, как барабан играет и труба? Слышите этот стон, пробирающий до печенок? Это дыхание Буги-Вуги. Это шипение миссионера на вертеле. Слышите этот вопль, пронзительный и высокий? Это Минни-попрошайка вопит[67]67
Читатель, видевший фильм Фрэнсиса Ф. Копполы «Клуб „Коттон“», может припомнить кадры, где Кэйб Кэллоуэй исполняет на сцене клуба свою знаменитую песенку «Минни-попрошайка». Прим. перев.
[Закрыть]. Она коротенькая и толстенькая, на вершок от земли. Джем-сейшн сегодня, джем-сейшн завтра. Всем становится свободно и легко. Больше никто не подыхает в тоске. Потому что над землею, радостной, как прежде, поет труба. Играй так, чтобы поднялся ветер! Играй так, чтобы пыль в глаза! Чтобы жарило и сушило, чтобы выгорало и сохло! Сметай стены, сметай цветники. Буги-вуги вернулся. Буги-вуги начинает: бинк-бинк. Бинк – яд, бинк – поджог. У него нет ног, у него нет рук. Буги-вуги идет по земле. Буги-вуги вопит. Вопит Буги-вуги. Вопит и вопит, вопит, вопит. Ни стен, ни деревьев, ничего не осталось. Типсст-тапсст и тапсст-типсст. Крысы идут. Три крысы, четыре, десяток. На всех парах паровоз – чух-чух. Крик петуха, вопль крысы. Солнце в небе, жжет дорожная пыль. Деревья дрожат, листья смыкают створки. Ни ползет на карачках, ни катится колесом. Творит простоту, только и всего. Он идет по дороге, у коленей банджо. Барабанит ладонями, пальцами – подушечками и кончиками ногтей. Подушечками – таппаханна, ногтями – раппаханна. Кровь на его пальцах и на волосах. Он вязнет в трясине, и все, кто идет с ним, и колени их тоже ободраны в кровь.
Луис снова на этой земле, на его шее подкова. Он готовится заиграть ноту жирной крысы в капкане, которая уничтожит серость и тоску яростным Торквемадой. Зачем это нужно ему? Затем, что это доставляет ему радость. Все войны и цивилизации никому не принесли ничего хорошего. Повсюду лишь кровь и люди, молящиеся о мире.
В гробнице, где его похоронили живым, лежит отец его Агамемнон. Агамемнон был сияющим богоподобным человеком, даже богом. Он родил двоих сыновей, чьи пути далеко разошлись. Один сеял страдания в мире, другой сеял радость.
Мадам, сейчас я думаю о вас, о том ядовито-сладком смраде прошлого, который от вас исходит. Вы – мадам Ностальгия, гниющая на кладбище вывернутых наизнанку грез. Вы – привидение в черном атласном платье, которое отказывается умирать естественной смертью. Вы – дешевый бумажный цветок слабой и никчемной женственности. Я отвергаю вас, вашу страну, ваши стены, ваши сады, ваш умеренный, отстиранный вручную климат. Я вызываю злых духов джунглей, чтобы они убили вас во сне. Я обращаю к вам золотую трубу, чтобы ее звук не дал вам покоя в миг последней агонии. Вы – белок тухлого яйца. Вы – вонь.
Мадам, перед каждым есть две дороги: одна ведет назад, к уюту и безопасности смерти, другая – в никуда. Вы предпочли бы вернуться к вашим пышным надгробиям и привычным кладбищенским стенам. Так возвращайтесь, погрузитесь в бездонную бездну аннигиляции. Возвращайтесь в ту проклятую апатию, которая позволяет идиотов сажать на престол. Возвращайтесь и извивайтесь в муках вместе с теми, чьим предком был червь. Я иду дальше, дальше, мимо черных и белых кварталов-квадратов. Игра кончена, фигуры растаяли, клетки стерлись, доска сгнила. Все опять, как в варварские времена.
Что делает мир столь прекрасным и варварским? Мысль о смерти. Буги-вуги вернулся, его колени в крови. Одним стремительным прыжком он достиг земли Иосафата[68]68
То есть Израиля. Иосафат царствовал в Иудее в 873 – 849 годах до Р. X. Прим. перев.
[Закрыть]. Его повели на гонки багги. Вылили канистру керосина на его курчавую голову и подожгли. Порой, когда Граф начинает – бинк-бинк, когда он спрашивает себя: какую скорбную мелодию сыграть на сей раз? – слышишь, как шипит и лопается плоть. Когда он был мал летами и ростом, его нещадно колотили толкушкой для картофеля. Когда же он стал большим и высоким, ему вонзали вилы в живот.
Эпаминонд, разумеется, мастерски делал свое дело, цивилизуя всех посредством убийства и вражды. Мир превратился в один огромный организм, умирающий от трупного яда. Он заразился как раз в тот момент, когда все было отлично организовано. Мир сгнил изнутри, превратился в белое и червивое яйцо, протухшее еще в скорлупе. Он породил крыс и вшей, он породил траншейные зубы и траншейную стопу, декларации, и преамбулы, и протоколы, породил кривоногих близнецов и лысых евнухов, христианскую науку, и отравляющие газы, и синтетическое нижнее белье, и стеклянную обувь, и платиновые зубные протезы.
Мадам, как я понимаю, вы желаете сохранить этот Ersatz[69]69
Суррогат (нем.), прим. перев.
[Закрыть], эти уныние, и одинаковость, и статус-кво, слепленные в одну жирную фрикадельку. Вы желаете, когда проголодаетесь, бросить ее на сковородку и поджарить, я прав? Это вас устраивает, хотя сия фрикаделька не настолько питательна, чтобы назвать ее цивилизацией, разве не так? Мадам, вы ужасно, страшно, прискорбно, безусловно ошибаетесь. Вас научили произносить слово, которое не имеет смысла. Не существует вещи, называемой «цивилизация». Есть один огромный варварский мир, и его крысолова зовут Буги-вуги. У него два сына, и один из них попал в мясорубку и умер изуродованный до неузнаваемости, колотя левой рукой, как сумасшедшим хвостом. Второй сын жив и плодовит, как рыба в пору нереста. Он живет в радости, будто варвар, и не имеет ничего, кроме золотой трубы. Однажды он хлебнул в кабаке в Монемвасии и, придя в Мемфис, поднялся и взял на трубе ноту жирной крысы в капкане, так что фрикаделька вылетела со сковороды.
Мадам, я покидаю вас, жарьтесь на собственном сале. Выжаривайтесь, пока от вас не останется только жирное пятно. Я покидаю вас, чтобы душа моя могла петь. Я иду в Фест, последний рай на земле. Это лишь варварская пассакалья, чтобы ваши пальцы шевелились шустрей, когда станете поднимать спущенную петлю. Ежели захотите купить подержанную швейную машинку, обратитесь в компанию «Убийство, Смерть и Распад инкорпорейтед» в Освего, Саскачеван, поскольку я ее единственный, авторизованный, живой представитель по эту сторону океана и постоянной штаб-квартиры у меня нет. Но имейте в виду, что касается условий и обязательств, некогда официально удостоверенных и скрепленных подписью и печатью, с совершенным почтением заявляю, что с сего дня я слагаю их с себя, отказываюсь, отрекаюсь, набухаю и имею по-всякому всякую власть и подписавшиеся стороны, печати и канцелярии ради мира и радости, пыли и зноя, моря и неба, Господа и серафима, я, в меру своих способностей исполнявший обязанности дилера, киллера, губителя, вымогателя и соблазнителя в компании «Убийство, Смерть и Разложение инкорпорейтед», производившей Порочно-Передовые Швейные Машины в своих доминионах: Канаде, Австралии, Ньюфаундленде, Патагонии, Юкатане, Шлезвиг-Гольштейне, Померании и других союзных, порабощенных провинциях, подписавших Договор о Смерти и Уничтожении планеты Земля во времена прежней гегемонии племени хомо сапиенс на протяжении двадцати пяти тысяч лет.
А теперь, мадам, поскольку, согласно условиям этого контракта, он действителен только несколько тысяч лет, я говорю вам: бинк-бинк и – гудбай. И это уж точно конец. Бинк-Бинк!
* * *
Прежде чем рисовая диета успела мне помочь, зарядили дожди, не проливные и затяжные, но мелкие, периодические, морось на полчаса, гроза, теплый душ, холодный душ, электроиглоукалывание. Самолеты не могли приземляться, потому что летное поле слишком размякло. Дороги покрыл слой скользкой желтой грязи, мухи роились над головой осатаневшими, пьяными черными созвездиями и кусались, как бесы. В отеле было холодно, сыро, все покрывалось плесенью; я спал в одежде, набросив пальто поверх одеял и плотно притворив окна. Наконец выглянуло солнце и наступила африканская жара, от которой грязь спеклась пузырчатой коркой, болела голова и росло желание вновь пуститься в дорогу, которое не давало мне покоя с той поры, как начались дожди. Я горел нетерпением отправиться в Фест, но решил подождать, пока погода не переменится. Я опять встретил господина Цуцу, который сказал, что префект справлялся обо мне. «Он хочет увидеть тебя», – сказал Цуцу. Я не осмелился спросить, с какой целью, лишь ответил, что скоро нанесу ему визит.
В промежутках между мелкими дождичками и ливнями я продолжал знакомиться с городом. Меня восхищали окраины. В солнечную погоду было слишком жарко, в дожди – жутко холодно. Со всех сторон город кончался как-то враз, словно выгравированный по черному лаку цинковой пластины. То и дело попадались индюшки, привязанные за лапу к дверной ручке, и во множестве – козы и ослы. Свободно и непринужденно разгуливали необыкновенные кретины и карлики; они были неотъемлемой частью городского пейзажа, как кактусы, как безлюдные парки, как дохлая лошадь в крепостном рву, как домашние индюшки, привязанные к дверным ручкам.
У берега моря, выдаваясь как клык, шел квартал домов, перед которыми было наспех расчищенное место, странным образом напомнивший мне определенные старые кварталы в Париже, где муниципальные власти начали сооружать игровые площадки для детей бедноты. В Париже переход от квартала к кварталу совершаешь незаметно, словно проходишь сквозь невидимые расшитые занавесы. В Греции все меняется резко, почти болезненно. Кое-где в течение пяти минут можно было пройти сквозь все стадии изменений, совершившихся за пятьдесят столетий. Они отражены во фресках, скульптурах, каменных узорах. Даже на пустырях лежит печать вечности. Все является вам в своей неповторимости: этот человек, сидящий у этой дороги под этим деревом, этот ослик, карабкающийся по этой тропе на эту гору, этот корабль в этой гавани на этом бирюзовом море, этот стол на этой террасе под этим облаком. И так далее. На что бы ни упал взгляд, все видишь словно в первый раз; оно не исчезнет, не будет уничтожено за ночь; оно не рассыплется, не растворится, не преобразится коренным образом. Все индивидуальное, сотворено ли оно Богом или создано человеком, образовалось ли случайно или было задумано, выделяется, словно суть, ореолом света, времени и пространства. Куст равен ослику; стена так же основательна, как башня; арбуз ничем не хуже человека. Ничто и никто не живет дольше отведенного срока; ничья железная воля не утвердит своего страшного могущества. После получасовой прогулки чувствуешь себя освеженным и уставшим от разнообразия самобытного и единичного. При сравнении Парк-авеню кажется безумной, и, несомненно, такова она и есть. Старейшая постройка в Ираклионе переживет новейшее здание Америки. Организмы умирают; клетка продолжает жить. Жизнь – в корнях, которые вросли в простоту, неповторимо утверждающую себя.
Я регулярно ходил в дом вице-консула за своей чашкой рисового отвара. Иногда я заставал у него гостей. Однажды вечером к нему зашел глава ассоциации тамошних портных. Он живал в Америке и говорил на витиеватом старомодном английском. «Джентльмены, не угодно ли вам угоститься сигарой?», – говаривал он. Я рассказал ему, что когда-то давным-давно сам был портным. «Но теперь он журналист, – поспешил вставить вице-консул. – Он только что прочел мою книгу». Я заговорил об альпаговых подкладках рукавов, наметке, мягких лацканах, замечательных свойствах ткани из викуньи, клапанах карманов, шелковых жилетах и визитках, отделанных тесьмой. Я тараторил без остановки, лишь бы не дать вице-консулу опять завести о своем. Я не был уверен, в каком качестве присутствует босс местных портных, в качестве ли друга или же приближенного слуги. Мне было все равно, я решил подружиться с ним, только бы избежать разговора о той инфернальной книге, которую притворился, что читал, но от которой меня затошнило после третьей страницы.
– Где располагалось ваше ателье, сэр? – поинтересовался портной.
– На Пятой авеню, – ответил я. – Оно принадлежало отцу.
– Пятая авеню – это очень богатая улица, не так ли? – сказал он, и вице-консул насторожил уши.
– Да, – кивнул я. – У нас были самые лучшие клиенты, одни банкиры, брокеры, адвокаты, миллионеры, стальные и чугунные магнаты, владельцы отелей и прочие в том же роде.
– И вы научились кроить и шить?
– Я умел кроить только брюки, – ответил я. – Кроить пиджак слишком сложно.
– Какую сумму вы требовали за пошив костюма, сэр?
– О, в те времена мы просили всего сто или сто двадцать пять долларов...
Он обратился к вице-консулу и спросил, сколько это будет в драхмах. Когда они подсчитали, вице-консул был явно поражен. В греческих деньгах сумма была ошеломительная – достаточно, чтобы купить небольшое судно. Я чувствовал, что они не знают, верить мне или нет. Я наговорил им еще с три короба – о телефонных справочниках, небоскребах, телеграфном аппарате, автоматически печатающем биржевые новости, бумажных салфетках и прочих мерзких атрибутах большого города, от которых у какого-нибудь деревенщины глаза лезут на лоб, как если бы он увидел, как перед ним расступается Красное море. Особенно портняжку заинтересовал телеграфный аппарат. Он однажды бывал на Уолл-стрит – хотелось посмотреть на биржу, и теперь был не прочь поговорить на эту тему. Он робко спросил, не занимались ли те люди на улице перед биржей собственной маленькой торговлей акциями. И принялся размахивать руками, как глухонемой, изображая жестикуляцию внебиржевых маклеров. Вице-консул смотрел на своего приятеля, словно тот слегка повредился в уме. Я пришел ему на помощь. Конечно же, бодро подтвердил я, такие люди есть, их тысячи, и все отлично владеют тем особым языком глухонемых. Я вскочил и замахал руками, чтобы продемонстрировать, как это делается. Вице-консул заулыбался. Я сказал, что проведу их по зданию биржи, покажу сам главный зал. И подробно описал им этот сумасшедший дом, как бы покупая акции «Медных рудников „Анаконда“», «Листового цинка», «Тел и Тел» и прочих компаний, какие только мог припомнить по шальному уолл-стритскому прошлому, изменчивому, испепеляющему или нечувствительному к потерям. Я бегал по комнате, покупая и продавая как маньяк, останавливаясь у вице-консульского комода и приказывая по телефону своему брокеру играть на понижение, прося своего банкира немедленно предоставить мне ссуду в пятьдесят тысяч, звоня идиотам на телеграфе, чтобы быстрей несли телеграммы, поставщикам зерна – чтобы начинали отгрузку пшеницы на Миссисипи, министру внутренних дел – чтобы справиться, подписал ли он законопроект, касающийся индейцев, шоферу – чтобы положил за заднее откидное сиденье запасную шину, портному – чтобы дать ему выволочку за слишком тугие воротнички у розовой и белой рубашек, «и не забудь вышить инициалы». Мчался через весь зал в буфет биржи, чтобы проглотить сандвич. Здоровался с приятелем, который поднимался в свой кабинет, чтобы застрелиться. Покупал газету с программой скачек и вдевал гвоздику в петлицу. Наводил блеск на туфли и одновременно отвечал на телеграммы и телефонные звонки, держа трубку левой рукой. Рассеянно покупал тысячи акций железнодорожных компаний и тут же менял на акции «Объединенного газа», предчувствуя, что новый популистский законопроект облегчит положение домохозяек. Я почти забывал прочитать прогноз погоды; к счастью, пришлось заскочить в табачную лавку, чтобы сунуть в нагрудный карман горсть гаванских, и это напомнило мне, что надо взглянуть на прогноз и узнать, не идет ли дождь в районе Озарка.
Портной слушал, выпучив глаза. «Все это действительно так», – возбужденно сказал он жене вице-консула, только что принесшей мне очередную чашку недоваренного риса. А потом мне вдруг пришло в голову, что Линдберг возвращается из Европы. Я помчался к лифту и нажал кнопку сто девятого этажа, который был еще не достроен. Я бросился к окну и распахнул его. Улица была забита толпой, охваченной неистовым восторгом: мужчины, женщины, подростки, девушки, конные полицейские, полицейские на мотоциклах, просто полицейские, воры, биржевые быки, полицейские в штатском, демократы, республиканцы, фермеры, адвокаты, акробаты, бандиты, банковские клерки, стенографистки, бездельники – всё, носящее брюки или юбки, всё, способное ликовать, орать, свистеть, топать ногами, попусту пыжиться. Над глубоким каньоном летали голуби. Это был Бродвей. Это было событие года, и наш герой возвращался после своего трансконтинентального перелета. Я стоял у окна и вопил, пока не охрип. Я не верил в аэропланы, но все равно ликовал. Выпил ржаного, чтобы прочистить глотку. Схватил телефонный справочник. Стал рвать его, как безумная гиена. Схватил телеграфную ленту. Порвал на мелкие кусочки – «Медные рудники „Анаконда“», «Листовой цинк», «Американская сталь»: 57?, 34, 138, минус два, плюс 6?, 51, отлет, набор высоты, «Трансатлантическая авиалиния», «Прибрежные авиалинии», подлетает, прилетел, вот он, это Линдберг, ура! ура! ну и парень, орел небес, герой, величайший герой всех времен...
Я набил рот рисом, чтобы успокоиться.
– Какой высоты самый высокий небоскреб? – спросил вице-консул.
Я посмотрел на портного и сказал: – Попробуйте угадать.
У того фантазии хватило только на пятьдесят семь этажей.
– Сто сорок два, не считая шпиля с флагштоком, – сказал я.
Я снова встал, чтобы наглядно показать, что это такое. Лучший способ был посчитать окна. Средних размеров небоскреб имеет приблизительно 92 тысячи 546 окон по фасаду и на задней стороне. Я вытащил ремень из брюк и снова опоясался им, как мойщик окон спасательным поясом. Потом подошел к окну и сел на наружный подоконник. Тщательно вымыл окно. Отстегнулся и перешел к другому. Так я работал четыре или пять часов, чисто вымыв примерно 953 окна.