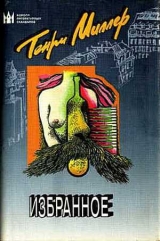
Текст книги "Моя жизнь и моя эпоха"
Автор книги: Генри Валентайн Миллер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Живопись
Важно овладеть основами мастерства, а в старости набраться храбрости и рисовать то, что рисуют дети, не обремененные знаниями.
Мое описание процесса живописи сводится к тому, что ты что-то ищешь. Думаю, любая творческая работа – нечто подобное. В музыке извлекаешь ноту. Она ведет к следующей ноте. Одно определяет другое. Если подходить к этому философски, идея заключается в том, что твоя жизнь – вереница мгновений. В таком случае каждое мгновение определяет последующее. Ты не должен рваться вперед, перемахивая через пять ступенек, поднимайся только на самую ближайшую, и, если можешь этого придерживаться, с тобой всегда все будет в порядке. Люди слишком далеко заглядывают, ищут окольных путей и все такое. Думайте только о ближайшем будущем. Делайте только то, что у вас перед носом. Это так просто, но, по-видимому, лишь немногие способны так жить.
Полагаю, вы не представляете себе, как я начал заниматься живописью. У меня был друг детства, с которым мы продружили всю жизнь, пока он не умер – несколько лет назад. Мы были знакомы с десяти лет. Разница между нами состояла в том, что в десять лет он уже был талантливым художником. Учитель говорил: «Эмиль, иди к доске и нарисуй нам что-нибудь», и он шел и рисовал. К сожалению, в юности мой друг превратил свой талант в источник дохода. Надо было содержать мать, отца, сестру и брата. Он так никогда и не стал великим художником, но остался тонким ценителем искусства. Мы ночи напролет просиживали с ним, разглядывая книги по искусству, изучая репродукции, обсуждая школы, периоды, технику. Это был очень важный период в моей жизни. Я еще ничего не нарисовал. Считал себя в этой области бездарью.
Положение изменилось, когда я увидел альбом акварелей Георга Гроша. На обложке этого альбома («Ессе Ното») – портрет мужчины. Как-то ночью, не знаю, что на меня нашло, я скопировал этот портрет и получилось очень неплохо. «Ей-богу, может быть, я умею рисовать красками», – сказал я. Вот так я и начал.
В дни юности, когда я впервые взялся за кисть, происходило довольно много событий. Я был тогда отчаянно беден. Все, что я мог сделать, чтобы развлечься, это добыть бумагу – любую бумагу, оберточную, для завертывания мяса, удивительным образом подходящую для определенных занятий, – и рисовать.
Но не надо забывать о моем друге Эмиле, столь замечательно подковавшем меня, привившем мне художественный вкус и благоговение перед искусством. Эмиль Шнеллок из Бруклина. Он был талантлив, но не состоялся как художник. Он стал преподавателем в женском художественном колледже. Должен сказать, что учителем он был превосходным.
Впоследствии я работал с несколькими художниками, моими друзьями, – Эйбом Раттнером, Хилаиром Хайлером, Хансом Райхлем. Я сказал им, что хочу лучше узнать технические приемы. После двух-трех занятий они ответили: «Ну хватит, Генри. Не старайся научиться. Лучше обойдись без этого». Сообща они отговаривали меня, но в мягкой форме. Они имели в виду, что не хотят убивать те крохи таланта, которые во мне были. К тому же они поняли, насколько я бездарный ученик. И были правы.
Из живописцев я больше других чтил Ханса Райхля – немецкого художника, эмигрировавшего в Париж. Его картины нравились мне даже больше, чем работы Пауля Клее. Пауль Клее и Джон Марин – два мастера акварели, к которым я хотел бы когда-то приблизиться в своей работе, но мне это не удается. И если говорить о том, кто повлиял на меня, то, несомненно, на первое место я поставил бы их и Райхля. Но еще до них, задолго до того, как я о них услышал, это были японские мастера. Они и сегодня остаются моими любимыми художниками и кумирами. Я имею в виду таких живописцев, как Утамаро, Харосиге и Хокусаи. Мне никогда не надоедает смотреть на их картины.
Мне говорят: «В этой работе вы изменили свою манеру». На это я отвечаю, что они не понимают, о чем говорят. Как вы помните, к этому времени я нарисовал 3000 акварелей; я прекрасно помню все свои работы и просто не понимаю, что люди хотят сказать подобными высказываниями. Безусловно, стиль моего письма меняется. Я и сам меняюсь изо дня в день, но это не те радикальные перемены, как, например, у Пикассо, поскольку у меня отсутствует его дарование.
Порой мне бывает жалко Пикассо, хотя я и знаю, что он один из великих, поистине великих людей в таком обществе, как наше. Но я жалею его за то, что он – раб или жертва своих творений, своего рода невольник своей музы. Говорят, он чувствует себя несчастным, если не работает. Он, так сказать, не может наслаждаться жизнью, не работая. Но я должен отметить одно обстоятельство. Мне кажется, все его высказывания – кладезь мудрости, они звучат образно и остроумно. Его можно спросить о чем угодно, даже о том, в чем он ничего не смыслит, и получишь удивительный ответ. Его ум постоянно работает, и это не тот ум, что повторяет без конца: «Я знаю, я это изучал, я к этому готовился». Нет, это ум острый, неожиданный, спонтанный. Понимаете, я думаю, в мире очень немного настоящих мыслителей, ведь по сути все мы – лунатики; мы не думаем, мы просто реагируем. Говорим то, что слышали, повторяем то, что заимствовали у других. У нас нет собственного мнения. А суждения Пикассо оригинальны, и даже если они сумасшедшие, абсурдные, перевернутые вверх дном, по-моему, они исполнены величайшего смысла.
А сейчас мне вспоминается другой факт, касающийся моей любви к китайской мудрости. Ведь для китайца все эти размышления и муки творчества – просто забава. Он не придает им первостепенного значения. Возможно, это и самая захватывающая игра, но всего лишь развлечение. Живопись – для меня развлечение. Я знаю одно: я хочу рисовать; на самом деле больше ни о чем я не думаю. Мне нравится ощущать в своей руке кисть. Но что это такое, отчего я занимаюсь живописью, что происходит, я никогда не узнаю.
Иногда я смотрю на открытку или рекламу и завожусь: «Как хотелось бы нарисовать нечто подобное», – говорю я себе. Цветные открытки на самом деле вызывают у меня интерес. Ставлю открытку перед собой и говорю себе, что собираюсь ее скопировать. Это может быть пейзаж: гавань с лодками и здания; конечно же, нарисованный моей рукой, он оказывается совершенно другим, поскольку я неспособен даже толком скопировать.
Было время, когда те или иные страны ассоциировались у меня с определенными оттенками красок. Так Китай я помню – желтый, прежелтый. Китайская желтизна – это нечто такое, что всегда меня очень интересовало. Раньше дни и ночи напролет я просиживал с Эмилем Шнеллоком, моим первым другом и художником. Мы часто говорили об оттенках красок. Однажды я спросил его: «Как у тебя получается золотистый отлив?» Да, я задавал подобные наивные вопросы. Это продолжалось всю ночь, разговор о золотистом оттенке, как его добиться, кто в этом преуспел и т. д. В течение недели или более того я сходил с ума по желтому цвету, все представлял себе в желтых тонах и рисовал желтыми красками.
Кстати, я часто использую губку. Временами добиваешься желаемого эффекта в работе над акварелью. А еще очень люблю – ив этом, наверное, я преуспел больше всего, – когда у меня ничего не получается. Обычно это лист очень плотной бумаги, который мне жалко выбрасывать. Так что я опускаю акварель в ванночку и изо всех сил тру ее щеткой. Не имеет значения, насколько я смыл краски: следы все равно остаются. Затем переворачиваю обесцвеченный лист другой стороной и рисую на нем что-то прямо противоположное. Тусклый фон неудавшейся картины определяет новую работу.
Такого рода технические приемы можно рассмотреть с философской точки зрения, чего люди, как мне кажется, никогда себе не представляют. В наших руках некая великая сила: способность превращать одно в другое. Когда что-то не получается, ты вынужден устранять неполадки. Мне кажется, это благо ниспослано нам Богом, и это величайшее обстоятельство касается всей вселенной: оно заключается в том, что она поддается изменению. Возможны какие угодно превращения. Человек наделен частицей этой силы: взяться за неудавшееся и проигранное дело и превратить его в нечто новое и удивительное.
Часто случается, что я рисую две человеческие фигуры. Порой трудно определить, кто из них мужчина, а кто – женщина. Много раз, закончив рисовать одну фигуру, я спрашиваю себя, мужчина это или женщина? Это не имеет значения. Нарисую то, что, по моему мнению, является головой мужчины, а потом пририсую этой фигуре грудь, поскольку меня не интересует, кому она принадлежит. Порой грудь – это именно то, что интересно само по себе.
Я всегда в поиске. Чем больше я смотрю на работы Георга Гроша, тем больше восхищаюсь и удивляюсь тому, как искусно он совмещает цвет и рисунок. Он может взять большие пятна – оранжевые, черные, серые, любых оттенков, и сочетать их с затейливо переплетающимися линиями. Полагаю, это настоящее искусство, истинное мастерство. Он был великим художником. Его ранние работы пронизаны жестокостью, и они так и были задуманы – как осуждение немецкого государства; народу, всей нации вынесен смертный приговор. Не думаю, что даже Гойя обошелся с испанцами так, как Грош – с немцами. Он оставил на них неизгладимый отпечаток. В его картинах они осуждены навечно. И, тем не менее, эти картины доставляют эстетическое наслаждение, несмотря на страшную и жестокую сюжетную линию.
В моих картинах нет иронии, но я действительно использую множество символов. Знаю, что повторяю их. Некоторые символы появляются неоднократно. Один из них – звезда Давида, и если бы вы спросили, почему, я бы не смог вам ответить. Также часто возникают луна, полумесяц или серп луны. Думаю, это чисто декоративное явление. Но у меня нет никаких побуждений использовать символы. На самом деле, я все делаю бессознательно. Это интересный и странный факт, вот почему так трудно говорить или писать о моих занятиях живописью. Когда я сажусь рисовать, то почти никогда не знаю, что собираюсь изобразить. Иногда у меня есть какие-то наметки; может быть, я хотел бы нарисовать пейзаж, но в процессе работы пейзаж может превратиться во что-то совершенно противоположное.
Я все больше и больше убеждаюсь, что самое правильное, не для всех, а для меня, отнюдь не прирожденного художника, а бесталанного дилетанта, – следовать своей интуиции: пусть кисть в моей руке решает все за меня.
То же самое и с сочинительством. Я стараюсь не думать. Пытаюсь обнажить все то, что рвется изнутри.
Существуют разные виды живописи, и, безусловно, различные школы. Их представители придерживаются определенных идей. Одни следуют этому направлению, другие тому, я – никакому. Меня заносит. Каждая картина – новое приключение.
Астрологические знаки – очень мощные символы и они для меня важны, но я слишком ленив, чтобы сопоставлять их или копировать. Так что я бездумно рисую нечто, напоминающее астрологический знак. Иногда они получаются совершенно удивительно. Безусловно, все символы пробуждают интерес. По моему мнению, единственно точным и стабильным выражением мысли является язык символов. Диапазон нашей разговорной речи крайне ограничен. Язык символов неизменен, неизгладим.
Я часто рисую рыб, потому что мне легко их рисовать. Я не стараюсь изобразить то, что у меня не получается. Художник увидит рыбу на одном из моих рисунков и скажет: «Знаете, она здесь совсем ни к месту». Ну и что? Могу поклясться: я никогда не задумывался над тем, почему хотел нарисовать рыбу. Это получается непроизвольно. С таким же успехом я мог нарисовать и что-то другое. Подобные вещи меня не волнуют. Что действительно меня беспокоит, так это утверждение о том, что я рисую как Марк Шагал. Я горячий поклонник его таланта, но у меня никогда и в мыслях не было ему подражать. Не требуется подробного критического разбора, чтобы увидеть разницу между Шагалом и мною.
Я также прихожу в восторг от работ Утрилло и Сера. Я хотел бы найти время и силы для монументальных подробных полотен в духе Сера. У меня много горячо любимых картин, включая творения старых мастеров. А работы таких великих художников, как, например, Леонардо да Винчи, ничего для меня не значат
Иногда мне нравится раскрашивать лист бумаги заранее. Я могу просто наложить несколько тонких слоев на голубой или желтый. Часто прежде, чем начать что-либо рисовать, подбираю красивый фон. Если бумага еще влажная, тем лучше. Мне нравилось то, что происходило, когда краски расплывались, когда они мягко растекались.
Могу сказать вам еще кое-что, о чем вы и не подозреваете. Многое зависит от того, сколько у меня времени. Часто я начинал рисовать свои акварели приблизительно за час до обеда, как раз, когда начинало темнеть. Иногда мне не хочется включать электрический свет. Я смотрю на часы. В моем распоряжении 15–20 минут или полчаса. Это решает, как я буду рисовать.
Обычно я тороплюсь и работаю смелее. За десять или двадцать минут я ухитрялся нарисовать несколько весьма неплохих акварелей. Это на самом деле удивительно, поскольку, думаю, это нередко бывали мои лучшие работы. Всегда, и это действительно так, лучшие акварели у меня получаются тогда, когда я устаю и мне кажется, что я выдохся, не могу приступить к новой работе. Тогда я говорю себе: «Ну, попробую нарисовать еще одну!» И она получается удачной. Когда в вашем распоряжении уйма времени, надлежащий лист бумаги и вы все организовали соответствующим образом, вы не можете рисовать.
Чаще всего мой метод использования красок – случайность. Существует определенная гармония сочетаемых мною цветов, но на самом деле я не обдумываю это заранее. Я не всегда знаю, что получится при наложении одной краски на другую. Но по счастливой или несчастливой случайности, мне довелось жить с несколькими художниками, действительно понимавшими толк в оттенках красок. Они помешались на этом вопросе. Но я никогда не мог всецело стать их преемником.
Художниками, хорошо владеющими цветом, являются дети. Когда они рисуют, то пренебрегают правилами, их движения спонтанны. Они выражают то, что чувствуют. В известном смысле, это противоречит всем критериям. Но это срабатывает, имеет успех. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что у детей это получается. Важно овладеть основами мастерства, а в старости набраться храбрости и рисовать то, что рисуют дети, не обремененные знаниями.
Наложить зеленый на зеленый, голубой на голубой, это всегда приносит блестящий эффект. Если вы ходили в художественную школу, вам обо всем этом рассказывали. Вы знаете заранее, что можно и чего нельзя делать. Потом вам приходится забыть все то, чему вас учили. Намного интереснее самому совершать открытия, чем обучаться этому в школе. Вот почему я вообще против учебы в школе.
Я пытался не посылать своих детей в школу, когда мы жили в Биг Суре, но этому воспротивились местные власти. По-моему, школьное образование действует разрушительно. Оно убивает любознательность и желание учиться. Школа выхолащивает творческое начало. Как только дети выходят из детского сада, начинается промывание мозгов. Думаю, если доходишь до всего своим умом, становишься внутренне богаче. Зачем терять время на учебу? Большинство людей, мечтающих стать художниками, бездарны, так или иначе они останутся у придорожной полосы. Так зачем пускаться в тяжелый путь? Учеба в школе создает иллюзию того, что благодаря знаниям из тебя выйдет художник. Все равно что знать, как правильно писать по-английски. Это имеет весьма отдаленное отношение к мастерству писателя.
Кто я такой? Я, что, взял на себя обязанности критика? Нет, особенно если это касается собственной работы. Когда я смотрю на нее, не знаю, с чем ее соотнести. Для меня самое главное заключается в удовольствии просто взять в руки кисть и посмотреть, что произойдет. Другое дело, «что произойдет». Скорее я пускаю все на самотек, чем планирую, воспроизвожу и довожу до конца. Если необходимо вынести приговор моей работе, отрицательный ли, положительный ли, то это должен быть взгляд стороннего наблюдателя, а не исполнителя. Функции исполнителя заканчиваются в тот момент, когда работу оцениваешь.
Естественно, к некоторым картинам я привязан больше, чем к остальным. Кое-какие свои работы, к сожалению, я раздарил. А какие-то мне хотелось бы сохранить просто ради удовольствия смотреть на них. Кто-то может сказать, что некоторые мои картины понятнее, чем другие. Сторонние наблюдатели хотят во всем найти смысл. Хотят оправдать свои ожидания. Они не в состоянии принять картину такой, как она есть, пытаются дать ей название, как-то ее обозначить, проанализировать.
Говорят, во многих картинах лица людей в той или иной степени напоминают мое собственное. Это правда, поскольку я не знаю, как изобразить человеческое лицо в разных ракурсах. Вероятно, иногда мне хотелось бы придать лицу то или иное выражение, но я не знаю, как это сделать.
Помню, на одной из своих картин пытался изобразить город, плывущий по небу, но, не думаю, что мне это удалось. Это те мысли, что приходят на ум. Часто все упирается в вопрос техники. Как, скажите, передать ощущение чего-то плывущего или, к примеру, жидкого? Похоже, многое из того, что рисовал, я никогда не смогу повторить. Если бы мог, то постарался бы передать на бумаге гораздо больше. Помните, какие замечательные слова произнес Хокусаи, когда ему исполнилось 65 лет? Я привел их в начале одной из своих книг. Он сказал, что в 65 только начал осваивать свой метод, а он рисовал с юных лет. В 65 ему удалось его нащупать. В 75 – он мог бы чуть продвинуться вперед, а в сто лет, по его мнению, постиг бы большую часть. В сто лет, не забывайте. И он на самом деле прожил почти до ста.
Говорят, я отношусь к своим работам более критично, чем большинство художников. Иногда у меня хватает наглости критично отнестись к картинам старых мастеров. Хотите, честно скажу, что я думаю? Девяносто процентов того, что называют картинами старых мастеров, может быть выброшено на помойку. То же самое о книгах. У меня такое же отношение и к ним. Очень малая часть культурного наследия, созданного человеком за промежуток времени, названный цивилизацией, которой всего навсего – несколько тысяч лет, вообще представляется мне имеющей какую бы то ни было ценность.
Большинство людей, знающих, что я не художник, а писатель, думают: как здорово я, должно быть, развлекаюсь, рисуя, поскольку мне явно безразлично, что я рисую. Я не так хорошо разбираюсь в живописи, чтобы воспроизвести мысль, идею, выражающую мой бунт против общества.
Я вообще не знаю, почему использую определенные символы. Может быть, чтобы заполнить пространство. Меня все время спрашивают: «Это так или сяк? Я вижу то или это? Я отвечаю: „Это то, что видите вы, а не я“». Существует громадное различие между зрительным процессом и мысленным восприятием. Люди лишь видят глазами, они не проникают душой, а истинный взгляд принадлежит душе. Мы бы ничего не увидели, если бы не приходила в движение душа.
Временами, глядя на мои работы, люди говорят: «Как это получается, что мы не видим никакой порнографии, никаких непристойностей в ваших картинах? Почему это так?» Не знаю, почему. Это никогда не приходит мне в голову, когда я рисую. Мысль – отнюдь не отправной пункт в моей живописи. Я выражаю свои мысли, когда пишу книги. А живопись – это спонтанность, повторяющаяся изо дня в день. Какими бы ни были проявления, на бумаге они обнаруживают себя.
И пока дело обстоит так, ничто другое меня не волнует.
Кстати, совершенно так же я отношусь и к науке. Я в нее не верю. Мне кажется, что девяносто процентов научных изысканий – фикция, хотя остальные десять – открытия. Но ведь это мистика! Это срабатывает с равной силой как в жизни, так и в работе. Думаю, что одним из печальных жизненных фактов является то, что каждый планирует наперед, старается обезопасить себя, пытается поймать за хвост удачу вместо того, чтобы положиться на потусторонние силы. Мы бросаемся из крайности в крайность вместо того, чтобы «они» вступили в действие, какими бы мистическими эти «они» не были. Предоставьте «им» возможность решать все за вас, поскольку, я думаю, что «они» знают больше, чем вы или я. Вопрос надо ставить не: «А это правда? Этого достаточно?», а: «Это сработает?» То же самое и в занятиях живописью. Я также убедился, что это срабатывает и когда я пишу, поскольку, часто отступая от правил, я заметил, что так написал лучшие страницы своих книг.
Я не считаю, что наука и магия – сходные явления. Это разноименные полюса. Магия существует с древних времен. Наука появилась недавно. Недавно – может, две тысячи лет назад или десять тысяч лет назад. Годы не имеют большого значения. Прошу прощения за профессорский тон. Я ничего об этом не знаю. Но это моя инстинктивная реакция. Я враг – ученому, а он, думаю, наш противник априори.
В заключение должен рассказать вам кое-что о себе, что многое объясняет. Ни у одного человека в голове не царит такой хаос, как у меня. Люди думают, что я человек организованный. В доме порядок и на письменном столе – порядок. Но в мыслях – неистовый хаос. Не думаю, что мог бы рисовать и писать, не будь мои мысли столь хаотичны. Совсем недавно ученые откопали древнюю рукопись добиблейских времен. Ее надо соотносить с первыми словами Книги Бытия о сотворении мира. В этом манускрипте говорилось, что Бог упорядочит хаос. Это полностью отличается от сотворения мира. Что совершил Бог, так это навел порядок. Другими словами, Он не творил мир.
Художник – всего-навсего человек, обыгрывающий нечто, существующее до него. С моей точки зрения, это – исчерпывающее определение. Артюр Рембо сказал: «Ни один человек никогда ничего не создал». Человек – не творец. Ему дано лишь воображение и способность обыграть те или иные явления, не более того. Насколько человек в этом преуспевает, зависит от его таланта.








