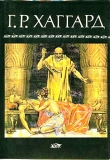Текст книги "Том 06: "Луна Израиля", "Клеопатра", "Жемчужина Востока""
Автор книги: Генри Райдер Хаггард
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Нет, – ответил я, – все мои фокусы стары, но мне известны такие формы магии, к которым прибегают очень редко и с большой осторожностью. Тебе, о царица, они, возможно, еще не знакомы. Ты не боишься чар?
– Я ничего не боюсь. Можешь показывать мне самое страшное. Хармиона, подойди, сядь рядом со мной. Но постой, а где остальные девушки? Ирас и Мерира? Они ведь тоже любят магию.
– Не спеши их звать, – остановил я ее. – Колдовство плохо действует, когда собирается много людей. Смотрите же! – И, не спуская с нее глаз, я бросил свой жезл на мраморный пол и прошептал заклинание. Какое-то мгновение жезл лежал неподвижно, потом, когда прозвучали магические слова, начал медленно извиваться. Затем согнулся, поднялся на один конец и стал раскачиваться из стороны в сторону. Затем он вдруг покрылся чешуей и превратился в змею, которая принялась ползать и яростно шипеть.
– И это ты называешь колдовством? – презрительно воскликнула Клеопатра, хлопнув в ладоши. – Да это старый, как мир, фокус, который может показать любой фокусник на базаре. Я такое видела уже много раз.
– Подожди, не торопись, о царица, ты видела еще не все, – возразил я, и как только я произнес эти слова, змея распалась на части, и из каждой части появилась новая длинная змея. Новые змеи тоже распались на части и породили новых змей, и так продолжалось до тех пор, пока вскоре весь пол не покрылся толстым слоем змей, которые шипели, ползали и свивались в клубки. Потом по моему знаку змеи собрались вокруг меня и начали медленно заползать мне на ноги, потом выше и выше, пока я весь не покрылся многослойным панцирем шипящих змей так, что осталось открытым только лицо.
– Какая гадость, это ужасно! – воскликнула Хармиона и уткнулась лицом в колени царицы.
– Довольно, колдун, довольно! – промолвила царица. – Твоя магия поразила нас.
Я взмахнул обвитыми змеями руками, и в тот же миг все они исчезли. Под ногами у меня одиноко лежал черный жезл с наконечником из слоновой кости.
Женщины переглянулись и удивленно покачали головами. Я поднял жезл и, скрестив на груди руки, встал перед ними.
– Царица довольна моим жалким искусством? – скромно спросил я.
– О да, египтянин! Никогда раньше я подобного не видела! С этого дня ты становишься придворным астрономом с правом бывать в покоях царицы. У тебя в запасе есть еще подобные фокусы?
– Конечно, о царица Египта. Велите немного затемнить покои, и я покажу вам еще одно диво.
– Я даже немного боюсь, – сказала Клеопатра, – и все же, Хармиона, выполни то, что просит Гармахис.
Занавеси были опущены, и в покоях стало темно, как будто наступили сумерки. Я подошел к Клеопатре и встал рядом с ней.
– Посмотри сюда, – строго приказал я, указывая жезлом на то место, где до этого стоял. – И ты увидишь то, что у тебя в мыслях.
Какое-то время обе женщины молча и со страхом всматривались в пустое место.
Потом перед ними появилось облачко. Очень медленно оно сгустилось и приобрело некое подобие мужской фигуры. В полутьме очертания фигуры трудно было рассмотреть, и она то делалась четче, то таяла.
А потом я громко крикнул:
– Дух, заклинаю тебя, явись!
И как только я это произнес, нечто воплотилось в человека, которого было очень ясно видно, и имел он облик державного Цезаря. Тога его была наброшена на лицо, а тунику заливала кровь из сотен ран. Он простоял какой-то миг, потом я взмахнул рукой, и он исчез.
Я повернулся к двум женщинам, сидящим на ложе, и увидел, что прекрасное лицо Клеопатры искажено ужасом. Алые губы ее посерели, глаза были широко раскрыты, и она вся дрожала.
– Кто ты, человек, если можешь вызывать мертвых в мир живых? – вскричала она.
– Я придворный астроном, колдун или слуга царицы – как будет угодно, – ответил я, рассмеявшись. – Значит, царица увидела того, кто был у нее в мыслях?
Не ответив, она встала и вышла из опочивальни через другую дверь.
Потом встала Хармиона и отняла от лица руки, которыми в страхе закрылась.
– Как ты это сделал, мой царственный Гармахис? – спросила она. – Скажи, потому что я боюсь тебя.
– Не бойся, – ответил я. – Возможно, ты видела лишь то, что было в моем воображении. Все вещи в нашем мире не более чем тень. Так как же ты можешь уразуметь их сущность или понять, что существует в действительности, а что только кажется? Скажи лучше, как все прошло? Не забывай, Хармиона, это дело должно быть доведено до конца.
– Прошло все очень хорошо, – ответила она. – Но к завтрашнему утру об этом будет знать уже весь дворец, и тебя начнут бояться так, как не боялись еще никого в Александрии. Прошу, следуй за мной.
Глава IVО привычках Хармионы и о признании Гармахиса Богом любви
Назавтра я получил письменное уведомление о том, что назначен астрологом и главным магом царицы, с указанием суммы жалованья и привилегий, полагающихся мне в этой должности, и надо сказать, весьма значительных. Во дворце мне были выделены комнаты, из которых ночью я мог подниматься на высокую сторожевую башню и оттуда наблюдать за звездами, чтобы читать их пророчества и сообщать о них. Как раз тогда Клеопатра была чрезвычайно озабочена политическими делами, и, не зная, чем закончится жестокая борьба между рвущимися к власти могущественными римскими группировками, но очень желая сблизиться с сильнейшей, она постоянно советовалась со мной и спрашивала, о чем говорят звезды. Я же читал их так, как было выгодно мне, помня о своих высоких целях, руководствуясь интересами дела, которому себя посвятил. Антоний, римский триумвир, пребывал тогда в Малой Азии и, по слухам, был очень зол на Клеопатру, потому что ему донесли, что она якобы враждебно относится к триумвирату и что ее военачальник Серапион даже сражался на стороне Кассия. Но Клеопатра не уставала повторять мне и другим, что Серапион действовал против ее воли. Однако Хармиона поведала мне о том, что, как и в случае с Аллиеном, виноват во всем был злосчастный Диоскорид, ибо, руководствуясь именно его предсказанием, Клеопатра тайно послала Серапиона с войском на помощь Кассию. Впрочем, это не спасло Серапиона, поскольку, чтобы доказать свою невиновность, она приказала найти своего полководца Серапиона, скрывавшегося в святилище, и казнить. Горе тем, кто исполняет волю тиранов, если чаши весов склоняются не в их сторону! Серапион был убит.
Тем временем у нас все складывалось как нельзя лучше, потому что головы Клеопатры и ее окружения были настолько заняты делами заграничными, что ни она, ни кто-либо даже не задумывался о том, что Египет может восстать. День ото дня в каждом египетском городе наших сторонников становилось все больше и больше, даже в Александрии, которая более походит на заграничный город, чем на египетский, настолько все здесь было чуждо и враждебно нам. Ежедневно все новые сомневающиеся переходили на нашу сторону и клялись верно служить нашему делу священной клятвой, которую нельзя нарушить. Мы чувствовали, что наши замыслы – на крепком основании. Каждый день я уходил из дворца и советовался с дядей Сепа, встречаясь в его доме с сановниками и верховными жрецами, преданными Кемету и жаждавшими его освобождения.
Я часто виделся с царицей Клеопатрой и с каждым разом все больше удивлялся широте и ясности ее редкого ума, который своим богатством и блеском напоминал ткань, сплетенную из золотых нитей, расшитую драгоценными камнями и переливающуюся на свету. Она немного побаивалась меня, поэтому старалась поддерживать со мной дружбу и спрашивала меня о таких вещах, которые никак не были связаны ни с астрологией, ни с предсказаниями. Часто я видел и госпожу Хармиону, даже более того, я постоянно видел ее где-нибудь недалеко от себя, хотя и не слышал, как она приходила или уходила. Ее легкие шаги были почти беззвучны, и я замечал ее, только когда она уже была совсем рядом и поглядывала на меня сквозь свои длинные опущенные ресницы. Для нее не было заданий слишком сложных: что бы я ей ни поручал, она все выполняла с охотой и быстро, день и ночь она трудилась для меня и во благо нашего дела.
Но когда я благодарил ее за преданность и говорил, что в свое время ей это воздастся, она топала ногой, надувала губы, как недовольное дитя, и отвечала, что, хоть я и постиг множество наук и великий ученый, но не знаю самого простого: служение во имя любви не требует благодарности и само является наградой. И я, глупец, не имея никакого опыта в науке любви и не замечая и не понимая женщин, полагал, что она говорила о своей любви к Кемету и что служение нашей общей цели для нее высшая награда. Но когда я начинал хвалить ее возвышенный дух и выражать свое восхищение ее верностью отчизне, она сердилась, начинала плакать и убегала, оставляя меня в величайшем недоумении. Ибо тогда мне ничего не было известно о том, как терзалась ее душа. Не догадывался я и о том, что, сам того не желая, пробудил в ней страстную любовь и что страсть эта мучила, терзала, жгла ее сердце, и оно кровоточило, словно в него вонзили тысячи стрел. Я не знал… Но откуда мне было это знать, если я смотрел на нее не иначе как на помощницу, как на полезный инструмент для достижения нашей общей священной цели? Ее красота не трогала меня, даже тогда, когда она склонялась ко мне и ее дыхание касалось моих волос, я думал о ней не как о женщине, а смотрел так, как человек смотрит на красивую статую. Какое дело до подобных душевных услад мне, поклявшемуся в верности Исиде и отдавшему себя своей отчизне – Египту! О боги, призываю вас в свидетели, я невиновен в том, что стало причиной моих бед и несчастья для земли Кемет!
Какая странная вещь – женская любовь, такая незаметная, хрупкая в начале, когда только зародилась, и такая всеохватывающая, грозная под конец! Когда она рождается, это ручеек, тоненькой струйкой выбивающийся из самого сердца скалы. А что потом? Потом это могучая река, по которой плывут караваны богатых кораблей, которая орошает огромные земли, наполняя их радостью и счастьем. А бывает, что она превращается в неуправляемый бушующий поток, который, разливаясь, смывает все, что было посеяно с такой надеждой, выходит из берегов разума, смывает эту надежду, превращает в руины дворцы чистоты и храмы веры. Ибо, когда Незримый создавал законы мироздания, он вложил в них как одну из составных частей зерно женской любви, и теперь от его непредсказуемого развития зависит мировое равновесие. Она превозносит ничтожных до необозримых высот власти и высокородных низвергает в прах. И потому, пока существует женщина, это таинственное создание природы, это истинное чудо света, Добро и Зло всегда будут идти рядом. Неподвижно стоит она и, ослепленная любовью, плетет нить нашей судьбы, льет чистую воду и сладкое вино в чашу горечи и отравляет благотворное дыхание жизни ядом своих желаний. Куда бы ты ни шел, она всегда будет перед тобой. Ее слабость – твоя сила, ее власть – твоя погибель. От нее ты берешь начало и к ней приходишь. Она – твоя рабыня, хотя все же держит тебя в плену. Ради нее ты забываешь о чести, ради нее открываются замки и рушатся преграды. Она неисчерпаема, как океан, она переменчива, как небо, и имя ее – Непредсказуемость. Мужчина, не пытайся ускользнуть от женщины, не пытайся отделаться от женской любви, ибо, куда бы ты ни сбежал, она все равно останется твоей судьбой, и все, что ты делаешь, ты делаешь ради нее!
Так и вышло, что мне, Гармахису, который никогда не задумывался об этих материях, чьи помыслы всегда были бесконечно далеки от женщин и их любви, суждено было пасть оттого, что я презирал и на что даже не обращал внимания. Дело в том, что Хармиона… Она полюбила меня. За что – не знаю. Эта любовь была порождением ее сердца, и о том, к чему привела эта любовь, будет рассказано позже. Я же, ничего не подозревая, относился к ней как к сестре и шел с ней рука об руку к нашей заветной цели, ни о чем не задумываясь.
Время шло, и наконец настал тот день, когда со всеми нашими приготовлениями было покончено.
Вечером накануне той ночи, когда должен был быть нанесен удар, во дворце проходило шумное празднество. В тот день я встретился с дядей Сепа и командирами отряда в пятьсот воинов, которые должны были завтра в полночь, после того как я убью Клеопатру, ворваться во дворец и перебить римских и галльских легионеров. Незадолго до этого я подкупил начальника стражи Павла, который, после того как я провел его через ворота, стал абсолютно послушным. Частью угрозами, частью посулами щедрой награды я убедил его завтра ночью по моему сигналу отпереть небольшие ворота на восточной стороне, а дежурить тогда должен был именно он.
Итак, все было готово. Цветок свободы, который рос двадцать пять лет, должен был вот-вот распуститься. Вооруженные отряды были собраны в каждом городе Египта, от Абу до Ату, их дозорные уже ждали гонца с известием о том, что Клеопатра умерла и трон занял Гармахис, потомок древних фараонов Египта.
Все приготовления были закончены, власть сама просилась в руки, и я уже чувствовал успех, как собиратель фруктов чувствует в руке сочный плод. И все же, сидя на царском пиру, я ощущал тяжесть на сердце, и тень недоброго предчувствия, как и мысли о приближающемся несчастье, преследовали меня холодной тенью. Я сидел на почетном месте, рядом с сиятельной царицей Клеопатрой, и смотрел на ряды гостей, сверкающих драгоценностями и украшенных цветами, отмечая тех, кого я обрек на смерть. Клеопатра возлежала передо мной во всей своей царственной красоте, от которой у того, кто ее лицезрит, захватывает дух, как от порыва ночного ветра или от вида бушующего моря. Наблюдая, как она подносит к устам чашу с вином и надевает на голову венок, сплетенный из роз, я думал в это время о спрятанном у меня в одежде кинжале, который я поклялся вонзить ей в грудь. Снова и снова я всматривался в нее и пытался почувствовать ненависть к ней, пытался ощутить радость от мысли о ее смерти… И не мог. Я не находил в себе ни ненависти, ни торжества. За ней, как всегда не сводя с меня бездонных глаз из-под своих длинных пушистых ресниц, сидела прекрасная госпожа Хармиона. Кто, глядя на ее невинное лицо, мог бы подумать, что это она замыслила западню, в которой любящая ее царица должна была погибнуть презренной смертью? Кто мог поверить, что в ее девичьей груди таился столь кровавый замысел? Я пристально смотрел на Хармиону, наблюдал за пиром, и сердце мое наполнялось скорбью оттого, что мой трон должен быть омыт кровью, и оттого, что из египетской земли зло приходится изгонять злом. В ту минуту мне хотелось стать каким-нибудь простым землепашцем, который старательно сеет пшеницу и собирает урожай золотого зерна, когда наступает пора. Увы! Посеянное мной зерно должно было родить смерть, и теперь мне предстояло собрать кровавый урожай.
– Что ты не весел, Гармахис? Чем ты озабочен? – спросила Клеопатра, улыбаясь своей мягкой улыбкой. – Неужели золотые звездные нити сплелись в клубок и узор нарушился, мой астроном? Или ты задумался, каким еще чародейством нас изумить? Почему ты не веселишься вместе с нами? Может быть, тебе не по душе наши угощения? Если бы я не узнала, расспросив кого следует, что такие жалкие и ничтожные создания, как мы, бедные женщины, не заслуживают даже твоего взгляда, не смеют посягать на твое внимание, я бы решила, что стрела Эрота поразила твое сердце, Гармахис!
– Это не так, о царица, Эрот мне не угрожает, – ответил я. – Тот, кто посвятил себя сияющим звездам, не замечает блеска женских глаз, гораздо менее ярких, и потому счастлив!
Клеопатра немного подалась вперед и посмотрела на меня таким долгим и спокойным взглядом, что у меня невольно затрепетало сердце, хотя я призвал на помощь всю свою волю.
– Не похваляйся, высокомерный египтянин, – произнесла она тихим голосом так, что услышать ее могли только я и Хармиона, – не гордись, чародей, если не хочешь, чтобы я испробовала на тебе свои чары. Ни одна женщина не простит, когда мужчина смотрит на нее свысока. Это презрение оскорбляет весь наш пол и противно самой природе. – Она снова откинулась назад и рассмеялась своим чудесным мелодичным смехом. Посмотрев на Хармиону, я увидел, что она сердито хмурится, прикусив губу.
– Прошу меня простить, о царица Египта, – ответил я холодно, но со всей учтивостью, на которую был способен. – Перед царицей небес бледнеют даже звезды!
Я имел в виду луну, символ Священной Матери, с которой посмела соперничать Клеопатра, называя себя спустившейся на землю Исидой.
– Красиво сказано, – ответила она и захлопала своими точеными белыми руками. – Вот так астроном! И умен, и находчив, и изъясняться красиво умеет! Хармиона, сними с меня этот венок из роз и водрузи его на ученую голову нашего мудрого Гармахиса. Мы присваиваем ему титул Бога любви, хочет он того или нет.
Хармиона сняла с чела Клеопатры венок, подошла ко мне и надела его, все еще теплый и пахнущий волосами царицы, мне на голову, да так грубо, что даже немного оцарапала шипами мне лоб. Она специально это сделала, потому что была разгневана, хотя на лице у нее сияла легкая улыбка, и она незаметно шепнула мне: «Это знамение, мой царственный Гармахис». Ибо, хоть Хармиона и была настоящей женщиной, когда ее охватывал гнев или ревность, она вела себя как ребенок.
Нахлобучив мне на голову венок, она низко склонилась надо мной и с едва заметной насмешкой в голосе по-гречески назвала меня «Богом любви». Клеопатра рассмеялась и провозгласила тост: «За Бога любви!» Гости поддержали ее, найдя эту шутку довольно веселой – в Александрии не любят аскетов, не ищущих общества женщин.
Я улыбнулся в ответ, но сердце мое почернело от гнева. Одна мысль о том, что надо мной, наследником царей Египта, потешаются развращенные придворные и легкомысленные красавицы двора Клеопатры, приводила меня в ярость. Но больше всего я был зол на Хармиону, потому что она хохотала громче всех, я же в то время не знал того, что истерзанное, раненое сердце за хохотом и насмешкой часто скрывает от мира свою боль. Тот венец из цветов Хармиона назвала знамением, и она оказалась права. Ибо мне суждено было променять двойную корону Верхнего и Нижнего Египта на венок из роз страсти, которые увяли, не успев распуститься, и царский трон из слоновой кости – на ложе вероломной женщины.
– Да здравствует Бог любви! – кричали они, смеясь и поднимая кубки. Бог позора! Я, с венком благоухающих роз на голове, я, по праву наследования фараон Египта, посаженный на царство, думал в ту минуту о вечных храмах Абидоса и о другом короновании, которое должно было произойти завтра.
Продолжая улыбаться, я поднял кубок и ответил какой-то шуткой. Потом я встал, поклонился Клеопатре и попросил у нее разрешения удалиться.
– Венера восходит, – сказал я, имея в виду планету, которую мы зовем Донау утром и Бону вечером. – Поэтому, как коронованный Бог любви, я теперь должен поклониться моей повелительнице, – эти варвары называют Венеру богиней любви.
И под их смех я вышел из зала и поднялся на сторожевую башню, к себе в обсерваторию. Там я швырнул позорный венок на свои астрономические приборы и стал делать вид, будто наблюдаю за движением звезд. Многое передумал я, ожидая Хармиону, которая должна была прийти с окончательным списком тех, кого нужно убить, и с последними указаниями от дяди Сепа, с которым она должна была встретиться в тот день.
Наконец дверь медленно открылась, и она вошла, в белом одеянии и драгоценных украшениях, как была на пиру.
Глава VО том, как Клеопатра пришла к Гармахису, как он сбросил с башни платок Хармионы, о звездах и о том, как Клеопатра одарила дружбой Гармахиса
– Наконец ты пришла, Хармиона, – сказал я. – Почему так поздно? Я уже заждался.
– Прости, о господин мой! Я никак не могла отойти от Клеопатры. У нее сегодня странное настроение. Не знаю, что это нам сулит. Ее охватывают самые неожиданные капризы и желания, она переменчива, как летнее море, которое то темнеет от туч, то снова светлеет. Не знаю, что она задумала.
– Какое нам дело до нее? Хватит говорить о Клеопатре. Ты встретилась с нашим дядей?
– Да, царственный Гармахис, я видела его.
– И принесла окончательные списки?
– Да, вот они, – она достала папирусы из складок одежды на груди. – Это список тех, кто должен быть сразу же убит после Клеопатры. Среди них и старый галл Бренн. Мне жаль его, мы с ним дружим, но он должен умереть. Здесь много имен тех, кто обречен.
– Да, это так, – произнес я, изучая список. – Когда люди перечисляют врагов, они никого не забывают, вспоминают всех до одного, а у нас врагов предостаточно. Что должно случиться – то случится. Следующий список.
– Это список тех, кто склоняется на нашу сторону или еще не определился, но не против нас. Их нужно пощадить. А это список городов, которые непременно восстанут, как только получат весть о смерти Клеопатры.
– Хорошо. А теперь… – я запнулся. – О смерти Клеопатры. Как она должна погибнуть? Что ты задумала? Я должен буду сам это сделать?
– Да, мой повелитель, – ответила она, и я снова услышал в ее голосе злые нотки. – Я уверена, что фараон будет счастлив собственными руками освободить землю от этой лжецарицы и распутницы и одним ударом разбить цепи, стягивающие шею Египта.
– Не говори так, женщина, – сказал я. – Ты хорошо знаешь, ведь мне не в радость то, что меня вынуждают делать крайняя необходимость и моя клятва, которую я принес. Разве нельзя ее отравить? Или подкупить кого-нибудь из евнухов, чтобы он убил ее? Мне ненавистна сама мысль об этом кровопролитии. И вообще, какими бы страшными ни были ее преступления, меня безмерно удивляет, что ты предательски готова убить и хладнокровно говоришь о смерти той, кто так любит тебя!
– Что-то наш фараон уж слишком расчувствовался, видно, он позабыл о важности минуты и о том, что судьба страны и жизнь тысяч людей зависят от удара кинжала, который обрубит нить жизни Клеопатры. Слушай меня, Гармахис. Ты должен это сделать, ты один и никто другой! Я бы сама это сделала, если бы рука моя была сильна, но увы. Отравить ее нельзя, потому что все, что она ест и пьет, каждую каплю, которая прикасается к ее губам, тщательно проверяют и пробуют три разных доверенных человека, и все они неподкупны. Нельзя доверять это и евнухам, охраняющим ее. Двое из них верны нам, но к третьему нет доступа, он свято предан Клеопатре. Его нужно будет убить позже. Да и не все ли равно? Когда столько человек должны умереть, когда кровь польется рекой, евнухом больше, евнухом меньше, какая разница? Так что придется тебе действовать самому. Завтра, за три часа до полуночи, ты пойдешь читать звезды и сделаешь последнее предсказание о ходе войны. Потом я возьму перстень царицы, и мы с тобой, как было договорено, пойдем в ее покои. Судно, которое должно доставить приказы легионам, отплывает из Александрии завтра на рассвете. Ты уединишься с Клеопатрой, чтобы передать ей послание звезд. Ты прочтешь ей звездный гороскоп. Она желает держать в тайне свои приказы, поэтому вы останетесь одни. Когда она склонится над папирусами, ты нанесешь ей кинжалом смертельный удар в спину, – да не ослабеет твоя воля, да не подведет тебя твоя рука! Когда дело будет сделано, а это будет несложно, ты возьмешь перстень и пойдешь к евнуху, ибо двоих других там не будет. Если вдруг с ним что-то пойдет не так или он что-то заподозрит (а с ним ничего не может пойти не так, потому что он не осмеливается заходить в царские палаты и не услышит, как она будет умирать), ты должен будешь убить его. В следующем зале я встречу тебя, и мы вместе пойдем к Павлу, а это уже моя забота – сделать так, чтобы он не был пьян и не передумал нам помогать в последнюю минуту – я знаю, как этого добиться. Когда он со своими людьми откроет ворота, Сепа и пятьсот избранных воинов, которые ждут сигнала, ворвутся во дворец и зарубят спящих легионеров. Все это очень легко и просто, поэтому будь верен себе и не уподобляйся женщине, не позволяй недостойным страхам вползать в твое сердце. Что для тебя удар кинжалом? Это же так легко! Но от этого удара зависит судьба Египта и всего мира!
– Тихо! – сказал я. – Что это?.. Я слышу какой-то звук.
Хармиона подбежала к двери и, заглянув в длинный темный коридор, прислушалась. Через миг она вернулась и приложила палец к губам.
– Это царица, – торопливо зашептала она. – Царица поднимается по лестнице одна. Я слышала, как она приказала Ирас оставить ее. Нельзя, чтобы она увидела нас здесь вместе в это время. Она удивится и может что-то заподозрить. Что ей здесь надо? Где мне спрятаться?
Я посмотрел по сторонам. В дальнем конце комнаты висел тяжелый занавес, скрывавший нишу в стене, в которой я хранил свои свитки папирусов и приборы.
– Скорее! Сюда! – промолвил я, и она скользнула за занавес, который качнулся и замер, скрыв ее. Потом я сунул список обреченных за пазуху и склонился над астрологической таблицей. Наконец послышалось шуршание женской одежды и раздался негромкий стук в дверь.
– Кто бы ты ни был, войди, – сказал я.
Поднялась щеколда, и в комнату вошла Клеопатра в парадном одеянии. Лицо ее обрамляли распущенные темные волосы, а на лбу сверкала священная змея – символ царской власти.
– Никогда не думала, Гармахис, – сказала она, устало усаживаясь на скамью, – что путь к небу так тяжел! Ах, как я устала. Там столько ступеней! Но я пришла, чтобы посмотреть, как ты трудишься и где ты прячешься, мой астроном.
– Для меня это великая честь, о царица! – ответил я, низко поклонившись.
– В самом деле? А я на твоем темном лице вижу скорее недовольство, чем радость… Ты слишком молод и красив, чтобы уединяться со звездами, Гармахис. Но что я вижу? Мой венок из роз валяется среди твоих ржавых приборов! Насколько я знаю, цари хранили бы этот венок вместе со своими драгоценнейшими коронами, дорожа им даже больше, чем диадемами, Гармахис, а ты швырнул его, точно какую-то безделицу! Какой же ты странный человек! Постой, а это что? Клянусь Исидой, это женский шарф! Как это попало сюда, объясни же, мой Гармахис? Или наши женские шарфы нужны для твоего высокого искусства и служат твоей науке? Ах, Гармахис, Гармахис, выходит, ты обманывал меня и я поймала тебя? Ты, оказывается, хитрец!
– Нет же, царственная Клеопатра, тысячу раз нет! – взволнованно воскликнул я, ибо шарф, соскользнувший с шеи Хармионы, действительно выглядел подозрительно. – Я и вправду не знаю, как эта вещица попала сюда. Возможно, одна из женщин, которые здесь убирают, случайно оставила его.
– Вот оно что! – холодно произнесла она и засмеялась звонко, как струящийся ручей. – Конечно, как я сама не догадалась? Ведь у всех рабынь, которые убирают комнаты, есть такие безделицы из лучшего шелка с разноцветной вышивкой, которые стоят в два раза больше, чем его вес в золоте. Я бы и сама не постыдилась надеть такой шарф. Вообще-то он даже кажется мне знакомым, я его на ком-то видела. – Она набросила шелковую ткань себе на плечи и расправила концы своими белыми руками. – Постой, тебе наверняка кажется, что я совершила святотатство, накинув шарф твоей возлюбленной на свои недостойные плечи. Возьми, Гармахис. Забери его и спрячь у себя на груди. Поближе к сердцу!
Я взял проклятый шарф и, пробормотав про себя слова, которые лучше не передавать, ступил на открытую площадку, казалось, поднимающуюся прямо в небо, с которой наблюдал за звездами, скомкал шарф и бросил вниз. Ветер подхватил его и унес в небеса.
Увидев это, царица снова рассмеялась.
– Подумай, Гармахис, – воскликнула она, – что скажет женщина, когда узнает, что знак ее любви был так легкомысленно, непочтительно выброшен. Может быть, Гармахис, ты и с моим венком так поступишь? Смотри, розы уже увяли. Выбрось. – Она наклонилась, взяла венок и протянула его мне.
Я был до того раздосадован, что хотел бросить венок вслед за шарфом, но все же одумался.
– Нет, – сказал я спокойнее. – Это подарок царицы, и я сохраню его. – В этот миг я заметил, как занавес колыхнулся. Сколько раз потом я жалел, что произнес тогда эти пустые слова, оказавшиеся роковыми.
– Благодарю тебя, Бог любви, за столь милостивый поступок! – промолвила она и странно посмотрела на меня. – Но довольно шутить. Выйди на площадку, скажи, что предвещают мне звезды сегодня. Я всегда любила звезды, такие чистые, холодные, такие сверкающие, такие далекие… Бесконечно далекие от нашего суетного мира. Мне всегда хотелось жить среди них, хотелось, чтобы ночь убаюкивала меня на своей черной груди, чтобы я могла, забывая о себе, вечно всматриваться в лик бесконечности, озаренной сиянием звезд. Кто знает, Гармахис, быть может, эти звезды сотворены из той же материи, что и мы, и, соединенные с нами невидимыми нитями мироздания, в самом деле управляют нашей судьбой, когда катятся по небу, совершая предначертанный им путь, увлекая нас за собой. Знаешь греческий миф о человеке, который захотел стать звездой? Может, это случилось на самом деле? Быть может, эти крошечные огоньки – действительно человеческие души, только ставшие чище и светлее, которые из царства вечного покоя озаряют кипение мелких страстей и суетливую землю? Или это светильники, подвешенные к небесному своду, к которым каждую ночь какое-нибудь темнокрылое божество прикасается своим извечно горящим огнем, и они ярко и благородно вспыхивают ответным пламенем, а в мире наступает ночь? Поделись со мной своей мудростью и открой мне смысл этих чудес, мой слуга, ибо мои познания невелики. Но у меня большое сердце, и я наполнила бы его знаниями, многое поняла бы, если бы нашла учителя.
Радуясь, что разговор повернул в более безопасное русло, и удивляясь тому, что Клеопатре свойственны такие глубокие, возвышенные мысли, я начал рассказывать ей то, что было дозволено. Я поведал ей о том, что небо – это жидкая масса, обволакивающая землю и покоящаяся на мягких упругих воздушных столпах, и о том, что за ними простирается небесный океан Нут, по которому планеты, точно корабли, плавают по своим орбитам, совершая круговорот. Я многое рассказал ей. Рассказал я ей и о том, почему, повинуясь вечным законам движения светил, планета Венера, которую мы называем Донау, когда появляется на небе как утренняя звезда, становится прекрасной и лучистой звездой Бону, когда загорается на вечернем небе. И пока я стоял на балконе и говорил, она сидела, сложив руки на коленях, и не спускала глаз с моего лица.
– Так, значит, – наконец заговорила она, – Венеру можно видеть и на утреннем, и на вечернем небе. Что ж, это правда, она повсюду, хотя больше всего предпочитает ночь. Но тебе наверняка не нравится, когда я использую для звезд латинские названия. Давай разговаривать на древнем языке Кемета, я его хорошо знаю. Заметь, я первая из всех Лагидов, кто выучил его. – И она продолжила говорить на моем родном языке. Едва заметный иностранный акцент делал ее речь только мелодичнее. – Хватит о звездах, ибо они переменчивы и коварны и, возможно, даже сейчас, в эту минуту, замышляют недоброе против тебя или против меня, а быть может, и против нас обоих. Хотя мне нравится, как ты говоришь о них, потому что при этом с твоего лица слетает мрачное облако угрюмой задумчивости, оно становится чище и выглядит живее и человечнее. Гармахис, ты чересчур молод, чтобы заниматься такой серьезной наукой. Думаю, тебе следует найти более веселое занятие. Юность бывает лишь раз, зачем же ее тратить на тяжкие раздумья? Время размышлять настанет тогда, когда мы уже не сможем действовать. Скажи, сколько тебе лет, Гармахис?