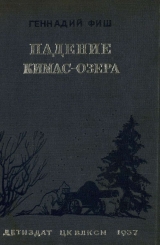
Текст книги "Падение Кимас-озера"
Автор книги: Геннадий Фиш
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Утром надо быть готовым к отходу. Выяснилось, что из двухсот человек, отобранных в школе, только около ста тридцати могут итти дальше. Остальные стерли ноги, заболели или «просто не могли двигаться с такой быстротой».
Я вспомнил при этих словах о Тойво и невольно улыбнулся.
В том поручении, которое мы должны были выполнить, было очень много, так сказать, спортивного интереса. Мы изучали историю военного дела, и я уверен, что такого предприятия не пытались проделать ни войска Александра Македонского, ни Наполеон, ни Ганнибал, ни Суворов, ни Жоффр, ни Гинденбург, ни товарищ Буденный.
А когда я получаю возможность вплотную встретиться с врагом, который сжал в кулак мою родную Суоми, с врагом, который хочет уничтожить мою советскую власть и то, что проделано у озер Суоми, проделать у озер Карелии, и когда и от меня зависит выбить ему зубы, то, извините меня, я весь загораюсь и дрожу от нетерпения.
Да, на ноги надо лучше навертывать портянки, потому что теперь ясно: только одни мои ноги могут донести меня до лахтарей.
Я разложил карту на лавке и стал измерять расстояния. По линии полета птицы надо было забраться в тыл противника километров на триста.
Никаких дорог не предвидится; напротив, досадные горизонтали указывали на крутизну; карта говорила о труднопроходимых лесах и болотах.
Болота, если они замерзающие, это – полбеды. Но такие подробности на десятиверстку не нанесены.
Эта карта и по сегодняшний день хранится у меня на дне дорожного сундука. Правда, здорово измятая, с красной линией прочерченного карандашом пути.
Мне было ясно, что Тойво с нами не пойдет, а останется здесь в отряде «шатунов», как, смеясь, окрестил отстающих товарищ Хейконен. Поэтому, когда он проснулся на секунду и, поворачиваясь с боку на бок, спросил меня, что нового, я ему пробормотал:
– Спи, ничего особенного не произошло.
Надо было скорее засыпать.
Выступление назначено на утро.
Курс на деревню Пененга.
Я прочертил путь в эту деревню по карте, признаюсь, в тот же вечер, совсем даже не подозревая, как мы его пройдем.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Мы переходим Массельгское щельё

Мы вышли строем. С утра было очень холодно. Итти надо было без дорог, через нетронутую целину, через лес, карельский, сосновый.
Мы шли быстро, переводя на ходу дыхание. Груз давал себя чувствовать.
Ремни немного затрудняли дыхание...
Мы шли быстро, уверенно и знали, что жизни наши и жизни тысяч людей, а может быть, и исход всей зимней кампании находятся сейчас в наших руках, точнее – в наших ногах.
Я не напрасно выбрал себе хапавези; товарищам, выбравшим телемарк и муртома [8]8
Хапавези, телемарк, муртома – разные типы лыж. – Прим. Tiger'а.
[Закрыть], итти было гораздо труднее.
Мы все тащили на себе: и патроны и припасы.
Если бы пища вышла до срока, пожалуй, можно было бы настрелять дичи.
Вспугнутые птицы подымались при шорохе наших лыж. Изредка, удивленная дыханием, вырывавшимся из сотни грудей, выскакивала на склонявшуюся от тяжелого снега ветку белка и снова пряталась. Но еще перед самым отправлением Антикайнен запретил нам стрелять без приказа.
Ни одного лишнего выстрела, ни одного громкого разговора. Никто не должен нас видеть, никто не должен нас слышать, мы должны быть внезапны, как разрыв сердца. Поэтому... поэтому иди вперед и выполняй свой долг перед революцией и не думай о разной дичи.
И мы шли так час, прошли километров десять и снова растянулись.
Лейно ушел вперед прокладывать лыжный след по лесу, и тут, на десятиминутном привале, я вдруг увидел Тойво. Он шел со своим отрядом и, на первый взгляд, устал не больше других. Встретив мой удивленный взор, он улыбнулся и процедил сквозь зубы:
– Хейконен мне разрешил итти с отрядом. А ходить на лыжах я уже почти научился.
И мы снова пошли вперед.
Мы шли, теряя самих себя в движении, быстро отталкиваясь руками, широко передвигая ногами, поддавая вперед подъемную лыжу, всей ступней ощущая горячую и даже уже мокрую – не разобрать, от талого снега или жаркого пота – портянку, роняя обрывками пара свое дыхание, целиком отдаваясь этому опьяняющему ритму бешеного движения, мелькания палок, сосен, шипения поддающегося лыжам снега.
И мы находили себя в этом движении. Каждая мышца, напрягаясь, утверждала твое существование, каждый свежий глоток соснового воздуха, проходя через все тело, звенел в каждой артерии, каждый мелькающий обомшелый ствол, каждая жаркая капля пота говорили ликуя:
«Ты живешь, ты идешь, ты двигаешься».
* * *
Так же мы будем итти по снегам Суоми, когда она сбросит с себя ярмо, в которое ее вогнали свиноголовые лахтари. Лапуасцы! Она опять будет принадлежать нам, рабочим Суоми. Так же быстро пойдем мы по ее снегам, каждой частицей кожи, каждым дыханием будем вдыхать прозрачный воздух, в каждом шаге ступней ощупывать почву родины своей.
Кто из нас не испытал горькой боли расставания с тобой, потери тебя! Тому, кто не сжимал в отчаянии винтовку, расстрелявшую все патроны, кто не видал, как куст за кустом, канава за канавой, каждое дерево отходит от нас фабрикантам; тому, кто не испытал отчаянного ощущения беспомощности, тому, кто не перешел границы с последним отрядом красногвардейцев, отступая от в тысячу раз сильнейшего врага (дальше стрелять нельзя, дальше русская граница, и русские товарищи, скованные договором, не могут помочь); тому, кто не испытал этой последней секунды на последнем клочке своей земли, – тому трудно понять всю тяжесть потери совсем было завоеванной уже родины. Но мы вернемся, мы еще вернемся к тебе, Суоми, советская Суоми! Окрыленные всем опытом гражданской войны, мы не повторим ни одной ошибки. О, мы помним горе утраты и митинг перешедших границу эмигрантов в городе Ленина, в Мариинском театре, и скорбную речь Ялмара Виртанена, и полузаброшенное, пустое здание казарм на Марсовом поле, отведенное для эмигрантов, и сдерживаемые рыдания наших сестер.
Мы вернемся, Суоми! Мы еще покажем себя лахтарям, которые сегодня напали на Карелию и хотят ее прикарманить, хотят уничтожить нашу советскую власть.
* * *
Отряд остановился.
Впереди чернели у озерка черные рыбачьи избушки. Около одной с поднятыми вверх руками стояли три человека не совсем обычного вида.
Антикайнен вошел в избу; лахтарей, предварительно обыскав и обезоружив, ввели вслед за ним.
Лейно подошел ко мне.
– Я их захватил. Шел впереди, прокладывая лыжницу, и вдруг вижу – вьется над хижинами дымок, синеватый такой, как от сырых ветвей. Надо разузнать. Подхожу. Распахиваю дверь. «Руки вверх!» – и все они, голубчики, как в клетке.
Хейконен вышел из избушки.
– Товарищи! На два часа привал.
Мы развели костры.
Линия на карте, дважды проверенная спичкой по масштабу, говорила, что мы уже прошли сегодня двадцать пять километров.
В котелках (у нас один на четверых был) снег растопился, и вода начинала пузыриться.
Я огляделся. Тойво не было.
«Опять отстал», – подумал я и даже немного встревожился.
Мы уже были далеко в неприятельском тылу, и отставание ничем хорошим не пахло.
– Дурак! – выругал я вслух своего друга.
Из избы вышли Антикайнен, Суси, Хейконен и Карьялайнен. Суси подошел к нашему костру и сказал:
– Эти трое имели задание проникнуть в наш тыл; они имеют явки в Петрозаводске, в Медвежьей горе. Они должны были взрывать наши железнодорожные мосты, водокачки и вообще вредить. Но они принесут нам вместо вреда пользу.
– Если они сразу признались, значит, соврали, – сказал Лейно.
– Ну, для того, чтобы развязать им языки, – быстро ответил Суси, – пришлось мне полностью опустошить, – и он шлепнул ладонью по фляжке, в которой полагалось быть спирту.
– Я ведь сам непьющий, как Антикайнен, а вот они совсем наоборот – даже повздорили между собой из-за того, кому больше глотков досталось, – продолжал Суси, уже немного встревоженно.
– Они сказали, что в Пененге, вот, – Суси ткнул пальцем в мою карту, – видишь, отсюда по прямой километров двадцать пять – есть застава с финскими офицерами. Они нам будут проводниками. Их документы утверждают, что их четверо, а налицо трое. Как бы не прозевать одного! Если он проскользнул незамеченный к нам в тыл, он там, пожалуй, может натворить немало бед. Если он увидел нас и убежал к своим – еще того не лучше: они приготовятся и встретят нас.
Лейно встал.
– Товарищ командир, разрешите мне произвести разведку; я по лыжному следу, может быть, раскопаю его.
Кипяток был готов, и котелок пошел вкруговую.
В эту минуту я увидел знакомую фигуру Тойво.
Палки у него находились в одной руке, в другой он держал наган. Он шел очень медленно и неуклюже, без палок.
Перед ним шел совсем без палок, воткнув руки в карманы, человек в одежде, очень похожей на одеянье трех захваченных диверсантов. Именно его и держал под дулом своего нагана Тойво.

Мы повскакали с мест и быстро пошли навстречу.
– Субчика подцепил, – спокойно проговорил Тойво таким равнодушным тоном, как будто изо дня в день в течение многих лет ему приходилось на лыжах подцеплять «субчиков».
– И я в походе не последний человек, – сказал он мне и при этом неожиданно подмигнул, как не раз подмигивал мне в мастерской за спиной мастера после крупного разговора с ним. Мол, знай наших!
Пойманного обыскали. Хейконен тут же его допросил.
– Все в порядке. Все четверо говорят одинаково.
– Как? И другие попались? – изумился пойманный.
– Ну, ты еще меня в плен не взял, чтобы допрашивать, – усмехнулся командир.
Этот человек ждал в лесу, притаившись за деревом, пока пройдет весь отряд, и потом по проложенному следу-лыжнице пошел, продолжая свой путь, и тут-то наскочил на отставшего Тойво.
Тойво издали увидел его. Ведь тот шел без балахона. Взял на мушку, приказал бросить оружие, отнял палки, обрезал пуговицы на брюках, чтобы беляк не мог бежать. Вот почему руки его были заложены в карманы.
Тойво показал мне пуговицу. На ней ясно было отштамповано:
«Гельсинки».
Двухчасовой наш привал окончился очень скоро, и мы вышли снова в поход.
– Вперед!
Хейконен перед отходом отдал мне такое распоряжение:
– Иди вперед отделением на Пененгу, произведи разведку и, если там действительно есть два-три лахтаря, захвати их. До Пененги километров двадцать пять, но путь нелегкий. Ты туда дойдешь на рассвете.
– Слушаю, товарищ командир.
И я повел свое отделение. Замыкал его Тойво.
Скалистые холмы начались уже за час до привала.
Все время шел неизменный уклон, и огромные скалы упрямо выставляли свои каменистые ребра из снега. Уклон все время делался круче, и брать его с каждой минутой становилось все трудней и трудней.
Это было Массельгское щельё [9]9
Массельгское щельё– по-карельски ма – земля, сельга – гора, поросшая черным лесом; водораздельный кряж, идущий по южному берегу озера Сегозеро и разделяющий воды Беломорского бассейна и системы Балтийского моря.
[Закрыть]. По картам подъем вычисляется в 35-50°, но на лыжах, которые все время тянули назад, при грузе за спиной в двадцать кило, при двух гранатах у пояса, эти 35° превращались в 80°. Но тогда на картах не были нанесены не только градусы, но даже и сами высоты.
Подъем становился действительно все круче и круче.
Мое отделение вскарабкалось уже довольно высоко, далеко позади виднелась уже лента нашего отряда, когда вдруг у одного из ребят лыжи вырвались из-под ног и побежали резво вниз, по уже проложенной лыжнице. Ему весь путь приходилось начинать снова.
Моя лыжина ударилась о камень.
«Сломается еще, чего доброго!» – подумалось мне.
Я взглянул вниз – там карабкались неуклюже товарищи; я взглянул вверх – из-за вершины холмов выползала огромная луна.
– Снять лыжи! – приказал я.
И все стали снимать. Но как только мы сняли лыжи, мы провалились по пояс в снег.
По пояс в снегу передвигаться нелегко, тем более на подъеме, да еще когда за спиной груз и на плечах лыжи и палки.
Ребята стали ругаться.
– Скоро ли окончится этот чортов подъем? – выругался Лейно.
Он тащил, кроме всего прочего, еще и пулемет; он был сухощав и напорист, но, сойдя с лыж, потерял, кажется, обычную для себя уверенность.
Пожалуй, один только Тойво был доволен тем, что мы сошли с лыж.
Он оказался в равных условиях даже с самыми лучшими бегунами. Он был крепыш и во французской борьбе в товарищеском кругу почти всегда выходил победителем.
Снег забивался в валенки и таял, как дыхание.
Дыхание возносилось легчайшим паром к черному зимнему небу. На небе звезды расположились обычным порядком, не замечая наших усилий.
Мы протолкались сквозь густой, местами липкий, как глина, местами рыхлый, как зубной порошок, снег.
Мы цеплялись руками за выступы камней, скал, царапая руки в кровь, обламывая ногти, с лыжами на плечах и растопляющим все морозы желанием во что бы то ни стало выполнить поручение, доверенное нам революцией.
Мы карабкались вверх, срываясь, разрывая балахоны, тяжело дыша.
Я остановился, чтобы отдохнуть хотя бы секунду, и услышал отдаленный волчий вой, услышал, как нетронутую тишину зимней ночи разрывало тяжелое дыхание – сопение сотни молодых ребят; ни звука, лишь прерывистое дыхание, лишь редкая ругань – сдержаться трудно – да дальний волчий вой, да снег впереди, где за каждым нечаянным камнем, может быть, поджидает свинец или топор лахтаря.
Пальцы на руках коченели, подъем становился все круче.
Кто-то из ушедших вперед ребят сорвался: он бросил свои палки, и его потянуло вниз – с винтовкой, котелком, мешком за плечами.
Он проскользнул между нами, не успев ухватиться за протянутую лыжу, и, изо всех сил стараясь остановиться, неудержимо шел вниз.
Подъем становился все круче.
Парни выдыхались.
Лейно, шедший впереди, встал на колени. Мы все один за другим стали на колени и поползли вперед, цепляясь за каждый выступ.
Рядом со мной полз уже Суси, начальник нашего штаба.
Суси – по-фински волк, но ничего волчьего не было в его круглом белом лице, на котором проступили капли тяжелого пота.
Позади Суси, тоже на коленях, карабкался комрот Хейконен.
– Мы им припомним этот переход, – бормотал он, – мы их заставим проползти на коленях все кряжи Суоми...
– Сколько еще осталось так ползти? – спросил меня Тойво. – Если долго, так мы все можем здесь остаться навсегда. Если остановка на отдых, – замерзнут ребята.
– Тише, Тойво, ни один не должен остаться здесь, – сказал я, уже почти задыхаясь.
Левая ладонь у меня была рассечена в кровь.
Мы ползли на коленях дальше.
Подъему, казалось, не было конца-края. И вот Лейно сел на камень, положил поперек колен пулемет и молча заплакал. Я видел, как прозрачные слезы выкатывались из его светлых глаз и замерзали на щеках. Он плакал молча. Я никогда никому не поверил бы, что Лейно может плакать, пока не увидел этого своими глазами.
Лейно плакал, и свет луны сиял на его пулемете.
Бессильные лыжи лежали у ног его, и две палки, как свечи, стояли по сторонам.
Он обратился ко мне:
– Неужели мне придется здесь кончить свой жизненный путь, Матти?
– Отдохни, Лейно, мы еще потанцуем на свадьбах в Гельсингфорсе, Выборге и Або.
Он печально помотал головой и уныло, почти нараспев, повторил свой раздиравший душу вопрос Тойво:
– Неужели мне придется здесь покончить свой жизненный путь, Тойво?
Тойво снял с его колен пулемет и, передав патроны Лейно мне, крикнул:
– Лейно, эй, ты, лыжник! Идем, что ли!
И мы все опять ползли на коленях вперед. Товарищ Хейконен, комрот 1, взял у Лейно лыжи.
– Нам этого подъема не взять, – безнадежно пробормотал Яскелайнен, – мы уже выдохлись; нас к утру перестреляют, как куропаток.
– Брось, Яскелайнен! Партии нужно, чтобы этот подъем мы взяли, и мы его возьмем.
Вперед, несмотря ни на что! Мы проползли уже почти два километра, еще для одного не было уже силы, но подъем здесь, к счастью, кончился.
Вот мы стоим на вершине кряжа. Луна закатывается за дальние леса. Перед нами спуск, а после – ровное большое поле, равнина, лесок, а за тем леском должна быть деревня Пеленга. Весь путь – десять километров. Карельские километры узкие, но длинные, очень длинные.
Я вспоминаю сразу приказ.
Собираю отделение.
Позади слышится неровное, плотное дыхание карабкающихся на коленях.
Рядом стоит Антикайнен с быстрым, но утомленным взглядом.
Мы вышли утром, и скоро начинается новое утро.
– К спуску!
– Ты должен был делать так, – бубнит Тойво, обращаясь к смущенному Лейно: – выбрать себе один камень, как делал я, и думать: «Вот теперь я во что бы то ни стало доберусь до этого камня», и выбрать камень близкий, шагах в десяти от тебя. Ну, до этого камня доберешься – кончено, намечай себе другой, метров так за пять; и опять же, неужели тебе, как бы ты ни утомился, не пройти эти пять метров? Чепуха! Конечно, пройдешь. Ну, прошел – передохни, осмотрись и опять нацелься метров на пять. Поверь мне, как бы ни устал добрый парень, а метров с шесть проползет всегда. Так, глядишь, ты уже на вершине.
Я скомандовал надеть лыжи. И мы пошли вниз.
Лететь вниз – это даже после такого подъема одно удовольствие.
Равновесие у опытного лыжника регулируется как бы автоматически; где надо оттолкнуться, где надо наклониться, даже присесть на корточки, а где можно и прямо стоять, вдыхая морозный воздух.
Неопытного лыжника при спуске может опрокинуть даже едва заметная глазу кочка.
Так и случилось с Тойво.
Он сдуру пошел на спуск первым и, не успев долететь до подошвы, опрокинулся и, дважды перевернувшись в воздухе, отпустив убегающие вниз лыжи, остался лежать в снегу. Следующий за ним парень, споткнувшись о него, брякнулся тоже, на того – второй, третий, образовалась живая барахтающаяся куча с торчащими из снега стоймя штыками, валяющимися остроконечными палками.
«Пуще всего не хочу я погибать от такого дела», – мелькнуло у меня в голове, и в мгновение, равное, может быть, одной тысячной доле секунды, я оглянулся и увидел, что по этому следу, проложенному Тойво, вслед за мной быстро-быстро по склону скользит уже десятка два бойцов.
Катастрофа, катастрофа!
Кто сумеет на лету свернуть в сторону, обогнуть эту живую, барахтающуюся кучу людей, штыков, подсумков, лыж, палок, гранат?
Но в то же мгновение шедший впереди меня Лейно изогнулся и, напрягая все свои силы, свернул в сторону.
Я не знаю, сумел ли бы сделать такой поворот кто-нибудь другой.
По следу Лейно проскочил я, за мной по проложенной лыжнице пролетели другие.
Вперед! Останавливаться нельзя!
Я собрал отделение и повел.
Кроме царапин, полученных в этой свалке, к счастью неглубоких, никаких ранений ни у кого не было. Если бы, однако, куча выросла, несколько глубоких ран – в лучшем случае – было бы не избежать.
– Из-за твоего обмана, из-за твоей глупой настойчивости чуть не произошла катастрофа, – сказал я Тойво, – ты сам легко мог сломать себе шею.
– Ну, нет, здесь я не погибну, – пытался отшутиться Тойво. – Моего брата и то только мог взять снаряд кронштадтской восьмидюймовки, а ведь он был только лишь простой социал-демократ. А здесь, на фронте, у белых таких орудий и нет, чтобы меня взять... К тому же я коммунист, и меня меньше чем двенадцатидюймовым не возьмешь.
– Потом из-за тебя могли погибнуть и уже не раз... другие товарищи, – резко прервал друга Лейно.
– Ты прав, Лейно, – уже извиняющимся тоном, смущаясь, отвечал Тойво. – Но теперь уже поздно...
Такого виноватого лица я до сегодняшнего дня у Тойво никогда не видал.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Встреча с лахтарями. Буденновец

Отряд получил часовой отдых.
Мы же, назначенные в разведку, должны были итти немедленно. И мы пошли.
Я разделил отделение. Отделение шло на полкилометра позади меня под командой Лейно. Сам же я отправлялся в разведку, вперед.
Путь шел сквозь бездорожный лесок.
Мерно раскачивались, осыпая снег, мохнатые ветви.
Проходили стволы, шуршал уминаемый лыжами снег.
* * *
Точно так же, около года назад, я находился в глубокой разведке. Тогда наша разведка-рейд должна была отрезать подвоз из Финляндии в бунтующий Кронштадт; подвоз шел по льду Финского залива, Маркизовой лужи. И вот я увидел близкие огни поселка Инно. Я сам оттуда родом, и вся моя семья проживала там, и по сей день там живет отец-старик с матерью. И Айно, моя Айно, тоже – я знал – жила тогда со стариками. Наш дом стоит у самого берега моря, и берег этот был от меня всего лишь в тысяче метров. И окна дома нашего были освещены. И я пошел ближе к берегу, стараясь в тишине морозной ночи услышать скрип полозьев саней, везущих продовольствие «клешникам». Я подошел близко к берегу, выполняя задание разведки. Дом отца (все воспоминания детства) был всего в ста метрах от меня.
На пороге показалась женская фигура; это могла быть моя старая добрая мама или дорогая Айно; я не видел их с весны 1918 года, с дней разгрома нашей революции.
«Я зайду обнять стариков, – подумал я, – ведь никто никогда не узнает о нашей встрече, о моем заходе».
«Нельзя, ты ведь в разведке», – уговаривал я себя и остановился.
Я смотрел на домик, где старики, наверно, тоскуют о своем единственном Матти, где Айно...
Свет из окна желтым квадратом ложился на снег. Женщина на крыльце выплеснула из ведра воду и вошла в дом, захлопнув за собой тяжелую дверь.
Я сделал шаг вперед; я стоял десять минут вблизи дома, смотрел на него и думал.
Потом круто повернул и пошел дальше, продолжая разведку.
В тот вечер я захватил и привел к нам четыре подводы с хлебом, шедшие в Кронштадт из Териок. Белому офицеру, сопровождавшему сани, посчастливилось: он ускользнул под прикрытием тьмы, осыпаемый оголтелой бранью возчиков; на подводе остался лишь его портфель с бумагами, с документами на имя штабс-капитана Верховского. Самого штабс-капитана и след простыл.
* * *
Усталость бессонных суток и утомительного перехода в такой сильный мороз сказалась: все эти мысли проходили передо мной, как в полусне, да я, вероятно, и в самом деле задремал на ходу, и от этих полудремотных воспоминаний и мечтаний я очнулся совсем неожиданно, услышав звуки отдаленного разговора.
Быстро открыв глаза, я увидал в ста метрах от себя небольшой поселок.
На ближайшем доме развевался белый флаг. На крыльце этого дома стояли четыре вооруженных человека.
Я оглянулся: метрах в двухстах позади меня кончался неровный лес, и никого из моего отделения я не увидал. Я ушел далеко вперед.
Люди у крыльца стояли довольно спокойно. Они заметили меня.
Повернуться и итти назад было бессмысленно, три-четыре пули влипли бы тогда в мою спину. Оставалось итти вперед. Я так и сделал. Я шел размеренно, медленно, спокойно, думая о том, как бы дороже запросить с них за мою жизнь.
Я старался замедлить каждый свой шаг, выгадать каждую секунду, и потому, что я шел спокойно, не торопясь, держа курс на крыльцо избы с белой проклятой тряпкой, освещенной уже первыми косыми лучами встающего зимнего солнца, никто из стоящих у крыльца не шевельнулся, никто не взял винтовки наизготовку.
Чем ближе подходил я к деревне, тем виднее становилось мне, что у крыльца стояли лахтари из Финляндии; один из них откусил кусок хлеба, испеченного так, как не пекут нигде, ни в одном крае мира, кроме Финляндии, – особого рода пресные лепешки пекки-лейпа.
Я очень люблю пекки-лейпа, они напоминают мне годы моего раннего детства, и я уже тогда отлично знал, что во всей Карелии, за исключением разве Ухты, не умеют печь пекки-лейпа.
Я был уже в нескольких шагах от крыльца. Двое из наблюдавших за моим приближением вошли в избу, двое остались у крыльца. Я подошел вплотную к крыльцу.
– Здравствуйте, – буркнул я себе под нос, так, на всякий случай.
– Здравствуйте, ваше благородие, – ответили они, вытянувшись передо мной в струнку.
В первую секунду я даже опешил и взглянул на опушку. Ничто не говорило за то, что оттуда может сейчас кто-нибудь выйти.
Я стал медленно снимать лыжи.
Снял одну, снял другую. Два болвана, стояли вытянувшись передо мной в струнку. Белый капюшон балахона хорошо скрывал мой красноармейский шлем.
– Вольно! – скомандовал я и, очевидно, чем-то нарушил уставную формулу, так как парни весело перемигнулись друг с другом. Или, может быть, они играют со мной, как кошка с мышью? И я вспомнил избу в Паданах.
Где ты, Лейно, где штаб наш сейчас?
Я воткнул палки в утоптанный скользкий снег у крыльца и, медленно, вразвалку переступая со ступени на ступень, стал подыматься в избу.
– Надо сколоть лед со ступенек, – проворчал я, желая еще раз показать мое превосходное финское произношение.
– Будет исполнено, – ответил один из болванов, вытягиваясь во фронт и беря под козырек.
При этом он положил недоеденный кусок пекки-лейпа на лавку.
С каким бы удовольствием я сжевал его! Сразу захотелось есть.
«С пустым желудком легче перенести рану в живот», – вспомнил я изречение нашего курсового врача и переступил порог.
Очевидно, все шло, как ожидали эти дурни, потому что они не проявили даже малейшего признака удивления. Я видел все отлично.
Я и сейчас могу точно, подробно обрисовать все детали: как белые стояли, как лежал кусок хлеба на лавке, как слегка накренилась левая палка, воткнутая в снег, какого рисунка была резьба на наличнике двери.
Все чувства мои были обострены, и все это я помню отлично и не забуду до последней минуты моей жизни.
Входя в избу, я оглянулся на лес. На опушке не было и признака жизни.
Я вошел в помещение.
Сразу же охватила меня, сутки пробывшего без сна на воздухе, одуряющая теплота душно натопленного, насквозь прокуренного помещения. В помещении было четыре человека. Они наскоро прибирали комнату, винтовки в козлах стояли в углу.
Вслед за мной в комнату протиснулись два олуха со двора.
Как только я вошел, эти дурни вскочили и отдали мне честь.
Тогда спокойно, громко, раздельно, слыша каждый удар своего сердца, я спросил по-начальнически:
– Кто здесь командует?
На мой вопрос в открытую дверь из соседней комнаты выскочил рослый человек в егерской форме, со знаками отличия в петлице, с огромным, как окорок, лицом, багровым от напряжения и желания выслужиться, и стал передо мной навытяжку.
Держа руки по швам, он начал рапортовать.
Я приложил руку к козырьку, скрытому под капюшоном, как и полагается при принятии рапорта.
– Командую здесь я, капрал Курки, исполняя порученную мне задачу: освободить Карелию от русских красных бандитов.
Нервы мне изменили здесь: при словах «красных бандитов», рука, поднятая к козырьку, сама собой сжалась в кулак, и кулак захотел опуститься на физиономию капрала, чтобы сделать из нее отбивную котлету.
Большим усилием воли заставил я себя распустить кулак и отвести ладонь назад, делая все время вид, что я внимательно слушаю рапорт.
– Всего нас четырнадцать человек, – продолжал капрал, – и командует всей заставой поручик Ласси.
Услышав эту фамилию, я вздрогнул и, видя удивление в зрачках капрала, отвел свою поднятую руку назад и... и, вероятно, обнажил из-под капюшона кусок шлема, ту его часть, где краснела пятиконечная наша звезда.
Я понял это по внезапной бледности, залившей багровое до того лицо капрала, по тому, как он стал запинаться, очевидно, удивив этим всех слушавших, – их было теперь в помещении восемь человек; двое вошли сразу вслед за капралом из соседнего помещения, – и, наконец, по его прямому вопросу:
– Так вы красный?
– Да, я красный, – подхватил я его реплику и тоном приказа, не терпящего никаких возражений, продолжал: – и приказываю вам всем немедленно сдаться мне.
Они стояли оторопев.
В моей левой руке уже была граната, в правой – наган.
– Пока я с вами вел беседу, мои товарищи окружили селенье, ни один из вас не уйдет живым, если будете драться. Сдавайтесь!
Здесь Курки, а вслед за ним и я, взглянули в окно.
Метрах в пятидесяти, рассыпавшись цепью во главе с товарищем Лейно, шло мое отделение, быстро приближаясь к нам.
– С другой стороны два взвода. Сдавайтесь!
Никто из белых не успел ничего ответить, как под тяжелым ударом валенка дверь распахнулась, и в комнату влетел Лейно.
Увидев белых, он, размахивая гранатой, крикнул:
– Руки вверх!
Все находившиеся в комнате подняли руки.
В эту секунду на улице раздался глухой револьверный выстрел.
– Ты держи их здесь! – крикнул я Лейно, выскочил на улицу и приказал одному из товарищей с винтовкой встать у окна.
Тойво вбежал в избу помочь Лейно разоружить белых.
Снова раздалось несколько выстрелов.
Пробираясь задами деревни, отстреливаясь, уходил офицер.
Револьверные выстрелы принадлежали ему.
Ружейный же выстрел вырвался из соседней избы.
Я снял с плеча винтовку и медленно стал целиться.
Офицер уходил, и это был, несомненно, Ласси.
Я нажал на спусковой крючок. Он не поддавался. Выстрела не произошло. «От мороза, что ли?» – вспомнил я рассказ Раухалахти в санитарном вагоне. Я нажал еще сильнее.
Отдача была сильная.
Офицер рухнул в снег.
Я пошел к нему.
А так как лыжи мои остались у крыльца, я шел медленно, зачерпывая в валенки снег.
Выстрелы в деревне не прекращались, но становились все реже и реже.
Из леса выходили уже передовые бойцы нашего отряда.
Позади меня шел Лейно.
Офицер пытался приподняться на локте.
– Ласси! – крикнул я уже почти исступленно. – Ласси, наконец-то мы можем окончить здесь наш диспут.
От неожиданности он даже приподнялся и, увидав меня, поднял маузер.
– Я не увижу моей великой Суоми, и тебе, Матти, уже не купаться больше в ее озерах, – горестно сказал он и вдруг, выплевывая изо рта кровь, крикнул: – Продавшейся красной собаке – собачья смерть! – и выстрелил.
Ласси был отличным стрелком, но гнев и рана сделали его руку нетвердой. Пуля прошла капюшон и оставила в нем дыру.
– Ты опять не попал, Ласси, а вот я попаду...
Он снова поднял револьвер, почти касаясь моего полушубка его дулом.
Я опустил приклад.
Выстрела маузера не последовало.
Я знал Ласси с детства. Он сын хозяина лесопилки, на которой работал мой отец.
Во время империалистической войны многие финские буржуа, надеясь получить независимость из рук победителей-германцев, тайно, через шведскую границу, посылали своих сыновей обучаться в Германии воинскому искусству.
В Германии была даже организована для них особая военная высшая школа – так их было там много.
Можно с уверенностью сказать: девяносто процентов финского комсостава – германской выучки. Организаторы белой гвардии, шюцкора – они; командиры карательных отрядов Маннергейма – они; убийцы тысяч рабочих – они.
Германская армия была разбита, Красная – победила.
Так вот Ласси вместе с другими буржуями отбыл нелегально в Германию и во время революции прибыл оттуда уже законченным белым офицером.
Был митинг на лесопилке. Выступил Ласси, выступил и я, приехавший на побывку из Гельсингфорса. Мы установили на заводе Ласси восьмичасовой рабочий день и организовали завком, а когда пришли в контору проверить конторские книги, Ласси отказался дать их нам и сказал: «С такими негодяями и грабителями, как вы, придется говорить языком оружия».
Он тогда пропал с поля зрения, но теперь мы поговорили все-таки друг с другом языком оружия; это может подтвердить дыра в капюшоне моего балахона, это мог подтвердить и Лейно, если бы...
Я обыскал труп Ласси, добыл документы и пошел обратно в деревню.








