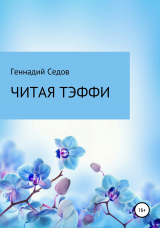
Текст книги "Читая Тэффи"
Автор книги: Геннадий Седов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
«И смех, волшебный алкоголь,
Наперекор земному яду,
Звеня, укачивает боль,
Как волны мертвую наяду».
Саша Черный
Книга первая
1.
Большие и маленькие
Маленьким в доме хоть не живи, отовсюду слышишь: «Тебе чего? А ну, марш в детскую!» Выйдешь поздороваться в переднюю где вешают зонты явившиеся по делам натянутые батюшкины сослуживцы в одинаковых мундирах или поправляет прическу у трюмо заглянувшая на чашку чая матушкина приятельница – потеребят за щеку, молвят фальшиво: «Растешь, егоза?» и шагнут за портьеру. Нужна ты кому!
У старших сестер своя жизнь. Лидия – невеста, ничего вокруг не видит, несется через комнаты едва услышит голос приехавшего на извозчике с букетом цветов своего ненаглядного. В спальню Варвары и Марии путь заказан, там свои тайны. Проберешься ночным коридором к двери, ухо приставишь: шушукаются. Понятно, о чем. О кавалерах, о чем же еще?
Братья, Вадим и Коленька, вовсе недоступны. Первый, лицеист, редкий гость в семье, второй юнкер младших классов артиллерийского училища. Приезжает домой по воскресным дням, часто с кем-нибудь из приятелей. «Отстань, не висни, мундир замараешь!» – и весь разговор.
Для своих шести лет она мала ростом, за чайным столом ей отведено обидное место – на стуле с тремя томами старых телефонных книг. Она хитрит, пробует будто по ошибке сесть к началу чаепития на другой стул, тянется изо всех сил повыше.
– Опять молоко пролили, – ворчит гувернантка Людмила. – И чего не на свое место сели!
Ябеда каких свет не видывал, без конца жалуется маменьке. То растрепанная, то локти на столе держала, то ногти грязные.
После занятий с учительницей музыки она вышивает в комнате бабушки Надежды Фелициановны передничек кукле цветными нитками. Сидящая напротив в шелковом повойнике седенькая «grand-maman», как зовут ее домашние, рассказывает о днях, когда она и дедушка были молодыми, жили у себя то в одном, то в другом имении на Днепре. Каким налаженным было хозяйство: все, что надо для жизни, делали на месте, покупали в городе только чай и сахар, хранили то и другое в запертом шкафчике буфета, ключ от него бабушка носила на шее. Дедушка Александр Николаевич был мотом, одел однажды всю дворню в ситец, про этот его поступок долго сплетничали соседские помещики.
– Что же в этом плохого, бабуля? – отрывается она от шитья.
– Дело в том, дитя, – объясняет «grand-maman», – что ситец в наше время считался роскошью, крепостные девки носили обычно домотканые платья.
– Домотканые?
– Да, из ткани, которую делали сами.
– Чудно как.
Бабушка продолжает рассказывать. О том, как они переезжали целым «поездом» из одного имения в другое.
– В первой карете мы с твоим дедушкой, во второй твоя прабабушка с четырьмя внучками: Варей, Надеждой, Софьей и Александром. Затем карета с гувернерами и мальчиками: Владимиром, Виктором и Николаем. Дальше гувернантки со своими детьми, повара и прочая челядь.
Бабушкина голова клонится на подлокотник кресла, слышно тихое похрапывание.
Она водит иголкой по пяльцам, думает о том, что хорошо было бы стать знаменитостью. Чтобы все ахнули. Стать, к примеру, балериной. Или предводительницей разбойников. Или цирковой наездницей.
За окнами падает снег, видно как бородатый истопник тащит из-под навеса во дворе ведра с углем, исчезает в подвале. Там гудит раскаленная печка, фыркает огненным паром машина согревающая зимой квартиры. Подвал с крутыми каменными ступеньками куда заходить ей категорически заказано кажется ей убежищем таинственных великанов. Глубокой ночью, когда все спят, они собираются вокруг раскаленной печи, черпают из нее огромными ложками, глотают огненное месиво, пляшут свои великанские пляски со светящимися животами.
Скоро чудной праздник, Великий пост. В какой-то день взрослым нельзя есть мясо. Следующую неделю кушать можно только рыбу, яйца и сыр, в среду и пятницу батюшка с матушкой и прислуга не обедают, едят только вечером, а, там, и вовсе целый день голодают.
Она проснулась в темноте спальни от глухих ударов. Колокольный звон за стеной, тревожный, зловещий. Страшно, позвать кого, никто не придет. Сжалась комочком: в коридоре зашлепали чьи-то осторожные шаги, мелькнула в приотворенной двери неясная фигура. «Привидение? Чур, чур меня!»
«Нянька, – тут же сообразила, – ушла к заутрене. И привидений скоро не будет, боятся солнышка, убрались к себе на болота и кладбища». Отлегло от души.
За окном светлеет, прокричали сиплыми голосами петухи, заворочалась на соседней кровати маленькая Лена, захныкала во сне – она пробежала к ней босиком, натянула одеяльце: «Поспи, поспи еще».
Утром, после умывания Людмила помогает ей одеться, заплетает косичку, повязывает синий бант.
– Не забыла, какой сегодня день? – заглядывает в детскую маменька.
– Этот самый…
– Ну?
– Великий…
– Неужели трудно запомнить, Надюша? – сердится маменька. – Прощеное воскресенье! Людмила, смените, пожалуйста, бант! – приказывает горничной. – На темный.
«Придумала: на темный. На старуху буду похожа».
Молиться в храм идут пешком, всей семьей, это неподалеку, за углом. Студено, над обледеневшим каналом висит стылый туман. Бредут среди снежных сугробов по тротуару люди в шубах, тулупах, меховых шапках, двигаются извозчичьи сани с седоками.
В церкви не протолкнешься. Чадят по стенам свечи, духота, похожий на гнома бородатый старичок в золоченых одеждах бубнит что-то с возвышения. Людмила шипит в ухо: «Креститесь, барышня!» «Кланяйтесь!» «Креститесь!» С ума сойти…
Батюшка с матушкой опустились на колени, она делает то же самое. Коленкам больно, присела на пятки. Прямо перед ней огромный светильник на цепях, на нем потрескивают свечи, капает на пол воск. Она тихонько подползает к тому месту, чтобы отколупнуть кусочек. Маменькина твердая рука на плече, гневный шепот: «Веди себя прилично. Наказание господне!»…
Гном на возвышении помахал в очередной раз дымящимся золотым сосудом, произнес нараспев: «Простите меня, православные, если обидел ненароком словом или делом» В рядах задвигались, церковь зашумела, послышалось вокруг: «Прости меня, если можешь», в ответ: «Бог простил, и я прощаю»
У матушки на глазах слезы, прижала к груди, целует, батюшка пощекотал усами, Людмила заслюнявила: «Прости, прости, прости!» Кончился голодный праздник, скоро Пасха! Полный дом гостей, куличи, крашеные яички, катания со снежных горок, поездки на дачу, к родным, знакомым.
– Маменька, папенька, Людмила, – говорит она. – Простите меня за все, за все! И я вас прощаю.
«Всех прощу, – думает. – Даже кривляку и задаваку Катьку»…
Катька Чепцова с соседнего двора старше ее на полгода. У них сложные отношения: неделю дружат, две недели в ссоре. Причина размолвок одна и та же: Катьке во что бы то ни стало надо доказать, что она, во-первых, без пяти минут барышня, что, во-вторых, красивей ее, и что, в третьих, в нее влюблены поголовно все окрестные мальчишки.
– Ты тоже достаточно привлекательна,– успокаивает, – но тебя портят губы. Посмотри на мои. Цветок-бутончик. А у тебя обыкновенные.
Пусть обыкновенные. Зато она в матушку, урожденную Гойер, француженку. А у француженок, подслушала однажды у взрослых, зовущий взгляд. Зовущий, понятно? А твой распрекрасный цветок-бутончик никого не зовет, успокойся!
В женскую гимназию на Литейной они с Катькой поступили в одно время, сидели в классе за одним столом, ходили попеременно друг к дружке делать домашние уроки. Вот и сегодня пишут в Катькиной комнате сочинение: «Какое время года вы больше любите?»
Катька то и дело отвлекает:
– Карамельку хочешь? Нет?.. У дворника собака сбесилась, слышала? Крысу, говорят, бешенную поймала у забора, та ее покусала, и собака сбесилась. Увезли куда-то в клетке.
– Катя, пожалуйста! Сбила с мысли.
– Молчу, молчу.
Через минуту опять:
– У меня намечается роман.
– Роман? – отрывается она от письма. – Что-то новое.
– Ни за что не догадаешься: с кадетом Коломийцевым. Один раз уже поцеловались.
– Интересно.
Врет, скорее всего. Неделю назад уверяла, что в нее влюбился старшеклассник Фишер из соседней гимназии, она на его чувства не ответила, он бросился с горя в пруд, чудом удалось спасти. А потом шли после уроков, мимо на извозчике какой-то мальчуган с нянькой проезжал, поклонился Катьке. «Женя Фишер», – сказала Катька. «Тот, который из-за тебя в пруд бросился?» «Да, а что?» «Да он же совсем маленький, а ты говорила старшеклассник». «Это он на извозчике таким маленьким кажется, ему четырнадцать лет». Ну, ни вруша!
– А ты в кого-нибудь влюблена?
Она в растерянности. Сказать, что влюбиться ей просто не в кого, значит уступить Катьке в споре о привлекательности.
– Влюблена, и даже очень, – слышит словно со стороны собственный голос. – Но сказать об этом сейчас не могу, это страшная тайна.
Удивительно: действительно верит в эту минуту, что влюблена. Вопрос, в кого? Думать, думать…
«Прошлой весной мы ездили за город, – пишет в тетрадке. – Пух цветущих деревьев летел и кружился в воздухе, щебетали веселые птицы, пахло водой, медом и молодой весенней землей. Я собирала на лугу незабудки и на руку мне села божья коровка»…
– Ой, ну не знаю я, что писать про чертовое лето, – бубнит Катька.
– Напиши, как лягушки квакают в болотах, – откликается она.
– Ну, тебя! Я серьезно.
Господи, мало ли что можно написать про лето! На Троицкие праздники они гостили в матушкином имении на Волыни. Народу понаехало тьма, колясок полон двор, в просторных комнатах с распахнутыми окнами разбросаны охапки душистого тростника, на каждую дверь повесили березовые ветки. Вечером она с сестрами насобирала цветов. Связали букеты, спрятали в траве под большим жасминовым кустом, чтобы не завяли до завтра когда пойдут в церковь.
К обеду ждали соседа, помещика Беспалова, которому, как говорили, батюшка помог выиграть в суде какое-то дело. Помещик с пушистыми усами приехал верхом на белой красивой лошади. Поднялся на веранду где был накрыт стол, поклонился, поцеловал руку маман, обнялся с отцом. Рассказывал за обедом разные истории, гости валились со смеху, маман восклицала утирая платочком глаза: «Не могу, уморил, батюшка!»
Во время десерта во двор зашел сухонький старичок, глядел из-под руки на обедающих, матушка велела прислуживавшему за столом дворецкому снести ему кусок пирога. Она попросила у отца грошик для нищего, помещик услыхав извлек из кошелька тяжелый пятак: «Возьмите, барышня».
Когда она подошла к забору, сидевший на скамейке старичок выгребал пальцем капусту из пирога, совал в рот, а корочки отламывал и прятал в мешок. Она растерялась. Положила осторожно монетки на траву, поближе к заляпанным грязью лаптям, из одного из которых выглядывал уродливый черный палец, пошла не оглядываясь к веранде…
– Надоело, не могу больше! – кричит над ухом Катька. – Давай танцевать…
Вытащила из-за стола, закружила по комнате.
Визит к Толстому
В доме пишут решительно все, чернила льются рекой. Батюшка книги по уголовному праву, матушка письма родным и приятельницам, сестры слезливые стихи в тщательно оберегаемых от посторонних глаз дневниках с целующимися голубками. Пишет каракулями нянька в замусоленном «Часослове» чтобы, упаси бог, не пропустить важную службу в церкви, пишет записочки незнакомому кавалеру горничная, прячет как героиня пушкинского «Дубровского» в дупле старого платана на заднем дворе, сама видела несколько раз.
У брата-кадета нашли обрывок стихотворения:
«Что было бы, если
к нам в корпус Лесли
явилась вдруг?»
(Лесли, знали все, была хорошенькая институточка, знакомая Коленьки)
Лицеист Вадим выразил в стихах трагическое состояние, связанное с переэкзаменовкой по алгебре:
«О, зачем ты так жарко молилась в ту ночь
За молитвой меня забывая,
Ты могла бы спасти, ты могла бы помочь,
Ты спасла бы меня, дорогая!»
Пишет иногда и она стихи. Совсем не трудно, рифмы сами лезут в голову. «Людмила – немила», «ученье – мученье», «Катька Чепцова – сонная корова». Соревноваться в стихосложении среди своих что-то вроде бросания друг в дружку подушек перед сном. Лидия заходит в классную комнату, где они с Машей готовят уроки, и с порога:
– Зуб заострился, режет язык.
Маша, не поднимая головы:
– К эдакой боли никто не привык.
Лидия, оживляясь:
– Можно бы воском его залечить… Ну? Надя!
– Но как же я буду горячее пить? – включается она в игру.
Маша мгновенно:
– Не буду я с вами говядину жрать.
Она, торжествуя:
– Так будешь как заяц морковку жевать!
Хохот, поцелуи…
Дурачиться стихами можно сколько угодно. Писать эпиграммы, чувствительные послания в дневниках по случаю дней ангела или рождения. Но, избави бог, увлечься этим всерьез. Увидят корпящей над листом бумаги с вдохновенным лицом, начнут скакать вокруг как сумасшедшие на одной ножке: «Пишет, пишет!»
Утаила от родных сочиненную по случаю юбилея гимназии торжественную оду которая заканчивалась словами: «И пусть грядущим поколеньям, как нам, сияет правды свет, здесь, в этом храме просвещенья еще на много, много лет!» Прочли бы, со свету сжили.
Написала как-то смешливую «Песнь Маргариты». Набралась храбрости, понесла в редакцию сатирического журнала «Осколки», в которых печатался Чехов. Редактор Лейкин, старый, хворый, глянул мимоходом:
– Ответ прочтете в «Почтовом ящике». До свидания.
Прочла через месяц»: «Песенка Маргариты никуда не годится». Ну, и черт с вами! Писательство ее не привлекает, она мечтает стать художницей. По совету Катьки («Сбудется, кровь из носу!») написала о желании на листке бумаги, сжевала, плюнула через левое плечо, выбросала под колеса брички когда ездили всем классом собирать ботанический гербарий в Царскосельский парк. И вот сюрприз: Маша, которая старше ее всего на три года, не просто, оказывается, всерьез увлечена сочинением стихов, но призналась однажды: посвятит этому жизнь, станет русской Сафо.
Сафо, ничего себе!..
Деловые интересы отца вынуждают их переехать в Москву. Незнакомый город, новая гимназия, отсутствие друзей. Спасение от одиночества – книги. Она запоем читает: Тургенев, Гоголь, Достоевский. На первом месте Толстой. В младших классах перечитала несколько раз «Детство» и «Отрочество», сейчас открыла для себя «Войну и мир». Удивительное чувство: словно входишь в дом, где все знакомо, близко, все люди свои, родные.
Она влюблена в князя Андрея Болконского, а Наташу Ростову люто ненавидит. Как она могла ему изменить, такому необыкновенному!
– Знаешь, – делится мыслями с Машей, – Толстой, по-моему, неправильно про нее написал. Не могла она никому нравиться. Посуди сама. Коса у нее была негустая, недлинная, губы распухшие. Жениться на ней князь Андрей собирался из одной только жалости…
Поздний час, дом затих. Лежа в постели она перечитывает при свете ночника невыносимые, рвущие душу страницы романа. Перед глазами Бородинская битва, князь Андрей ходит по полю прислушиваясь к шуму снарядов и считая шаги. Почему он не кинулся на землю когда рядом разорвалось ядро? Ведь адъютант ему крикнул: «Ложись!». Думал о том, что не хочет быть убитым и одновременно, что на него смотрят солдаты. Стыдился…
Как он умирал, невозможно читать! Мгновенье ей кажется: Толстой придумал это нарочно, стоит перелистнуть страницу, и все окажется не так, врачи его спасут. «Надо было умереть не ему, а мерзкому Анатолю Курагину?» – думает в слезах.
Поцеловала книгу, закрыла, положила на тумбочку.
Утром, растрепанная, с опухшим лицом, пошла к сестре
– Маша, – сказала, – я решила ехать к Толстому. Просить, чтобы он спас князя Андрея. Пусть даже женит его на Наташе, лишь бы не умирал.
– Не сходи с ума…
Не слушая она побежала к двери. Отыскала в салоне Людмилу, спросила, может ли автор изменить что-либо, если книга уже издана?
– Может, барышня. Авторы иногда для нового издания делают исправления.
«Решено, еду!»
Катька сказала, что к Толстому ехать надо непременно с его карточкой и просить подписать, иначе он и разговаривать не станет.
– Оденься скромнее, он расфуфыренным отказывает.
Карточку, где он снят верхом на лошади, она купила за алтын в ближайшей книжной лавке. Одела гимназическую форму, косу повязала синим бантом. Постояла у зеркала: скромная, хорошенькая.
Улизнуть было несложно, из провинции приехали родственники, в доме шум, суета. Она уговорила сопровождать ее старую няньку, матери сказала, что идет к подруге за уроками.
В Хамовники, где жил в это время Толстой, добирались в нанятой скрипучей коляске с жесткими сиденьями, ближе к усадьбе путь перегородила стража.
– Пеши идите, тут недалеко, – посоветовал извозчик.
В очереди у ворот они простояли больше двух часов, посетителей впускали небольшими группами, нянька сопрела на жаре, ахала и охала. Она мысленно произносила слова, которые собиралась ему сказать. Подмышками было мокро, чесалось.
«Опозорюсь, – стучало в мыслях, – уйти пока не поздно!»
– Пожалуйте, барышня, – приоткрыл дверь дежурный.
Поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж, миновали веранду, вошли в переднюю. Мимо прошла весело что-то напевая молодая дама, за ней усатый господин в чесучовой паре.
– Как вас величать? – негромкий голос.
Господи, он! Возник точно из-за стены Маленький, исхудалый, с белой бородой по пояс, совсем не похожий на свои портреты.
– Надя… Надежда.
– У вас ко мне какой-то вопрос?
Он смотрел выжидающе.
Все разом вылетело из головы: князь Болконский, Наташа, придуманные слова…
– Вот, – протянула фотографию, – просили подписать.
Он взял из рук фотографию, ушел в соседнюю комнату, вернулся через пару минут, протянул снимок.
Она сделала реверанс.
– А вам, старушка, что? – покосился он на няньку.
– Ничего, я с барышней.
В приемную входили какие-то нарядно одетые люди с букетами цветов и коробками перевязанными цветными лентами.
– Идем, – потянула она няньку за руку.
Прощай, июнь!
Всю весну она проболела, на каникулы бонна повезла ее отдохнуть и подлечиться в имение тетки Софьи Александровны под Житомиром. Приехали на Варшавский вокзал за полчаса до отправления, отбили телеграмму, носильщик внес в купе вещи, она стояла в коридоре у окна, махала платочком стоявшей под зонтиком матушке и беззвучно ревевшей с перекошенным от горя личиком Леночке в соломенной шляпке.
Двое с половиной суток утомительного пути. Стоянки на станциях, смены паровоза. Жевала без аппетита в вагон-ресторане жареные немецкие сосиски (от первого отказалась), пила ледяную сельтерскую.
– Пейте небольшими глоточками, мадемуазель, – наставляла сидевшая напротив бонна евшая с удовольствием рыбную селянку. – Простудите горло.
– Я так и делаю, мадам.
На перроне в Бердичеве ее заключила в объятия дородная тетушка в необъятной юбке.
– Худая, боже, чем вы там у себя в Петербурге питаетесь! Познакомься, дитя…
Из-за тетушкиной спины выдвинулся рослый мальчик в светлом гимназическом кителе и фуражке, щелкнул каблуками:
– Григорий, ваш кузен.
У него был нос, который бы не мешало подрезать.
– Очень приятно.
Детей у тетушки кроме носатого Гриши было еще трое. Пятнадцатилетний Вася и две младшие девочки, Маня и Любочка.
Кузины с благоговением осматривали привезенный ею гардероб. Голубую матроску, парадное пикейное платье, белые блузки.
– А-ах! – картинно закатывала глазки Любочка.
– Я люблю петербургские туалеты, – говорила Маня.
– Все блестит, словно шелк! – добавляла Любочка.
Потащили за ворота:
– Идемте гулять!
Качали на качелях, провели по саду, показали густо заросшую незабудками речку где утонул в прошлом году теленок.
– Засосало, – таинственно сообщила Маня, – и косточки не выкинуло. Нам в том месте купаться не позволяют.
Все это в первые дни. Позже, когда к ней привыкли, отношение изменилось. Гриша перестал обращать внимание. Раз только встретив у калитки с книгой в руках спросил:
– Что изволите почитывать?
Не дожидаясь ответа ушел.
Ябедник и задира Вася расшаркивался комично в коридоре, не давал пройти.
– Мамзель Надежда, не будете ли так добры изъяснить, как по-французски буерак?
И тут же дурацкий хохот. Скучно, неприятно, утомительно.
«Как у них все некрасиво», – думала.
Доившие коров горничные на обращение откликались «чаво?» В обед ели карасей в сметане, пироги с налимом, поросят. За столом прислуживала похожая на солдата огромная девка в женской кофте с черными усами. Изумилась узнав, что великанше всего восемнадцать лет.
Тетка была глуховата, весь дом поэтому кричал. Высокие комнаты гудели, собаки лаяли, кошки мяукали жуткими голосами, прислуга гремела тарелками, кузины ревели, кузены ссорились.
Она уходила прочь от этого бедлама в палисадник с книжкой Алексея Толстого в тисненом переплете, читала вслух:
«Ты не его в нем видишь совершенства
И не собой тебя прельстить он мог,
Лишь тайных дум, мучений и блаженства
Он для тебя отысканный предлог».
Задумывалась надолго…
«Ау, – кричали из дома. – Надя-а! Чай пить!»
Снова шум, толкотня, звон посуды. Собаки бьют по коленям твердыми хвостами, кошка вспрыгивает привычно на стол, поворачивается задом, мажет хвостом по лицу. Гриша нападает на усатую Варвару за то, что та не умеет служить.
– Ты бы замолчал, воин, – выговаривает ему круглый седовласый дядя Тема. – Смотри-ка, нос у тебя еще больше вырос.
– Нос огромный, нос ужасный, ты вместил в свои концы, – декламирует нараспев Вася, – и посады, и деревни, и плакаты, и дворцы…
– Дуррак, свинья! – в ответ.
– Такие большие, а все ссорятся, – рассказывала тетка. – Два года тому назад взяла их с собой в Псков. Пусть, думаю, посмотрят древний город. Утром пошла по делам, говорю: вы позвоните, велите кофе подать, а потом бегите город посмотреть, я к обеду вернусь. Возвратилась в два часа, что такое? Шторы как были спущены, оба в постелях. Что, говорю, с вами, чего вы лежите-то? Кофе пили? «Нет». Отчего? «Да этот болван не хочет позвонить». – «А ты-то чего сам не позвонишь?» – «Да, вот еще! С какой стати? Он будет лежать, а я, изволь, как мальчишка на побегушках». – «А я с какой стати обязан для тебя стараться?» Так и пролежали болваны до самого обеда…
В Артемьев день наехали гости. Прикатил на беговых дрожках игумен, огромный, широколобый, похожий на васнецовского богатыря.
– Какие погоды стоят, – говорил за столом, – какие луга, какие поля. Июнь! Ехал, смотрел, и словно раскрывалась предо мной книга тайн несказанных.
До чего замечательно выразился: «книга тайн несказанных» – записать непременно в альбом!
Вечером сидела перед зеркалом в ситцевом халатике, разглядывала худенькое свое личико в веснушках. В доме не спали, слышно было как Гриша катает в биллиардной шары. Дверь внезапно распахнулась, влетела усатая Варвара, красная, оскаленная, возбужденная.
– А ты чаво не спишь? Чаво ждешь? Чаво такого? А? Вот я тя уложу! Я тя живо уложу…
Схватила в охапку, водила пальцами по ребрам, щекотала, хохотала, приговаривала:
– Чаво не спишь? Чаво такого не спишь?
Она задыхалась, повизгивала от щекотки, отбивалась, сильные руки не отпускали, перебирали косточки, поворачивали…
– Пусти! – выдохнула с трудом. – Я умру-у! Пусти!..
Сердце колотилось, перехватило дыхание.
Увидела вдруг ощеренные зубы Варвары, побелевшие глаза, поняла: усатая великанша не шутит, не играет – мучает, убивает, не может остановиться…
– Гриша! – закричала что было сил. – Гриша!
Тот вбежал в спальню с кием в руке.
– Пошла вон, дура! – толкал Варвару к порогу.
– Что уж, и поиграть нельзя… – вяло протянула та.
– Вон, я сказал!.. Вы, Надюша, не бойтесь, – погладил плечо когда Варвара вышла, – она не посмеет вернуться. – Пошел к двери, обернулся: – Я буду в биллиардной, не бойтесь. Закройте дверь на задвижку…
Милый, оказывается, добрый, совсем не такой как казался, и нос вполне ничего. И Вася, в общем, не полный дуралей. Полез опять с каверзным вопросом, она его отбрила, на другой день помог достать в библиотеке с верхней полки книгу.
«Чихать будете, – ухмыльнулся, – и чесаться от пыли».
Ночью, перед тем как лечь, она погасила свечу, в комнате от этого неожиданно сделалось светлее. Толкнула дверь на веранду, спустилась в сад. Боялась стукнуть каблуком, зашуршать платьем – такая несказанная тишина стояла на земле. Молчали деревья, птицы, притихли маленькие зверьки в траве, невидимая плескалась неподалеку река. «Книга тайн несказанных», – вспомнила слова игумена.
Подумала почему-то о Грише: могли бы они подружиться? Наверное, могли бы, не случись скорый его отъезд.
Пришла пора уезжать и ей. Утром после ночной грозы было душно, в воздухе парило. Они с бонной сидели одетые по-дорожному в пахнувшей кожей и теткиными духами коляске, с порога махали рукой заплаканная тетя, дядя Тема, кузины, Вася.
– С богом! – тронул кучер поводья.
«Прощай, июнь, буду помнить тебя всегда!»
Сестра Маша, она же Мирра.
Маша своего добилась. Печатается в «Ниве», «Русском обозрении», «Северном вестнике», подписывается «Мирра Лохвицкая», так благозвучней. Стихи нарасхват, первый же сборник «Стихотворения» удостоен Пушкинской премии. Утерла нос дутым знаменитостям: символистам, футуристам, акмеистам, имажинистам и прочим фокусникам. Те выпустят жиденькую книжицу на серой бумаге с понятными им одним рифмованными ребусами, дарят друг другу, читают на своих посиделках, а каждая новая книга сестры – событие, встречается хвалебными отзывами, исчезает на другой день после выхода с книжных прилавков.
У Маши своя жизнь. Обручилась окончив училище и возвратясь после кончины отца вслед за семьей в Петербург с соседом по даче инженером-строителем Евгением Жибером, живет в просторной квартире на Сергиевской. Мать двоих чудных детишек, домоседка. Коллеги жалуются: вытащить Лохвицкую из дому на писательское собрание, попросить выступить на литературном вечере занятие не из легких.
Сидя под крышей беседки во внутреннем дворике она перечитывает новую книжку сестры. Странно, всегда считала, что пишущие выражают на бумаге самих себя. Читаешь Пушкина: «Я вас любил, любовь еще быть может». Он, никто другой. Лермонтов, Фет, Майков – в любой строчке чувствуешь автора.
А у Маши? С одной стороны:
«Мой светлый замок так велик,
Так недоступен и высок,
Что скоро листья повилик
Ковром заткнут его порог.
И своды гулкие паук
Затянет в дым своих тенет,
Где чуждых дней залетный звук
Ответной рифмы не найдет.
Там шум фонтанов мне поет,
Как хорошо в полдневный зной,
Взметая холод вольных вод
Дробиться радугой цветной.
Мой замок высится в такой
Недостижимой вышине,
Что крики воронов тоской
Не отравили песен мне.
Моя свобода широка,
Мой сон медлителен и тих,
И золотые облака
Скользя, плывут у ног моих».
Конечно же, это Машенька. Мечтательная, застенчивая, редкостно красивая. Ее голос.
И тут же рядом невообразимое:
«Ты сегодня так долго ласкаешь меня,
О, мой кольчатый змей.
Ты не видишь? Предвестница яркого дня
Расцветила узоры по келье моей.
Сквозь узорные стекла алеет туман,
Мы с тобой как виденья полуденных стран,
О, мой кольчатый змей.
Я слабею под тяжестью влажной твоей,
Ты погубишь меня.
Разгораются очи твои зеленей,
Ты не слышишь? Приспешники скучного дня
В наши двери стучат все сильней и сильней,
О, мой гибкий, мой цепкий, мой кольчатый змей,
Ты погубишь меня.
Мне так больно, так страшно. О, дай мне вздохнуть,
Мой чешуйчатый змей!
Ты кольцом окружаешь усталую грудь,
Обвиваешься крепко вкруг шеи моей,
Я бледнею, я таю, как воск от огня,
Ты сжимаешь, ты жалишь, ты душишь меня,
Мой чешуйчатый змей!»
Ужас что такое! Постельный стон развратной кокотки в объятиях сатира! В котором из двух стихов Маша? В обоих? Разве такое возможно?
Многим нравятся именно эти ее стихи на грани неприличия. Вакхические, как их называют. Почитатель ее таланта журналист Василий Немирович-Данченко написал в одной из статей, что сестра (он называет ее то «птичка-невеличка», то «маленькая фея») завоевывает всех ароматом своих песен, что все дальше и дальше оставляет за собой позади молодых поэтов своего времени, «хотя целомудренные каплуны от литературы и вопиют ко всем святителям скопческого корабля печати и к белым голубям цензуры о безнравственности юного таланта». Даже такой поборник морали как Лев Толстой и тот высказался одобрительно в ее адрес в газетном интервью: «Это пока ее зарядило. Молодым пьяным вином бьет. Уходится, остынет, и потекут чистые воды».
Поди, разберись…
Сестра как-то пригласила ее поехать на литературную встречу у своей приятельницы, поэтессы Ольги Чюминой. Кляла себя потом, что согласилась, это был кошмар! В небольшой гостиной, куда она вошла вслед за сестрой, было шумно, толпились вокруг накрытого стола люди. Маша, яркая, красивая, в модной шляпе, пропустила ее вперед, произнесла обращаясь к хозяйке:
– Я позволила себе привести к вам сестру…
Она почувствовала, что начинает краснеть.
– Надя, подойди же…
Она присела неловко в книксене, щеки горели.
– Пишет? – участливо спросил мужчина с элегантной эспаньолкой. («Бунин? Похоже»)
– Пишет, кажется…
Небрежно, между прочим.
Она прошмыгнула в дальний угол, села. Битых два часа делала вид что слушает, хлопала выступавшим. Никому не нужная, нуль без палочки, сестра знаменитой Мирры Лохвицкой.
Заехала спустя неделю к Маше. Поговорить, понянчится с племянниками. Отобедали, нянька увела малышей в детскую. Сестра снова была в положении, лежала на софе в капоте, все такая же красивая, с чудной своей чуть утомленной улыбкой.
Что ее угораздило, непонятно: захватила написанное накануне стихотворение. Решила прочесть, услышать отзыв поэтессы, о которой говорили, что она, как никто другой в России приблизилась по чистоте и ясности стиха к Пушкину.
– Ну, прочти, – услышала в ответ.
Без интереса, равнодушно.
– Да ладно, – смешалась она, – давай в следующий раз.
– Читай, читай, я слушаю.
– Оно коротенькое… – Она достала из сумочки листок.
– Замечательно, читай.
«Мне снился сон безумный и прекрасный, – читала она нарочито монотонно, – как будто я поверила тебе. И жизнь звала настойчиво и страстно меня к труду, свободе и борьбе…
Маша слушала закрыв глаза.
«Проснулась я, сомненье навевая осенний день глядел в мое окно. И дождь шумел по крыше, напевая, что жизнь прошла и что мечтать смешно»…
– Ну, вот, – закрыла тетрадку. – Что скажешь?
– Я плохой критик, Надя, – сестра сладко зевнула. – Давай чайку попьем, а?
– Нет уж, пожалуйста!
– Ты собираешься это напечатать?
– Не знаю, пока не решила.
– Не делай этого.
Мягко, снисходительно, как малому ребенку.
– Что? Так плохо?
– Не в этом дело, Надюша. Сама посуди. Есть поэтесса Лохвицкая. Вдруг является еще одна, тоже Лохвицкая. Смеху не оберешься. Станут язвить, что мы пишем друг за дружку, твои стихи приписывать мне, мои тебе. Цирковые гимнастки на проволоке Дунькины-Варшавские…
Слушать было невыносимо.
– Дунькины-Варшавские в самом деле смешно, – она поднялась с кресла, спрятала листок в сумочку. – Успокойся, пожалуйста, я не собираюсь быть тебе помехой. Писание стихов для меня такая же забава как разгадывание крестословиц.








