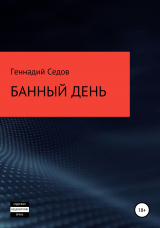
Текст книги "Банный день"
Автор книги: Геннадий Седов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Сменялись кадры. Толпы молящихся у стен храма паломников ожидающих чуда, торговля свечами и слезами святого Йоргена в бутылках. Воришка Ильинский с перевязанной щекой глядел по-дурацки улыбаясь на воздевшего руки к небу Кторова.
– «Исцели!» – взывала к мнимому святому многотысячная толпа у храма.
– «Брось костыли и иди! – выразительно взирал лже-святой Йорген на подельника. – Исцеляйся, дубина, тебе говорят!»
Публика в зале умирала от смеха. Хохотали, падали на плечи друг друга.
– Колька, – стонала, откинувшись на стуле, Стефка. – Этот, с костылями… танцует! Не могу!
Дружно ржавшие в соседнем ряду моряки закурили, угостили папиросами сидевших рядом детдомовцев.
– Прекратите курить, товарищи! – кричала с задних мест дежурная.
Ноль внимания. Курили, хохотали, свистели, топали ногами.
– Ну, холера! – хлопал сзади по плечу пролетарий-мыловар. – Ну, дают!
Когда рассказывавший с экрана прохожим, как мама уронила его с верхнего этажа, наклюкавшийся дармовой водкой «исцеленный» Ильинский напялил мятую шляпу на голову уличного пса, он не выдержал, затрясся в неудержном смехе. Смеялся до слез, бил отчаянно в ладоши до самого конца сеанса.
5.
В одном из писем Константин сообщил: они теперь не заключенные, а спецпоселенцы, живут свободно на выселках, ждут ответа на прошение свидеться с родственниками.
К поездке на Урал они с сестрой стали готовиться загодя. Откладывали деньги на дорогу, экономили каждую копейку. Стефанида к тому времени окончила ФЗУ, работала в закройном цехе фабрики «Скороход», была ударницей, неплохо зарабатывала. Трудно было узнать в сероглазой рослой девушке со значком «Ворошиловский стрелок» на груди явившуюся к нему когда-то в общежитие зареванную деревенскую замарашку в маминой кофте. Когда в выходные дни они гуляли вдвоем по набережной грызя семечки, встречные мужчины оборачивались, бросали на нее восхищенные взгляды.
Жить было нелегко, один голодный год следовал за другим. Продукты выдавали по карточкам, строго по норме. Сетовать не приходилось: в город, прорывая заслоны, хлынули тысячи беженцев из охваченных неурожаем Украины, Белоруссии, Поволжья, Северного Кавказа, Урала, Сибири. Изможденные люди сидели с протянутыми руками на мостовых, копались на свалках, спали укрывшись тряпьем под заборами, на пустырях. Город кишел беспризорными, ворами-карманниками. Нарастала волна грабежей, в газетах что ни день – сообщения о случаях людоедства, убийствах за горстку мелочи случайных прохожих, безымянных трупах под мостами, на задних дворах в подъездах домов.
Память часто возвращала его в то полное тревог и лишений время, и, странная вещь, всегда с чувством утраты чего-то важного, чем жили окружавшие его люди, чем жил тогда он сам, двадцатилетний, целеустремленный, веривший, что переживаемые трудности временное явление, что завтра будет лучше, чем вчера, что год великого перелома станет переломным и в его судьбе, что именно таким как он, детям рабочих и крестьян, суждено сделать сказку былью, построить на земле светлое здание коммунизма.
Страна трудилась день и ночь. Шли один за другим в объезд Ленинграда эшелоны с тысячами строителей в Карелию: новая грандиозная стройка, Беломоро-Балтийскй канал. Гул работ на строительстве Днепрогэса, Харьковского тракторного завода. Котлованы, строительные леса у горы Магнитной на Урале: здесь поднимался город советских металлургов. 60 миллионов новых колхозников, 25 тысяч коммунистов и рабочих послано в деревню. В Средней Азии орошена и засеяна под хлопок глинистая пустошь равная по величине Эстонии. Установлено авиасообщение с Памиром – где ездили 16 суток, теперь летят два с половиной часа. Кочевые племена, населяющие пустыню Кара-Кум, стали оседлыми, у сбросов оросительных каналов поставлены городки из юрт, караваны Наркомзема завезли в пустыню плуги.
Что ни день, сообщения о новых свершениях, новых трудовых подвигах. Комсомолец Микунис на Харьковском тракторострое уложил в одну смену 4770 кирпичей, Доронин, Минаков и Гаврилов на стройке доменного цеха в Кузнецке побили все ранее установленные рекорды огнеупорной кладки. Горняки из бригады Елева на горе Магнитной дали 18 кубометров породы на человека при норме в 3 кубометра поставив тем самым мировой рекорд, сталевары металлургического завода имени Ильича в Мариуполе работающие на печах №4 и №10 дали в сутки четыре плавки обогнав тем самым Германию. Дух захватывало!
С него сняли, наконец, строгий выговор, вернули комсомольский билет. На курсе он считался первым кандидатом на поступление в аспирантуру. Во время практических занятий, когда нужно было ассистировать педагогам у операционного стола или в лаборатории, выбирали, как правило, его. В охотку, не по принуждению занимался общественной работой. Участвовал в рейдах «Легкой кавалерии» по выявлению недостатков в учебе и быту, агитировал с братвой на улицах за новый оборонный госзаем, клеймил с трибуны институтских собраний саботажников и вредителей. Свой в доску парень…
Проведению в жизнь планов пятилетки мешали многочисленные враги. Не одни только чемберлены и керзоны из-за рубежа, но и свои, отечественные. Сидели затаившись в Госплане, ВСНХ, Наркомате труда, Центросоюзе, пробирались на важные посты в ведущие отрасли народного хозяйства. Занимались саботажем, дезорганизацией производства, проводили диверсии на железных дорогах, шахтах, рудниках. Газеты пестрели сообщениями о действиях вредителей и диверсантов. Жгли амбары сельских кооперативов с запасами зерна, резали жилы общественному скоту. Придя на завод, утренняя смена нередко находила сломанные машины, засоренные станки, испорченное сырье, неизвестные люди ослабляли ответственные гайки.
В стране один за другим шли судебные процессы над участниками «шахтинского» дела, членами «промпартии», троцкистами и бухаринцами, недобитыми кулаками.
«Праздник святого Йоргена» выпустили на экраны неспроста: партия взялась выкорчевывать железным кулаком религиозную заразу. Газеты пестрели заголовками: «Церковь – пятая колонна мирового империализма!». «Долой религиозные праздники!». «Колокольный звон нарушает бытовые условия масс, мешает труду и отдыху!». «Борьба с поповщиной и пережитками старого быта – долг каждого честного труженика!».
Отвечая на партийный призыв городская молодежь вышла на штурм цитадели мракобесия и одурманивания трудящихся масс. Парни и девушки вступали поголовно в «Союз воинствующих безбожников», малевали на стенах домов и заборах лозунги, высмеивающие служителей культа, вели агитацию среди верующих, открывая им глаза на реакционную сущность религии.
В один из весенних дней, во время большой перемены, когда они с Шалвой сидели в окружении сокурсников на краю высохшего фонтана возле центрального корпуса, над головой тяжко ухнуло, ударило взрывной волной. Любопытствуя они побежали к воротам, высыпали на мостовую.
Над расположенным по соседству кладбищем поднимался заволакивая округу столб дыма и пыли. Когда через какое-то время пелена рассеялась, изумлению их не было предела: исчезла возвышавшаяся над кладбищенским массивом колокольня Воскресенского собора, на месте ее чернел рваный провал.
В городе как и по всей стране ударными темпами разрушали церкви. Валили подвешенными на бульдозерных тросах металлическими болванками, взрывали динамитом. Снимали и везли на переплавку колокола, литые кованые ограды. Вереницы телег и автомашин вывозили с территорий порушенных соборов и церквей кирпич, иконы, церковную утварь. Решением властей духовенство было причислено к категории «лишенцев». Попов и монахов-дармоедов лишили продовольственных карточек, медицинского обслуживания, многие были обвинены в антисоветской пропаганде, расстреляны или отправлены в ссылки.
Он был в смятении. Крещенный в детстве, не мог примириться с мыслью, что все, во что верил, небылицы для одурманивания простых людей, что религия опиум для народа, а церковные пастыри, такие, как деревенский батюшка отец Станислав, к которому ходили за советом старые и молодые, злейшие враги советской власти мешающие строить счастливую жизнь, мошенники, шарлатаны.
Лежа с открытыми глазами в ночном общежитии думал глядя в занавешенное марлей окно: как быть, если он, комсомолец, общественник, шепчет перед сном «Отче наш»? Крестится проходя мимо церкви по-воровски озираясь? Чистой же воды двурушничество! Предательство перед верящими в тебя товарищами!
На последнем собрании жильцов кто-то из ребят предложил ввести в правила проживания пункт, по которому каждый обязуется разрешить обыск в своих вещах. Так, мол, удастся пресечь участившиеся в последнее время случаи воровства в комнатах общежития, укрепит пролетарское доверие друг к другу. Он представил на миг, как во время обыска у него в чемодане найдут нательный крест и ладанку. Отличник и общественник Кулинич верующий, говорит одно, делает другое. Бойкот затесавшемуся в наши ряды перерожденцу! К общественному суду! Наказать по всей строгости!
Полез волнуясь под койку, нащупал на дне чемодана под одеждой льняной лоскут с завернутыми крестом и ладанкой, сунул за пазуху. Вышел под сонное дыхание соседей за дверь, спустился по лестнице. В дальнем углу двора вырыл у забора перочинным ножиком ямку. Развернул на краю песчаной горки сверток. В заливавшем округу лунном свете блеснул сиротливо латунный крестик с цепочкой, глянула внимательно в лицо вышитая малиновыми нитками рукой матери Богородица на холщевой ладанке. Затрясшись в ознобе он схватил сверток, кинулся сломя голову назад.
Спустя несколько дней в общежитие нагрянули комитетчики из горсовета с приглашением на субботник по разбору кирпича и досок разрушенного собора на Петроградской стороне.
– Айда на помощь, братва, – заглянул в комнату бритоголовый толстяк в кожаном френче, судя по всему ответственный за мероприятие. – И-и по камушку, по кирпичику разберем мы поповский приход! – пропел смешно на мотив босяцкой песни.
Соседи по комнате стали нехотя подниматься, потянулись к выходу. Он сидел на койке, мучительно соображал, как поступить.
– А ты чего, браток? – улыбался толстяк.
– Животом маюсь, – выдохнул он. – Дизентерия.
– А, ну лежи тогда.
Организатор пошел к двери, обернулся:
– Дрисня пройдет, присоединяйся. Работы хватит…
6.
До Урала они добирались четверо суток. Ехали в общем вагоне, в скученности, духоте, махорочном дыму. Спали прижатые соседями уронив головы на плечи друг друга. Выстаивали по утрам очереди в залитую мочой уборную, бегали на остановках за кипятком, покупали выносимую к прибытию поезда окрестными жителями вареную картошку, свеклу, сушеную рыбу. Отсыпались днем под монотонный перестук колес, играли с соседями в карты, глядели бездумно в окно.
Вагонную скуку скрадывали нищие. Безногие, слепые, увечные. Толпились в коридорах, кланялись, просили денежку на пропитание. Рассказывали леденящие кровь истории, которые им довелось пережить, демонстрировали заколотые до колен булавками пустые штанины, жуткого вида шрамы. Возник однажды в дверях рябой мужичонка с грязнушкой-дочерью, рванул на груди видавшую виды гармошку, заголосил надрывно:
– Вот мчится поезд по уклону густой сибирскою тайгой…
– А-а молодому машинисту кричит кондуктор тормозной, – подхватила грязнушка.
– Ой, тише, тише, ради бога, – запели оба слаженно под перебор гармошки, – свалиться можем под откос, здесь неисправная дорога, костей своих не соберешь…
В песне говорилось, что машинист не послушался кондуктора, продолжал разгонять паровоз, поезд в результате свалился под насыпь. Молодому машинисту так и не пришлось вернуться под крышу родного дома, прижать к сердцу жену и маленькую дочь.
– … К земле прижатый паровозом лежит механик молодой, – надрывали душу певцы, – он с переломанной ногою и весь ошпарен кипятком…
Растроганные слушатели щедро одаривали артистов: сухарями, воблой, вареными яйцами. Заплаканная Стефанида извлекла из кошелька пятачок, протянула чумазой девчушке:
– Возьми, сестричка…
Певцы удалились, прошло какое-то время, с боковой лавки раздался внезапно истошный женский вопль:
– Сапожки! Сапожки сперли!
У тетки, ехавшей в Пермь к родственникам, пропали спрятанные под матрацем новые сапожки.
Несколько мужчин побежали вслед за пострадавшей в соседний вагон: не видать! Кинулись в следующий – жалостливых певцов с гармошкой и след простыл…
Дорога кишела ворами. «Скачками», «форточниками», карманниками, лже-артистами. В начале пути проводница предупредила складывая билеты в кармашки холщевой сумки: не зевать, быть начеку. Лучше всего организовать постоянное дежурство пассажиров, особенно по ночам.
– Учтите, граждане, дорога за украденный багаж ответственности не несет…
Где-то на вторые сутки, за Вологдой, обходивший вагоны начальник поезда в казенной фуражке провел в купе инструктаж.
– Значит так, – потирал воспаленные глаза. – Ночью прибываем на станцию Шарья. Самая, почитай, разбойная на северной дороге. Не было случая, чтобы во время стоянки кого-нибудь не ограбили. Как забираются в вагоны, неясно. Ни разу никого не поймали… Советую во время стоянки никому не спать. Мешки и чемоданы держать при себе, рядом. Можно к ноге привязать бечевкой или ремнем. Дернут, кричите как можно громче. Обе проводницы этой ночью дежурят, отдых отменен. Авось пронесет на этот раз…
По мере приближения к разбойной станции напряжение в вагоне нарастало. Пассажиры ощупывали лежавшие под лавками вещи, давали подзатыльники докучавшим не во время детям. Говорили шепотом, вспоминали похожие дорожные истории. Из конца в конец по коридору ходили озабоченные проводницы с фонарями. Опускали ставни на окнах, заперли на ключ обе двери в соседние вагоны.
В Шарью прибыли глубокой ночью. Отцепленный паровоз укатил в дальний конец станции на заправку водой, состав замер напротив одноэтажного вокзальчика с единственным мутно светившимися окном. Новые пассажиры не появлялись, в сумеречном вагоне было тихо, напряжение мало-помалу проходило.
– Пужали, пужали, – шепнула на ухо Стефанида. – Чего пужали, спрашивается?
Разминая затекшие ноги он вышел в коридор, добрался до площадки. Спустился держась за поручни к молчаливо стоявшим у дверей проводницам. Прошел неспеша взад и вперед по безлюдному перрону.
Вокруг ни души, покой, молчание ночи. Темнели среди путей приземистые склады, водокачка с пристроившимся внизу паровозом, будка стрелочника, свеженасыпанная гора антрацита с брошенной неподалеку тачкой. На маленькую станцию, домики спящего поселка на берегу речки лила оранжевый свет луна.
Широко зевнув он ухватился за поручни собираясь подняться, когда в полночной тишине из недр соседнего вагона раздался душераздирающий крик:
– Укра-али!!!
Разбойная Шарья взяла свое.
7.
– Товарища Аксенова сегодня не будет, – оторвалась от машинки кудлатая пишбарышня в приемной Соликамского отдела милиции. – Приходите завтра.
– Извините, товарищ, – улыбался он приветливо. – Нам только отметиться. Мы только что с поезда. Едем в Красновишерск на свидание с родственниками.
– Сказано же русским языком, товарищ, – досадливо передернула плечиками пишбарышня. – Приема нет. Товарищ Аксенов будет завтра.
Подхватив вещи они вышли в коридор, пошли мимо обитых дерматином дверей к выходу. Отыскали здание почты, отправили телеграмму в Красновишерск: «Будем днями. Ждите. Коля, Стефа».
День был хмурый, без солнца, дул в лицо холодный ветер. На берегах протекавшей через соляную кормилицу страны полноводной Камы лето, похоже, клонилось к концу. Люди на улицах были тепло одеты, мужчины и женщины в сапогах.
Поразмыслив они решили вернуться на вокзал, переночевать в зале ожидания. Шли отворачиваясь от ветра мимо бедных домишек с покосившимися заборами, гор отвальной породы, переплетения труб. Встали передохнуть возле отведенного под склады полуразрушенного собора, смотрели, как во двор въезжают нагруженные мешками с солью телеги. Он торопясь перекрестился на оголенные купола, бросил взгляд на Стефаниду. Та кривила с усмешкой губы, давала понять: выглядеть отсталым элементом не собирается.
В забитом до предела зале ожидания пропахшем человеческими испарениями они провели три ночи: начальник городского отдела милиции появился на службе только в конце недели.
– Добраться до места можете по реке или посуху, – объяснил ставя печати на пропусках. – Советую второе. И дешевле и безопасней.
По совету людей они разыскали на окраине одноногого инвалида по фамилии Коновалов занимавшегося извозом, сговорились на двенадцати целковых за поездку.
– Доставлю целехонькими, будете довольны, – ковылял вокруг телеги с запряженной кобылой заросший щетиной возница. – Дождь бы не пошел, а то беда: завязнем в хлябях. Ладно, ребята, – забрался на облучок, – давай по коням. Путь неблизкий…
От Соликамска до Красновишерска (бывшей Вижаихи) вдоль поросших лесом отрогов Уральского хребта было двести верст разбитой вдребезги дороги. Слезали то и дело, толкали на подъемах телегу с запарившейся кобылой. На ночной постой во встречных деревнях не останавливались сберегая копейку, ночевали под рогожей у костра, умывались из ледяных ручьев. Подкреплявшийся регулярно из бутыли домашним самогоном Коновалов рассказывал о годах проведенных в соляной варнице, о том, как потерял ногу под обрушившейся металлической балкой, ругал ленивую сожительницу не умевшую управиться с хозяйством.
– Гляди, братка, до чего красиво! – восклицала при виде очередного пейзажа Стефанида. – Лес какой ровненький. Будто гребеночкой причесали.
Тянувшиеся вдоль дороги пологие холмы утопали в массивах темно-зеленой хвои. Вставали по сторонам исполосованные исполинскими шрамами морщинистые кряжи, скалы-останцы напоминавшие стены старинных крепостей. Перебегали без боязни трусцой дорогу зайцы, росомахи, лисицы. Видели пробиравшуюся сквозь бурелом медведицу с двумя медвежатами. Выскочил однажды из-за пригорка, затрусил по лугу лось с редкостной красоты рогами. Остановился, глянул надменно.
– Айда с нами, парень! – закричал с облучка Коновалов. – Не обидим!
Тревожной нотой заставившей сжаться сердце предстал на третьи сутки Красновишерск. Небольшой поселок на речном берегу с дымившими на окраине трубами будто вымер. Ни души на улицах, опущенные ставни неказистых домов. Опоясывая по периметру луговую окраину темнеют на фоне леса окруженные рядами колючей проволоки приземистые бараки, сторожевые вышки.
– Доставайте документы, ребята, – озабоченно проговорил Коновалов. – Запретная зона пошла…
Словно в подтверждении выехали из-за угла трое верхоконные в фуражках, направились в их сторону.
– Кто такие? – навис над телегой военный с кобурой на ремне. – Паспорта предъявите! И разрешения на въезд…
Вертели передавая друг другу документы, задавали вопросы: откуда прибыли, на какой срок?
– Тебе, дед, дальше нельзя, вертай назад, – приказали Коновалову.
– Дак им до деревни энтой еще семь верст киселя хлебать, граждане начальники, – пробовал тот возразить. – Дозвольте довести. Хорошие ребята. Парень на дохтура лошадиного учится, девка рабочий класс, ударница…
– Вертай, тебе сказано! – возвысил голос старший. – Язык распустил… Что в поклаже? – заглянул в телегу.
– Одежа, гостинцы, – откликнулся он.
– Развяжи.
Рылись в вещах, щупали, разглядывали на свет. Старшой извлек из сундучка взятую им в дорогу книжку из институтской библиотеки: «Ташкент – город хлебный», полистал.
– Об чем книга?
– О голодающих. Мальчишка в Ташкент едет за хлебом.
– Лады, свободны, – вернул книгу старшой. – Вернуться обязаны точно в указанный срок. В противном случае будете арестованы…
Взвалив на плечи поклажу они пошли в указанную сторону. Выбрались за околицу, зашагали по колесным колеям к темневшему невдалеке перелеску, за которым садилось негреющее северное солнце. Останавливались перевести дыхание, сидели спина к спине на мшистых пригорках, отмахивались ветками папортника от туч комаров.
Вечерний хутор с тремя десятками деревянных изб по склонам неглубокого распадка возник внезапно едва одолели очередной подъем. Увидели: бегут в их сторону махая руками женщина в темном платке и двое рослых, похожих друг на друга парней в ватниках …
8.
– Не ведаю, как не подохли…
Лежавший на лавке отец зашелся в кашле. Долго хрипел, булькал горлом, отплевывался в лежавшую поверх одеяла миску.
В тесной избе с единственным окошком сумрачно, мигает подслеповато свисавший с потолка керосиновый фонарь с закопченными стеклами.
Услышанное в тот вечер не укладывалось в голове. Как можно так поступать с советскими людьми? Даже осужденными?
Везли родителей и братьев на Урал в переполненном вагоне для скота. Питались тем, что захватили в спешке из дому, спали вповалку на соломе, мочились и испражнялись в углу. Заболевших не лечили, нескольких метавшихся в жару сыпнотифозных конвоиры столкнули раздвинув стенку вагона под насыпь. По прибытию в Соликамск этап наскоро построили, погнали по слякотному бездорожью на Вижаиху. После зловонной, загаженной тюремной камеры на колесах идти подставив лица теплому солнышку, вдыхать смолянистый запах хвои было наслаждением. Останавливались по команде старшего конвоира на привалах, закусывали дорожной пайкой хлеба с селедкой, запивали водичкой из ручья. На ночь сворачивали в деревни, ночевали, кто в сдаваемых под этапы местными крестьянами избах, кто в сараях на соломе. Погода менялась по десятку раз на дню: то ясно, то тучи набегут, то туман, то морось. Когда на шестые сутки растянувшаяся колонна втягивалась через центральные ворота на территорию лагеря, с потемневшего неба падали невесомо прохладные снежинки.
Рассчитанный на несколько тысяч заключенных Вишлаг не мог вместить очередные этапы. Новоприбывшим выдавали лопаты, вели между деревянных строений в конец двора, чертили палкой место у поросшего разнотравьем бугра. Приказывали рыть землянки для ночлега. Пока не будут готовы новые бараки.
– Рыли, куда денешься, – рассказывал отец. – Пол хвоей застилали, стенки сушняком. Так и дотянули до больших морозов…
Выжить в нечеловеческих условиях помогала крестьянская закалка. Рубили топорами лес, свозили санями и телегами на стройплощадку будущего комбината. Подгоняло плетью, буравило мозг не выходившее из головы треклятое слово «норма». Выполнишь норму, получишь пайку, перевыполнишь, того лучше: запишут в трудовую книжку начет, за который в конце месяца полагалась премия в несколько рублей, на нее можно было купить в лагерном магазине хлеб, кровяную колбасу, пшенку, консервы, соленую воблу. Но, не приведи господь, было не справиться с нормой! Наказание следовало незамедлительно: морили голодом, «ставили на комарей», как выражались на лагерном жаргоне. Раздевали догола, привязывали к дереву, оставляли на несколько часов на съедение гнусу. Волокли через несколько часов в барак, неузнаваемого, с оплывшим, обезображенным лицом.








