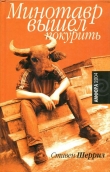Текст книги "Минотавр"
Автор книги: Геннадий Гор
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
– Мы с ним друзья. Настоящие большие друзья. И, кроме того, нас связывает вместе нечто особое и, если употребить любимое словечко этого красноречивого фантаста, нечто глобальное. При Сереже я так не сказал бы. Сережа терпеть не может громких слов. Его девиз-скромность.
– Скромность? Ну, что ж, это не так уж плохо. Скромного, тихого человека всегда легче убедить или переубедить. Убедите его, что Черноморцева-Островитянина нельзя бросать в беде. Черноморцев делает полезное дело, прививает юношеству любовь к знаниям, к полету фантазии и мечты.
– Бросьте. Ваш Черноморцев-Островитянин заурядный беллетрист. Для него самое важное – тиражи. Из-за тиражей он и занимается фантастикой.
– Поверьте, это несправедливо. Он любит свое дело. Любит. И нельзя его винить, что он нуждается в консультации, нельзя оставлять его без консультанта.
– Пусть консультируется у кого-нибудь из ученых.
– Это не то. Его преимущество и состоит в том, что он консультировался у Сережи. А Сережа на самом деле не Сережа, а тот... Я вполне понимаю страдания Черноморцева. Даже Уэллс и тот не имел возможности посоветоваться с кем-нибудь вроде Сережи.
– Ну, и что? Уэллс все равно писал лучше, чем этот Черно-морцев-Островитянин, Но будет о нем. Неинтересно, Мне надо идти. Меня Сережа ждет. Мы с ним условились.
И Серегин исчез, даже не простившись.
19
Придя вечером ко мне, Черноморцев-Островитянин сразу же заявил, что он приехал на такси и такси его ожидает у ворот дома.
– Что ж, – сказал я, – я вас не задержу.
– Зато я вас задержу, – сказал фантаст. – У меня к вам глобальных масштабов дело.
– Так сначала отпустите такси,
– Нет, не отпущу. Пусть ждет. Это моя привычка. Я люблю, чтобы меня ждали. Одно сознание, что меня никто нигде не ожидает, может привести меня в полное отчаяние, Я всегда опаздываю. Хочу, чтобы меня везде ждали. Но сам я не люблю ждать. И потому пришел к вам.
– Не понимаю.
– Сейчас объясню. У вас есть аспирант по фамилии Серегин?
– Есть. Он только что был у меня и ушел незадолго до вашего прихода.
– Отлично. Великолепно. Этот ваш аспирант занимается семиотикой, изучением знаков?
– Да. На будущий год будет защищать диссертацию.
– Отрадно. Превосходно. Значит, вы его научный руководитель?
– Да.
– Отлично. Но вам не мешало бы знать о некоторых весьма существенных особенностях вашего подопечного,
– Какие же это особенности?
– Не очень отрадные, скажем прямо,
– Точнее?
– Он авантюрист.
– Осторожнее. Я не люблю, когда о моих знакомых...
– Понимаю. Но он не только авантюрист, он еще и глупец. Легковерная личность. Представьте, он поверил в совершенно невероятную, нелепую, невозможную вещь, что Сергей Спиридонов, продавец в книжном магазине на Петроградской стороне, ни больше, ни меньше, как пришелец... Представитель инопланетного Разума. Не смешно ли, а?
– До смеха ли тут. А на самом деле кто он?
– Мой воспитанник. Я взял его из детского дома. Возился с ним. Учил его языкам. Хорошим манерам. Потом он заболел, сразу после того, как кончил школу. Редкий случай. Представьте, вообразил себя представителем инопланетной цивилизации. Необыкновенно мощное воображение. Феноменальные телепатические способности. Ясновидение. И, кроме того, глобальное умение внушать себе и другим.
– А вы не пробовали эксплуатировать эти глобальные способности?
– Эксплуатировать? Ну, зачем же так прямолинейно и несправедливо? Иногда советовался. Разве это возбраняется? Почти сын. Воспитанник. Ужасно любит книги. Но вернемся к вашему аспиранту. У него есть какие-то свои цели. Пока о них можно только гадать. Но он настраивает Сережу против меня. Поверьте, я этого не потерплю. На моей стороне право...
– А что бы вы хотели от меня?
– Хотел, чтобы вы немедленно вмешались, пресекли.
– Но он же аспирант, не школьник, поймите. Через год кандидат наук. Как я могу вмешиваться в его личные отношения с этим Сережей?
– Тогда я буду вынужден обратиться за защитой к прессе. У меня мировая известность. Думаю, ни вам, ни вашему подопечному не будет кстати фельетон... Громкая огласка. Вашего интригана выведут на чистую воду.
– За что? За то, что ему не очень нравятся ваши романы? Никак не могу понять, в чем его преступление?
– Фельетонист это сумеет объяснить лучше меня. Извините. – Он посмотрел на часы. – Меня ждет такси.
– Но вы же любите, когда вас ждут.
– Да. Но это иногда дорого мне обходится.
В голосе его опять послышались приятные мягкие нотки.
– Извините. Только поистине глобальные обстоятельства вынудили меня оторвать вас от ваших дел. Надеюсь, вы объясните вашему легковерному аспиранту, что он ошибается. Сережа родился от земных родителей. От земных. Понимаете? Даже слишком земных, как выяснилось в детдоме, когда я брал его на воспитание.
– А что его заставило внушить себе...
– Что?
Собравшийся уже уходить писатель снова сел в кресло.
– Буду до конца откровенен с вами, хотя не знаю, заслуживаете ли вы моей откровенности. На Сережино сознание очень подействовала обстановка моего дома. Духовная атмосфера. Все эти мысленные соприкосновения с космосом, с Вселенной. И, конечно, мои книги, к которым он пристрастился, учась в школе.
– Может, вам не следовало брать его из детдома?
– Этот вопрос я не намерен обсуждать с вами. Он вас не касается. . Гость поднялся с кресла.
– Извините. Убегаю. Убегаю с надеждой, что вы разъясните вашему аспиранту. Мой приемный сын Сережа болен... Выражаясь словами поэта, "прекрасно болен". Его болезнь позволяет ему творить почти чудеса. Но все же это болезнь, хоть и прекрасная болезнь. Разве можно об этом забывать? Я вам позвоню. Непременно позвоню.
Он оглянулся, усмехаясь:
– А вы ждите, ждите моего звонка. А? Теперь будете ждать? Волноваться? Я знаю. Так уж устроен у людей внутренний механизм. И не теряйте, пожалуйста, из-под ног реальную почву, как ваш склонный к внушению аспирант. Сережа эем-ной человек, хотя и похож чем-то на князя Мышкина. Но он зем-ной. Понимаете? Зем-ной, И родился где-то здесь, на Петроградской стороне. Рядом с вами.
20
Рассказывая Серегину о визите фантаста, я попытался передать и черноморцевско-островитянскую интонацию, всю ту энергию и страсть, которые вкладывал в слово зем-ной этот любитель всего потустороннего и внеземного.
Я следил за выражением лица своего аспиранта. Оно менялось, становилось все мрачнее. И было так неожиданно, когда он вдруг весело рассмеялся.
– И вы поверили ему? – спросил он. – Поверили?
– Очень бы хотелось не поверить. Очень! Но, согласитесь, на его стороне все-таки здравый смысл. Я ведь все время боролся с собой. Я сомневался даже в те минуты, когда изображение, играя с моей логикой в непозволительную игру, то появлялось, то исчезало на страницах черноморцевской книги. А он все объяснил.
– Все? Все объяснил? А он не рассказывал вам, почему у него сейчас творческий кризис?
– Нет, о кризисе он не упоминал. Да и согласитесь сами, кризис со всяким может случиться. А Черноморцев на восьмом десятке. Он и на отдых право имеет.
– Ну, хорошо. Допустим, я соглашусь с вами, а заодно и с ним. Сережа действительно внушил себе, а теперь внушает нам. Но откуда у него такие огромные знания? Откуда он знает то, чего не знает земной опыт, современная наука? Что же, по-вашему, он ловкий фокусник, немножко ясновидец, немножко гипнотизер?
– Все же в это поверить легче, чем в то, в другое, во что верят только дети, начитавшиеся фантастических романов. Да и Черноморцеву-Островитянину какой смысл скрывать?
– Какой смысл? Да самый простой. Превыше всего на свете он ценит себя и свои собственные сочинения. Сережа для него клад, истинный клад. Представьте себе Уэллса, получившего возможность консультироваться с марсианином...
– Представляю, хотя и с трудом. И что же, Уэллс, войдя в сомнительную сделку с инопланетцем, стал бы скрывать...
– Но ведь это же не Уэллс. Это Черноморцев-Островитянин. Большая разница.
– Кое-какая разница, конечно, есть. Но все равно поверить в то, что Сережа ясновидец и телепат, а не инопланетец, в тысячу раз легче. Ведь преодолеть тысячи световых лет...
– Ну, и что ж, – перебил меня Серегин, – ведь не вы преодолели и не ваша слишком любознательная домработница, а Сережа. Понимаете, Се-ре-жа! Говорите, фантаст запугивает фельетоном? Не боюсь я фельетона. Пусть пишут. С одной стороны фельетон, а с другой...
Он вдруг замолчал, словно забыв обо мне.
– Ас другой? – спросил я.
– Вы сами знаете, что с другой.
– А доказательства где?
– Доказательства? А разве их было мало? А то, что я был рекой, а вы видели свое детство?
– Это не доказательства.
Ладно. Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Ну, как дела у вашего лейтенанта милиции?
– У Авдеичева? Все в порядке. Невропатолог посоветовал взять отпуск и отдохнуть где-нибудь в деревне. Майор отпустил. Был милостив. Дал совет не читать фантастических романов, особенно тех, которые действуют на нервную систему. И Авдеичев укатил к сестре в колхоз. Вчера приходил прощаться. Вам бы тоже следовало взять пример с этого лейтенанта, немножко отдохнуть, подлечить нервы.
Забегая вперед, я должен сказать, что Серегин послушался моего совета, уехал в Пушкинские горы вместе с Сережей, взявшим отпуск. Очень уж хотелось Сереже побывать в пушкинских местах, а тут подвернулась возможность.
Но в тот раз мой аспирант не показал и виду, что у него нервы не в порядке. И даже обиделся на мое предложение. Ушел как провалившийся на экзамене.
В дверях обернулся и сказал:
– Не ожидал я этого от вас.
Признаюсь, его слова меня смутили. Естественно, я был склонен, как и каждый человек, скорей поверить в факт, в обыденный 'И легко согласующийся с логикой факт, чем в чудо. И все-таки что-то во мне боролось, сопротивляясь очевидности. Минут сорок я ходил по комнате взад и вперед из угла в угол. Затем надел паль-то и вышел на улицу. Что-то тянуло меня туда, в книжный магазин на Большой проспект.
В книжном магазине в этот час было много посетителей. Я остановился недалеко от кассы в углу и оглянулся. Сережа, как всегда, был на своем месте за прилавком. Он сбрил бороду и усы и теперь был похож уже не на Диккенса и не на Чехова, а на обычного современного молодого человека из интеллигентной семьи.
Я смотрел на него, словно надеясь сквозь его теперь уже обычную внешность разглядеть нечто несбыточное, не имеющее корней на этой привычной для наших чувств планете. Но что-то мешало мне. Не хватало остроты восприятия, как после бессонной ночи, когда смотришь в окно и пытаешься соединить куски вдруг распавшегося на части мира. Я видел Сережины руки, завертывающие книгу, его длинное узкое интеллигентное лицо, необычайно помолодевшее без бороды, его плечи и на этот раз подстриженную нулевкой голову, но я не мог собрать в целое эти части распадавшегося образа.
Я стоял и смотрел. Он поднял голову и увидел меня. И вдруг его образ, образ современного молодого человека слился с тем представлением о нем, которое было в моем сознании до беседы с фантастом. Всю обыденность повседневного словно сдуло ветром.
Это был уже не Сережа Спиридонов, а тот, другой, которого послало сюда Неведомое.
21
Черноморцев-Островитянин хотя и заставил ожидать себя, но все же позвонил. Он позвонил в два часа ночи, словно обстоятельства требовали этого ночного звонка. Нет, обстоятельства не требовали.
– А вы знаете, – сказал он, – а вы знаете, куда уехал Сережа?
– Знаю. В Пушкинские горы. Вместе со своим приятелем, моим аспирантом. Я получил от него довольно милую открытку.
– А почему именно в Пушкинские горы? Почему?
– Красивые места, связанные с памятью великого поэта...
– Оставьте ваши банальности. Красивые места... Оставьте! В голосе фантаста слышалось сильное раздражение. Очевидно, Пушкинские горы его устраивали еще меньше, чем всякое другое место.
– А фельетончик в работе, – услышал я, – Фельетончик, Злая, остроумная статейка. Внешний и внутренний портрет вашего аспирантика. Портрет, имеющий разительное сходство с оригиналом. Он должен появиться в "Вечерке" не позже, чем в конце будущей недели. Вряд ли он доставит большое удовольствие вам и администрации вашего института. Вряд ли.
Я повесил трубку.
Снова раздался нетерпеливый звонок. Я снял трубку и снова повесил.
Снова раздался звонок. Я снова снял трубку, но уже не стал вешать.
– Извините, – услышал я. – Нас разъединили. Ужасное чувство. Между тобой и собеседником кто-то уже поставил глухую стену. Вы слышите меня? Вы слышите? Не принимайте мои слова слишком близко к сердцу. Фельетона не будет. Я пошутил. Но поймите меня, поймите. У меня отбирают сына. Поймите... Поставьте себя на мое место.
– Я не пишу фантастических романов.
– Это не важно. Вы занимаетесь тоже не совсем обычным делом. Вы пытаетесь отделить от человека его язык и посмотреть со стороны. Что такое семиотика? Изучение коммуникаций с помощью знаков? Мой Сережа, соединяя себя с собеседником, может обходиться без знаков. Ему не нужны коммуникации. Он сливает свое я с любым ты без помощи языка. Его телепатические возможности безграничны. Да, он феномен. Зем-ной феномен, Зем-ной. Хорошенько вдумайтесь в его необыкновенные способности. Для них не существует ни времени, ни пространства. Не по-думайте, что я кантианец, считающий пространство и время суб-ективными категориями. Я материалист! Материалист. Диалектик! Но мы очень мало знаем о времени, а еще меньше о телепатической связи. Может, Сережа и действительно имеет контакт с иной цивилизацией. Но он зем-ной. Я не уступлю! Я его воспитал! Здесь, на Земле, в этом городе. У него есть адрес и паспорт. Он прописан. Но не только пропиской и паспортом он связан с Землей. Не только. Поймите! Теперь он уехал. Ваш аспирантик увез его в Пушкинские горы. Это неспроста.
– Не понимаю, – перебил я фантаста, – какую опасность могут представлять Пушкинские горы для человека, который продает книги?
– Он слишком впечатлителен! И кроме того... Нет, я кое-что должен утаить. Еще не пришло время. До свиданья! Еще не пришло!
Теперь не я, а он повесил трубку. И я был этому рад.
Наступила тишина, покой. И я был рад этой тишине, покою. Я писал для толстого журнала статью о Жане-Франсуа Шампольоне, дешифровавшем древнеегипетскую письменность.
Перед моим мысленным взором возник человек, заставивший говорить онемевшее прошлое.
Я писал о том, как приоткрылась завеса и мы смогли почувствовать во всем трепете живой конкретности давно уже мертвый мир.
В глухих застывших знаках было спрятано величие и страсть; "Я дивлюсь тебе. Я простираю власть твою и ужас перед тобой на все страны, страх перед тобой до пределов небес".
22
Письмо из Пушкинских гор от моего аспиранта Серегина – это обрывок сновидения, подклеенный к куску киноленты.
Валя писал о своем друге Сереже так невнятно и загадочно, что я с трудом пробирался сквозь чащу слов к смыслу, к странной, незнакомой, внеземной логике, которая снова затеяла игру с Серегиным, а через него и со мной.
По словам моего аспиранта, Сережа сетовал, что он опоздал. Ему необходимо было встретиться с Пушкиным или с Хлебниковым. Но когда он прилетел на Землю, ни того, ни другого уже не было в живых. Ошибка в подсчетах, крошечная неточность, мимолетная задержка, а тут, на Земле уже время утекло и одна эпоха сменила другую. Какая ему теперь разница – опоздал ли на час или на целое столетие. Время утекло, и то, что утрачено, почти не поддается возвращению.
Почему с Пушкиным и почему с Хлебниковым? Почему не с Ламарком, не с Винером, не с Эйнштейном?
Сережа объяснил своему приятелю Вале, а сейчас Валя, мой аспирант, объяснял мне, посвятив этому три страницы своего пространного письма.
Мне объясняли то, что я не способен был понять.
Я напрягал все душевные силы, чтобы почувствовать смысл того явления, о котором писал мне Валя. Он писал, что Хлебников был голосом рек и лесов, что посредством него с нами разговаривала сама природа.
Но ведь это было только красивое выражение, только метафора. Так думал я, но Валя и Сережа представляли это иначе.
Меня удивляло и другое-то, что Валя научился думать так, как мыслил его удивительный приятель.
Но вернемся к письму, которое сейчас лежит передо мной на письменном столе и манит в глубины невнятного и нерасшифрованного, не переведенного на язык нашей, земной логики.
В письме были пропуски, по-видимому, Валя не мог или не хотел сказать всего, чего требовала беспощадная ясность мысли.
"О чем бы ты стал беседовать с Пушкиным, если бы не опоздал на сто тридцать лет?
Сережа не ответил на мой вопрос.
Тогда я сказал ему, что Пушкин, несмотря на свой гигантский ум, не был подготовлен к разговору с представителем внеземной биосферы. Ведь он жил в первой половине XIX столетия, когда не было космических ракет и бешенство ядерной энергии пребывало в покое, как джин в закупоренной бутылке.
Он снова промолчал, словно не слышал моего замечания.
Да, между нами стояла глухая стена, и я уже стал жалеть, что приехал с ним в эти края.
Сережа ходил погруженный в себя и вдруг прислушивался к чему-то не слышному мне, долетавшему до его обостренного слуха.
В тот день, о котором идет речь, мы вышли на прогулку.
Сережа всматривался с таким видом, словно он уже бывал здесь когдагто. Он тихо и задумчиво читал:
Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Когда мы возвратились, он вдруг спросил меня:
– Хочешь почувствовать это?
– Что? – спросил я.
На лице его играла усмешка.
– Не спрашивай, что. Хочешь?
– Хочу, – ответил я тихо.
А потом вдруг и сразу я почувствовал себя берегом реки и березовой рощей, и Пушкин был тут, рядом. Я слышал его шаги и голос., повторявший:
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою.
Он был тут, и мгновенье струилось, как воды.
Его шаги на тропе, и прикосновение легкой пушкинской руки к березовому стволу, и я уже не думал о том, кто я – роща или слова поэмы, вобравшей в себя лето и окрестности и небо над водой вместе с синим облаком и речной рябью, или крыло ласточки.
Прикосновение легкой пушкинской руки, – и шаги стали уда-ляться. А потом все вдруг оборвалось...
– Ты слышал его? – спросил тихо Сережа.
– Слышал.
– Ты слышал не его. Да и как ты мог его слышать? Это заговорила роща.
– Не все ли равно, – сказал я".
23
"Всякий раз, говоря о Пушкине, Сережа вдруг переходил на шепот, словно поэт был рядом и мог услышать, что о нем говорят.
Ощущение, что далекое прошлое тут, рядом с нами, пьянило меня, как глубины океана, и я погружался в это удивительное состояние, не чувствуя под ногами, дна. Вокруг меня и во мне, как в море, шумело время, то убегая вперед, то возвращаясь...
Догадка мелькнула, на мгновение ярко осветив этот мрак неизвестного, но это было только предположение, которое я пока ничем не могу подтвердить.
Человек обладает памятью, хранящей личное прошлое, прожитое, опыт. Сережа не человек. Он завершение иной эволюции, другой, не земной, неведомой нам биосферы. Эволюция дала ему загадочную и чудесную способность проникать сквозь волны времени.
Я пытался узнать хоть что-то об этом особом видении у самого Сережи, но он всякий раз начинал шутить и смеяться и говорить о том, что каждый поэт и художник обладает этой способностью.
Я напоминал ему, что наш диалог начался, мы посредники и что за все существование Земли, возможно, не было более значительного разговора, чем наш. Тогда он начинал смеяться еще громче и дурачиться, как школьник во время перемены. И он делал это неспроста, желая посеять во мне сомнение. Он хотел, чтобы я думал, что он заурядный сотрудник Книготорга в Ждановском районе, самый обычный гражданин, как нельзя больше довольный своей земной биографией и своей работой, мечтающий только об одном – благополучно дожить до пенсионного возраста...
Удалось ли ему посеять во мне сомнение? Разумеется, нет. Чем больше он дурачился, чем больше прятался за спину своей земной профессии, тем больше убеждался я в его внеземном прошлом.
Никто не догадывался, что тот, кого я называл Сережей, был достоин внимания не меньше, чем любой знаменитый артист. Все считали его самым заурядным парнем на свете, и особенно туристы и туристки, прибывшие в Пушкинские горы, подчиняясь спортивному азарту и желанию умножить свои впечатления.
Никто из них не догадывался, что Сережа тоже был своего рода рекордсмен, но рекордсмен до беспредельности скромный, не рассказывающий никому о своем затяжном прыжке, вобравшем в свою орбиту сначала солнечную систему, а затем и эти во всех отношениях замечательные места, где некогда жил великий поэт.
Но даже и такому существу, как Сережа, казалось бы, лишенному начисто наших земных недостатков, не чуждо было нечто человеческое. И вот, поддавшись соблазну, он совершил поистине легкомысленный поступок, не достойный той великой миссии, которую он здесь выполнял. Сережа помог одной обремененной скукой туристке, не слишком молодой, но чрезвычайно молодящейся и жаждущей сильных ощущений, превратиться в облако, немножко повисеть над полями и рекой, а потом благополучно спуститься с неба на землю, уже окутанную вечерним сумраком, спуститься, словно на парашюте.
Факт не удалось скрыть от наблюдательных глаз. Многие нашли странным облако, имевшее вполне определенную фигуру довольно объемистой женщины.
Зачем это сделал неосторожный Сережа? Туристка, сначала немножко поскромничав, в конце концов призналась, что это была она. Вот нам и приходится спешно сматывать удочки, чтобы избежать вопросов, на которые трудно ответить".
Я только успел дочитать письмо своего аспиранта, как раздался телефонный звонок.
Голос Черноморцева-Островитянина на этот раз был необычайно мягок и даже лиричен. Волна теплоты и ласки хлынула на меня из телефонной трубки.
– Коллега, – назвал он меня.
– Простите, – прервал я его, – я не пишу фантастических романов и не намерен и впредь...
– Коллега, – повторил он, – не будем вдаваться в ненужные тонкости. Я тоже не всегда писал романы и не всегда буду их писать. Сейчас я мечтаю об отдыхе. Хочу собрать материал для одной небольшой вещицы на тему, близкую к теории знаковых систем, к семиотике. В душе рассчитываю на ваше любезное содействие, на скромную помощь, на небольшую консультацию.
– У вас же есть консультант.
– Кто?
– Сережа.
– Этот невежда? Бывший продавец лотерейных билетов? Да вы смеетесь? К тому же он занимается непозволительным делом. Волшебничает. Разводит разные суеверия и мрак. Это в наш-то век! Рано или поздно его привлекут к ответственности. Его и его покровителей из Книготорга. Доверить такой духовно незрелой личности работу с книгой. Вы молчите? Молчите? Выскажите свое мнение! Желаю знать ваше кредо.
Я повесил трубку. Снова раздался звонок. Я снова снял труб-ку и снова повесил. Телефон трещал.
Я снял трубку.
– Нас разъединили, коллега, – услышал я. – И это не первый раз.
Я снова повесил трубку и вышел на кухню сварить кофе.
Телефон продолжал трещать.
Настырность фантаста, его напористость оказались сильнее меня. И вот, забегая на несколько дней вперед, я должен признаться, что взял на себя неблаговидную роль и стал консультировать человека, который не внушал мне особой симпатии. У меня не хватило характера отказать, а может, и ввело в соблазн чувство, сомнительное, впрочем, чувство, сознание, что я должен заменить Сережу, самого необычного из всех советников и консультантов, какие когда-либо существовали на Земле.
Черноморцев-Островитянин в благодарность подарил мне все написанные им книги. И вот я сижу и читаю их, пытаясь найти следы Сережиного участия.
Увы, все эти многочисленные романы, повести и рассказы не стали мостом, соединяющим земную и хорошо известную нам действительность с той сферой, которую хранила Сережина память. В чем дело? Я не мог себе этого объяснить и не сумею объяснить вам. Это тоже было своего рода загадкой. Может, слишком земным, а следовательно, и приземленным был талант нашего знаменитого фантаста, не сумевшего слить свой слишком здешний и знакомый всем голос с тем нездешним и незнакомым, чьим представителем является субъект, спрятавший свое сверхобычное существо за обыденной внешностью сотрудника Ленкниготорга.
Нельзя сказать, чтобы фантаст не делал никаких попыток объять своей земной мыслью нечто особенное и выходящее за сферу нашего обыденного опыта. Наоборот, он все время уносился мыслью далеко за пределы нашей солнечной системы, но только одной мыслью, сердцем же и всеми своими земными чувствами оставался дома, в своей комфортабельной квартире, с ее привычным и давно обжитым миром. Короче говоря, в Черноморцеве-Островитянине было слишком много от бойкого беллетриста и слишком мало от подлинного художника. Традиционная и во многом обветшалая система наивного приключенческого романа не в состоянии была схватить и передать сложную сущность зрелого Сережиного опыта, голосом которого с нами пыталась заговорить биосфера и история загадочной планеты, чья цивилизация сумела доставить Сережу сюда, развременив время и развеществив пространство, сжав до отказа главную пружину бытия.
Передо мной был пустой сосуд, раскрывшаяся ладонь, которая держала нечто, но не сумела удержать. Книги Черноморцева-Островитянина напоминали капкан, из которого только что убежала добыча, не тронув приманку.
И я закрыл эти книги с досадой и положил их на полку.
24
Нет, фантаст все же чувствовал разницу между мной и Сережей. И время от времени он давал мне это почувствовать и понять.
Он даже не удержался и сказал:
– Вот если б вы тоже были оттуда.
– Откуда? – поинтересовался я.
– Ну, оттуда, откуда прилетел к нам Сережа.
– Разве он откуда-нибудь прилетел? Вы же взяли его из детского дома?
– Да, да, – уже кивал и соглашался со мной фантаст. – Я это только в метафорическом смысле,
Он сидел рядом со мной и рассеянно слушал. Я объяснял ему, что такое идеограмма. Я рисовал на листе бумаги сосуд, из которого льется вода, образчик идеограммы, обозначающей свойство прохладно. Да, существовало на Земле время, когда люди прибегали к слишком наглядной и предметной информации, еще не умея оторвать свою не слишком гибкую мысль от форм самих вещей.
Я говорил, следуя за логикой той увлекательной дисциплины, которой я отдал много лет.
Но что-то мешало фантасту меня слушать. Ему не давало покоя сознание, что Сережа, занявшийся книжной торговлей и увлекшийся дружбой с моим аспирантом, отказывается делиться с ним своим уникальным опытом.
– Я выведу его на чистую воду, – ворчал маститый фантаст. – Тоже мне этот кудесник! Волшебство запрещено, как опасный пережиток. Нет, я угощу его фельетончиком или даже серьезной научной статьей, его и вашего неосторожного аспирантика. Пора положить этому конец. В каком веке мы живем, в каком веке?
Я пытался его успокоить.
– Насчет волшебства, – говорил я, – я ничего не встречал в законах. Волшебство кодексом не предусмотрено.
– А суеверие и мрак?
– Но ведь у него все на строго научной основе, на опыте, который он принес оттуда к нам на Землю!
– Типичная лженаука, родная сестра телепатии.
– Насчет лженауки в кодексе ничего нет. Да и нельзя. При желании кого угодно можно объявить лжеученым или телепатом.
– Не спорьте. Речь идет о волшебстве. Это нужно пресечь. И я пресеку с помощью общественности и прессы.
Я пытался урезонить фантаста, отвлечь его, увлечь своей любимой наукой историей знаков. Я рассказывал ему о древнеперсидском клинописном алфавите, но он слушал рассеянно. Его томила одна и та же мысль, одно и то же желание.
– Я принципиальный человек, – говорил он, – и мое материалистическое мировоззрение не позволяет мне мириться с этим мраком и суеверием, которые он тут распространяет.
– Но раньше, – убеждал я его, – раньше, до того, как Сережа отказался сотрудничать с вами, ваше мировоззрение позволяло же вам не замечать его некоторые странные особенности.
– Это была моя ошибка, которую я должен исправить.
Я что-то пытался ему сказать, но он меня не слушал.
– Нет, нет. Не мешайте мне. Я должен найти контакт со своей совестью и немедленно исправить свою ошибку.
– А что вы намерены делать?
– Пресечь. Понимаете, пресечь. Не допустить, чтобы невежественная личность продавала книги. Пресечь. Немедленно пресечь всякое волшебство.
– А факты? – спросил я. – Где же факты?
– Факты? Их сколько угодно. До меня дошли слухи, что и в пушкинских местах он позволил себе сомнительную игру со здравым смыслом. Представьте, одну пожилую туристку, преподавательницу английского языка... Да, да, он нанес ей моральный ущерб, нравственное увечье. В результате она потеряла веру в законы природы. Я это должен пресечь. Моя материалистическая совесть требует немедленных действий.
25
Серегин был чем-то встревожен. Он сидел напротив меня у окна, нервно курил и сосредоточенно о чем-то думал.
– Расстроили угрозы фантаста? – спросил я. – Думаете, он в самом деле подымет шум?
– Нет, он, как тот, про кого сказал Толстой. Пугает, а нам не страшно. Я тревожусь за Сережу.
– А что с ним? Болен?
– Да. Притом странная болезнь. Изменился, пополнел, стал как будто ниже ростом. Так переменился, что не может даже пойти на работу.
– Неважно себя чувствует?
– Наоборот. Чувствует себя отлично,
– Отлично? Так почему же он не может пойти на работу?
– Пойти-то он может. Сослуживцы не узнают. Директор. Покупатели. Я же говорю, он сильно изменился.
– Постарел?
– Нет, просто стал совсем другим человеком. Боюсь, что это даже не признают за болезнь. Не дадут бюллетень. Не положат в больницу. Не окажут необходимой помощи.
– А что, собственно, произошло?
– Почти ничего. Пустяк.
– А все-таки?
– Вы видели когда-нибудь портрет знаменитого французского писателя Ги де Мопассана?
– Видел!
– Так вот он теперь вылитый Мопассан. Черные усы. Густая речь. Румянец. Понимаете? Теперь он Мопассан.
– Как же быть? – спросил я.
– Вот я и пришел к вам посоветоваться. Такая проблемка мне одному не по плечу.
– Но почему, как это случилось?
– Не знаю.
– А сам Сережа? Сам-то он чем-нибудь это объясняет?
– Сережа? Да ведь его нет. Ведь он сейчас не он, а Ги де Мопассан, знаменитый французский писатель.
– Вообразил себя?
– Не вообразил, а превратился. Румянец. Усы. Южные манеры. И полное сознание, что он в девятнадцатом веке. Все это было бы полбеды, если бы вокруг в самом деле был девятнадцатый век. Просто не знаю, как быть. Его невозможно одного пустить на улицу. А главное, никому ничего невозможно объяснить – ни соседям, ни управхозу, ни даже вам.
– А как ом будет жить?
– Откуда я знаю? Надеюсь, что он снова превратится в Сережу.
– Не надо никому ничего говорить. Давайте держать в секрете.
– Нельзя скрыть от всех человека, да еще такого экспансивного, полного жизни. Я сейчас боюсь, чтоб он не вышел на улицу. Он обожает гребной спорт. Мечтает покататься на лодке.