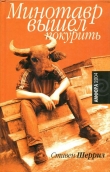Текст книги "Минотавр"
Автор книги: Геннадий Гор
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Трезвый ум сотрудника милиции пытался очистить пока еще загадочный факт от всего сомнительного, противоречившего той логике, которую создало человечество почти за миллион лет своего существования. И мне очень хотелось положиться на трезвость и строгую последовательность лейтенанта, избавив себя от всяких сомнений и тревог.
Но ведь я не был до конца откровенен с дежурным. Я не рассказал ему, какие дерзкие идеи выдвигал Черноморцев-Острови-тянин, и о том, что я непонятным образом обнаружил себя привлеченным им для доказательства этих идей то на экране телевизора, то на страницах книги, только что изданной, но почему-то оказавшейся уже уцененной. Всего этого не знал лейтенант, рассуждавший трезво, здраво, с завидной последовательностью и не старавшийся быть педантично-мелочным в исполнении закона. Он отпустил меня домой, когда с помощью логики расставил все на свои места.
Да, он расставил все на свои места, но меня это не успокоило. Смутное тревожное чувство заставило меня мысленно глядеть в одну точку. Ведь кто-то неизвестный, состоящий в явном противоречии со здравым смыслом, играл со мной посредством загадочного рисунка в книге, которая лежала сейчас открытой на моем письменном столе.
На минуту отвлекшись от своих мыслей, я пошел на кухню, зажег газ, поджарил яичницу из трех яиц, сварил кофе.
Я всегда варил кофе сам, и приходящая домработница Настя, веселая беззаботная вдова, обижалась на меня, словно я не доверял ее искусству. Но сейчас Насти не было. Она, по-видимому, пошла поболтать на угол к приятельнице, продававшей газеты, и стоит у киоска спиной к очереди, нарочно досаждая нетерпеливым и слишком нервным покупателям.
После завтрака, сытый и несколько успокоенный, я вернулся в кабинет и углубился в чтение фантастического романа, странного, двусмысленного и живого, как организм, добытый со дна инопланетного океана.
Я оказался наедине с представителем планеты Ин, сумевшим войти в интимный и загадочный контакт со мной. Я сразу пожалел, что не был философом, чтобы вести мысленную дискуссию и при том не попасть впросак.
С высоты своего духовного и социального опыта некий внеземной экзаменатор обращался ко мне с вопросами, как бы вопрошая не только меня, но и законы человеческого мышления.
– Время, говорите вы? – почти кричал он на меня. – Соизвольте объяснить, что это такое!
Я ведь не Гегель и не Спиноза, чтобы объять словами такие глубины. Я бормотал что-то о необратимости времени, о том, что настоящее по отношению к будущему всегда является прошлым.
Но ему, овладевшему законами времени, казалось все, что я говорил, наивным и смешным, как рассуждение неандертальца о сущности квантовой механики.
Жизнь творит порядок из беспорядка. Кто станет это оспаривать? Но жизнь индивида всегда зависела от времени, от его неумолимых рамок, заключенных между началом и концом. Жители планеты Ин, управляя законами природы, научились обходить прямолинейную направленность времени. Взрослый при желании мог вести диалог с юношей или ребенком, узнавая в нем себя, располагая собой во времени, как в пространстве.
Мои математические познания были не настолько сильны, чтобы понять принцип превращения времени в пространство, особое пространство, текучее, динамическое, но все же не однонаправленное, а собирающее в одном фокусе все соотношения разновременного.
У меня уже начала побаливать голова от затраченных мною усилий, от страстного желания понять то, что противоречило законам земной человеческой логики, как вдруг страница кончилась, а на другой я прочел эпизод, имеющий прямое отношение к моему детству.
Со страниц этой удивительной книги окликнул меня школьный учитель Николай Александрович. Далекое прошлое поманило меня. Учитель назвал мое имя, и я подошел к географической карте, к той карте, какой она была в 1919 году. А за окном весна, деревья и небо моего детства, и солнце большое и яркое, совсем не такое, как сейчас.
С непостижимым мастерством была протянута нить между мной и тем, что исчезло бесследно. Я стоял в классе возле географической карты, и сердце мое билось, и в ушах гудело от тысячи мыслей и желаний, воскресших во мне вместе с детством и учителем, смотревшим на меня с бесконечным любопытством человека, как бы прозревавшего в ребенке его будущее.
Я молчал. А Николай Александрович говорил и говорил, обращаясь не ко мне, а к моему будущему.
Страница кончилась, и видение исчезло. И я сидел, пораженный тем, что Черноморцев-Островитянин сумел приобщить мое прошлое, мое далекое детство к своему вымыслу. Откуда он мог знать то, что знал я один.
Я закрыл книгу с таким чувством; словно закрываю дверь в свое детство.
Меня потянуло на улицу. Выйдя на Большой проспект, я остановился, Возле раскладного столика с книгами толпились прохожие. Я сразу узнал продавца.
– Как идет торговля? – спросил я.
– Сегодня не слишком бойко. Все требуют Черноморцева" Островитянина, а ничего не осталось.
– Ничего? И даже для меня?
Понизив голос, он ответил, переходя в шепот:
– Приберег один экземпляр. Только для вас. Я знаю, какая книга вас интересует.
– А иллюстрация есть?
– Какая иллюстрация?
– Та самая...
– Сейчас посмотрим.
Он достал книгу, раскрыл ее и стал искать рисунок. Но рисунка не было. Все это намекало на какую-то загадочную, алогичную связь продавца с книгой. Другого объяснения я не мог подыскать,
– Исчез, – сказал он. – Пропал.
– А чем вы это объясните?
– Плохой работой браковщицы в типографии. Пропустила дефектный экземпляр.
– Вполне логично – сказал я.
– А вы чем это объясняете? спросил он.
Он умел управлять выражением своего лица не хуже профессионального актера. На его узком интеллигентном лице отразился интерес, словно он действительно ждал, что я ему объясню этот необыкновенный случай.
– Кто-то на расстоянии заставляет меня видеть в книге то, чего там нет, превращая страницу в проекцию, в своего рода экран.
– Кто-то? – Он усмехнулся. – Я догадываюсь, кто.
– Кто?
– Я.
– Вы?
– А кто же? Не Черноморцев-Островитянин же.
– Понимаю. Но почему в таком случае вы не заседаете в Президиуме Академии наук, а стоите у столика и продаете книги?
– Мне легче найти общий язык со школьниками и домашними хозяйками, чем с академиками.
– Почему?
– Я вечный школьник. Меня интересует все, а ученых только предмет их специальности. На планете Ин...
– Планета Ин – это вымысел Черноморцева-Островитянина.
– Вы ошибаетесь. Черноморцев и сам не подозревает, что его талант – это мостик между двумя цивилизациями. Он не подозревает, что его фантастические романы во многом документальны.
– А откуда вам это известно?
– Я его соавтор. Его стиль, мои факты. Он, конечно, не Александр Грин, но строить сюжет умеет. Не станете же вы это отрицать?
– Стану! Он не художник!
– Он больше любого художника.
– Он или вы?
– Мы оба, – ответил он тихо и стал складывать книги. Его движения были точны, быстры, легки и бережливы. К каждой книге он прикасался, как к драгоценности.
– Вы книголюб?
– Да.
– Значит, вы не случайно выбрали эту профессию?
– Нет, Книга-это самое человечное из того, что создал человек. Я люблю людей.
– Но сами-то вы... – Я запнулся. – Сами-то... человек?
– Я хочу стать человеком. Стараюсь.
Подъехал крытый фургон Книготорга. Продавец сложил туда книги и поставил раскладной столик. Сел рядом с шофером и на прощание сказал:
– На днях будут новинки. Заходите.
8
Домработница Настя смотрела на меня с таким видом, словно я совершил подлог или соблазнил одну из самых юных своих учениц-студенток.
– К вам пришли из милиции, – сообщила она, смакуя каждое слово.
– По какому делу?
– Сказали, что вы сами знаете...
Я надел пиджак и вышел в переднюю. Там стоял лейтенант милиции, тот, что меня допрашивал.
Лицо у него было осунувшееся, строгое и на этот раз недоверчивое. Он стоял возле стены и пристально рассматривал репродукцию со знаменитой картины Ван-Гога "Ночное кафе". Лейтенант не спускал с репродукции настороженно-любопытных глаз, словно его приход был связан с необычным, тревожным и трагическим содержанием этой картины.
Кивком головы он поздоровался со мной и сказал:
– Я насчет той книги. Книга со мной. – Он вынул из полевой сумки книгу, аккуратно обернутую в белый лист ватманской бумаги.
– Пройдем в кабинет, – сказал я. – Тут темновато.
Он снял шинель, обтер подошвы сапог о половик, прошел за мной.
– Я к вам насчет книги, – повторил он.
– Догадываюсь.
– Недобрая книга, Злая книга. Дотошная книга.
– А что случилось?
– Что? Ваш рисунок исчез. А на том месте появилось мое изображение.
– Но при чем тут я?
– Я не к этому. А чтобы разобраться. Должен я уяснить или не должен, прежде чем доложить вышестоящим?
– Почему вы должны докладывать?
– По-вашему, я должен скрыть этот факт от общественности?
– Не знаю. Ведь есть опасность ввести общественность в заблуждение. А вдруг вам показалось?
Он раскрыл книгу на той странице, где лежала закладка – автобусный билет, и показал мне иллюстрацию. Я увидел изображение мальчика с живым смеющимся лицом.
– Это же мальчик, – сказал я.
– Нет, это я. Но в детском возрасте. Дома на стене висит точно такая же фотокарточка.
– А не мог кто-нибудь приклеить ее в ваше отсутствие?
– Потрогайте. Она не приклеена.
– Да, – согласился я, внимательно рассматривая изображение. – Несомненно, напечатано в типографии вместе с книгой.
– Но ведь раньше ее не было. Она появилась потом, когда вы ушли.
– Может, все-таки была, – сказал я. – Страницы склеились, и мы не заметили?
– Хорошо, – согласился лейтенант. – Допускаю. Склеились листы. Но я-то как сюда попал, да еще в школьном возрасте? Объясните.
– Может, не стоит объяснять?
– Почему?
– Существуют и необъяснимые явления. Нужно ждать, пока их объяснит наука.
– Я не могу ждать. Это раз. Мне работать надо. Два. Моя работа не терпит путаницы. Три. Не терпит беспорядка.
– Помилуйте, какой же здесь беспорядок? Книга. Роман с иллюстрациями. Обыкновенное дело. Ну, вкралась опечатка. Это тоже случается. Ваше изображение попало случайно в текст... Снимок-то висит на стене или исчез?
– Висит.
– А среди ваших соседей по квартире нет случайно печатников?
– Соседка работает в типографии.
– А отношения с ней какие?
– Всякие.
– Ну вот и нашли объяснение, – сказал я. – Она или само чудо? Скорей всего она.
– Этому трудно поверить, – возразил лейтенант. – Сначала ваше изображение. Потом мое. Я должен распутать этот узелок. Из-за этой задачки не спал ночь. Рассчитывал на вас. А вы уклоняетесь, хотя вам что-то известно.
– Я не уклоняюсь. Но, поверьте, знаю немного больше вас. Думаю, разгадку нужно искать в содержании самой книги. Вы ее читали?
– Два раза подряд...
– Содержание вам не показалось странным?
– Ничего странного не нашел. Ведь это фантастика. Разве только науки слишком много. Трудновато написана.
– Науки? Но ведь не нашей, не земной, а инопланетной.
– Я не о романе пришел с вами говорить. А об этом изображении, которое... – он махнул рукой. – Извините, если помешал отдыху или работе.
– Ничего! Ничего! Вопрос действительно важный. Такое чувство, что кто-то с нами играет в непозволительную игру.
– Кто-то? Нет, я хочу знать, кто?
– Я тоже хочу.
– Вы с писателем разговаривали? С этим Черноморцевым-Островитянином?
– Постараюсь повидаться. Если что-нибудь узнаю, извещу. Лейтенант попрощался, но, прежде чем уйти, долго стоял в передней перед репродукцией "Ночного кафе", где безумствовали и неистовствовали взбунтовавшиеся вещи.
– Непорядок, – сказал лейтенант, – беспокойство. Это раз. Время теряю. Два. До следующей встречи.
9
Придя в гости к старому, еще университетских лет, приятелю, я и не подозревал, что опять войду в соприкосновение с загадкой, мучившей меня вот уже несколько дней.
– Как вы относитесь к творчеству Черноморцева-Островитянина? – спросила меня дочь приятеля, студентка филологического факультета.
Я ответил тихо, чтобы не привлечь внимания других гостей, сидящих за столом:
– Фантастику я читаю только в трамвае. Предпочитаю что-нибудь простое, доступное чувствам человека, мечтающего о спокойном существовании. И кроме того, Черноморцев-Островитянин,.. Кто ему дал право выступать посредником между нами и будущим?
– Талант.
– А что такое талант? – спросил я студентку, На ее лице я заметил тень замешательства, недоумения, словно ее ловят на экзамене.
– Талант, – продолжал я, – это яркие, играющие радостью способности. Но в произведениях вашего Островитянина я не вижу ничего радостного. О чем он хочет осведомить нас с вами? О высокоразумных существах с других планет? Он изображает их такими, что мне с ними страшно. А я хочу представлять их себе милыми, простыми, похожими на вас. Я хочу, чтобы между мною и ими был контакт, может, еще больший, чем между мной и вон той дамой, которая сейчас увлеченно рассказывает, как ей неудачно вырвали зуб.
– Контакт? Чего же проще? Черноморцев-Островитянин обещал быть у нас. Мы его ждем. Ведь я пишу о нем дипломную работу.
– Любопытно, – сказал я, – значит, вы знаток его творчества и, вероятно, биографии тоже? Где же он родился?
– В Томске.
– Разве на планете Ин тоже есть Томск?
Гертруда улыбнулась. Но я не был уверен, что она поняла мою шутку. Черноморцева-Островитянина она принимала всерьез.
– Разве на планете Ин тоже есть Томск? – повторил я.
Мои слова прервал приход гостя. Это был он, Черноморцев-Островитянин.
– Приветик, – сказал он и театрально поднял руку, затем приложил ее к тому месту, где сердце.
Кто-то рассказывал мне, что у Черноморцева-Островитянина сердце не с левой, а с правой стороны. Но он приложил руку к левой стороне, все-таки к левой, а не к правой.
– Приветик, – он кивал всем, и всем улыбался, и кланялся. Дама, у которой недавно вырвали зуб, повеселела. Впрочем, повеселели все. И особенно Гертруда, дочка моего приятеля. Гертруда представила меня фантасту.
– Ваш читатель, – сказал я, – и... почитатель.
Я покраснел, как мальчишка. Ведь я не был его почитателем, наоборот. Все, что он писал, мне казалось вульгарным. Но он уже смотрел на меня сверху снисходительным взглядом, как на одну миллионную часть, как на своего читателя, попавшего в расставленные им сети, в сущности, сотканные из очень банальных образов и слов и временами просто из штампов. Нет, он не был хорошим стилистом.
Да, он смотрел на меня сверху вниз и усмехался. Мне почему-то очень захотелось сбить с него спесь или, как в этом году выражались, немножко "ущучить". И я спросил тихо и выразительно:
– А как поживает Диккенс?
На какую-то часть секунды лицо его стало вопрошающе-изумленным и даже озабоченным, но он моментально нашелся:
– Диккенс? Уж если на то пошло, я предпочитаю По или Жюля Верна, но в силу объективных законов времени я не могу передать вам от них привет. Они там, у себя, в прошлом, а мы здесь, за этим милым столом.
За словами в карман он не лез, и мысль его работала четко и быстро. Но ведь я тоже не собирался отступать.
– Не тот Диккенс, который написал "Домби и сын", а тот...
Но Черноморцев уже перебил меня своей скороговоркой:
– Сейчас молодые люди любят стилизовать себя под прошлое. А покопаешься обычный скучный парень, не пьет, не курит и висит на доске почета.
– На доске почета?
– А почему бы нет? Выполняет и перевыполняет план. Умеет работать с книгой.
– А все же... Кто он?
– Кто он? Кто я? Кто вы?
Фантаст оглянулся и обратился ласково к Гертруде:
– У вас, Гертрудочка, я бы никогда не спрашивал; кто вы? Вы милое, доброе существо. При вас все становится на свое место, все делается добрым, ясным и понятным, даже непонятное и загадочное.
Пряча истину за шуткой, он покинул нас и подсел к той даме, у которой недавно вырвали зуб.
10
Социологи предсказывают: через тысячу лет все население планеты будет состоять из одних ученых.
Хорошо это или плохо? Не знаю. Впрочем, что тут плохого, если даже дворник и тот будет иметь степень кандидата философских или исторических наук! Но каковы будут люди? И какие между ними возникнут отношения?
Если между ними возникнут отношения, какие существуют между мною и двумя моими аспирантами (о третьем, речь пойдет особо), то это будет почти катастрофично.
Для Белоусова и Мокрошейко я что-то вроде одушевленного, любезного, одетого в старомодный костюм справочника.
Белоусов и Мокрошейко спрашивают меня, – я отвечаю. Я отвечаю – Белоусов и Мокрошейко запоминают мои ответы. Во всем этом почти нет ничего от чувства, от души. Разве нужна душа, когда наводят справки, ищут сведений. Я справочник, человек. начиненный сведениями и фактами. Таков я для них.
А для себя? До этого им нет никакого дела. Вместо того чтобы лишний раз заглянуть в книгу, они заглядывают в мою память.
Белоусов и Мокрошейко спрашивают – я отвечаю.
Другое дело-экзамен. Тогда я спрашиваю – они отвечают. О них я сужу по их ответам, но ведь и они тоже судят обо мне по моим вопросам.
Вот почему меня пугают прогнозы социологов.
За много лет своей работы я привык оценивать людей по тому, что и как они знают. Я приучил себя смотреть на жизнь, словно и она стоит у дверей и ждет своей очереди держать у меня экзамен.
Мысль о том, что все население планеты будет состоять из одних ученых, меня смущает. Пусть больше половины из них будут талантливыми исследователями. Больше половины, но не все. Будут и подобные Белоусову и Мокрошейко.
Миллион Белоусовых. А сколько таких, как Серегин? Сотни или единицы?
Однажды я спросил Серегина, – любит ли он заниматься самонаблюдением?
– Самонаблюдением? – Он усмехнулся. – Я считаю, что Огюст Конт был прав, когда отрицал его возможность. Конт высмеивал самонаблюдение как нелепую попытку человека заглянуть а окно, чтобы увидеть, как он сам проходит по улице.
– Но ведь Конт ошибался, – сказал я. – Он был типичный метафизик.
– Как бы мне хотелось увидеть себя в окно.
– Но ведь это невозможно.
– Мне почему-то всегда хочется невозможного. Я посмотрел в окно. И вздрогнул. За окном по улице шел он, словно со мной здесь рядом пребывал кто-то другой.
– Смотрите, – взволнованно сказал я. – Это ведь тоже вы за окном, на тротуаре? Жалко, нет здесь Конта, мы бы его заставили взять свои слова обратно.
– К сожалению, это не я, – ответил Серегин. – Доцент Сидельников. Много бы я дал, чтобы это был не он, а я.
– Вы страдаете, что у вас нет двойника или близнеца-брата?
– Нет. Я страдаю от того, что человек не может переступить границ возможного. Я, например, знаю, что если проживу даже девяносто лет, никогда не перекинусь словом с представителем другой логики, другого, внеземного опыта. Слишком велико и бездонно расстояние.
– Не понимаю вашей тоски, – сказал я – Мне вполне хватает и земных, обыденных собеседников. А когда приходит желание поговорить с кем-нибудь, с кем-нибудь очень умным, я раскрываю том Пушкина, Гегеля или Гёте.
– Мне этого маловато, – сказал Серегин.
– Маловато? Как вам не стыдно! Ведь это боги. Ими всегда будет гордиться человечество.
– Вы меня не поняли. Логика Пушкина, Гёте и даже Гегеля наша, земная. А мне хотелось бы встретиться с иным типом мышления, соответствующим иной среде. И сознание, что это невозможно, приводит меня то в отчаяние, то в ярость. Эволюция обманула нас, дав нам разум.
– Почему?
– Весь смысл земной, человеческой цивилизации заключается в том, чтобы состоялся диалог между нами и тем, кому мы можем сказать вы. – Он сделал паузу и продолжал:
– Я не может существовать без ты, мы без вы Земной разум создан не для монолога, а для диалога. Земное человечество не может остаться вечным Робинзоном на своем крошечном планетном островке. Чтобы сказать ты и услышать ты, Робинзон обучил попугая. Вся наша человеческая культура без диалога с другим разумом – это только попугай, иллюзия, самообман. И я боюсь, что мы навсегда останемся Робинзоном, разговаривающим с самим собой и с попугаем.
– Мне не совсем понятна ваша мысль, Серегин. Ведь человечество – это миллиарды индивидуумов, беспрерывно общающихся друг с другом. Как можно человечество сравнить с Робинзоном?
– Мы говорим о разных вещах. Законы логики, законы мышления объединяют одного и всех, делают одним коллективным целым. Логика не может быть индивидуальной. Только она и делает всех людей такими похожими друг на друга.
– Вы думаете, что может существовать другая логика, не имеющая ничего общего с нашей?
– А почему бы нет?
И он замолчал. Молчал и я. Вероятно, мы оба думали об одном и том же – о логике иного типа.
Потом я спросил Серегина, не потому ли он так интересуется теорией информации, семиотикой, а также эмоциональным мышлением древних и первобытных народов. Он ответил:
– Да.
Коротко, категорично и чуточку сердито. Впрочем, на что он сердился? На земную, слишком привычную логику или только на меня?
Я всегда плохо понимал людей моложе себя на двадцать или тридцать лет. Даже самые примитивные из них, вроде Мокрошейко, ставили меня в тупик. Но Серегин, этот энтузиаст семиотики, влюбленный в египетские иероглифы, в древнейшие идеографические формы клинописных знаков, мечтавший о встрече с представителем иной логики, казался мне чем-то вроде нового Фауста. Ведь Фауст вместе со своим создателем, Гёте, тоже мечтал о невозможном.
Если общество через тысячу лет будет состоять из таких, как Серегин, я, пожалуй, сочту возможным примириться с предсказанием социологов.
У меня бедное воображение. Когда я пытаюсь представить себе население планеты, состоящее из докторов наук и член-корров, я мысленно вижу Академический городок а Комарове, увеличенный до сверхземмых размеров.
Но стоит мне взглянуть на Серегина, как все это исчезает. Серегин несет с собой возможность иного мира, иной среды, иного измерения.
11
Я открываю дверь. Входит Серегин. В руке у него книга.
А на лице насмешливо-изумленное выражение, словно ему только что довелось быть свидетелем чего-то необычайного.
– Ну, что? – спросил я. – Увидели самого себя, глядя в окно?
– Не себя, а вас.
– Где?
– В книге, не имеющей к вам никакого отношения. В фантастическом романе Черноморцева-Островитянина.
– А где вы приобрели эту новинку?
– В книжном магазине на Большом, у красивого элегантно-старомодного продавца, чем-то похожего на Диккенса,
– Тогда все понятно, – пробормотал я.
– Если вам понятно, то вы великий детерминист. А меня, признаюсь, это ошеломило. Причем тут вы? В книге ваше изображение.
Мы прошли в кабинет и сели на большой кожаный диван, и Серегин раскрыл книгу в том месте, где была закладка.
– Что такое? Куда он исчез? Может, не там положил закладку?
Он стал перелистывать книгу, разыскивая рисунок, а я, терпеливо ждал, зная, что он его найдет, но не сразу.
– Не спешите, – сказал я. – Страницы слиплись. Найдется. Не сомневаюсь. Но чем вы объясните эту нелепость – хулиганством, непозволительной дерзостью художника?
– Об этом я пришел спросить вас. Вам что-нибудь известна?
– Известно.
– Что?
– Я не более чем знак, буква, иероглиф. Мое изображение – это символ, с помощью которого представитель внеземного мышления пожелал войти в логический контакт с вами. Вы мечтали о таком собеседнике. И вот он начал с вами беседу.
– Вы шутите?
– Я абсолютно серьезен.
– А где же он, этот собеседник?
– Недалеко отсюда!
– В нескольких десятках световых лет?
– Да нет! Рядом. На Большом, в том самом магазине, где вы купили книгу.
– Уж не этот ли продавец, кокетничающий своим нелепым и случайным сходством с Диккенсом?
– Не думаю, чтоб сходство было случайное. Там, откуда он к нам явился, слишком большой порядок, чтобы дать свободу случаю для его игры.
– Значит, он актер, загримированный под Диккенса?
– Актер? Нет, скорее гениальный режиссер или бог, создавший самого себя, а заодно и своего земного напарника Черноморцева-Островитянина. Впрочем, вам лучше все это узнать из первоисточника. Внеземной разум вошел в контакт с вами с помощью этой иллюстрации. Поищите, может, уже нашлась?
Серегин снова раскрыл книгу, и лицо его побледнело. Он едва произнес:
– Смотрите, ведь это, кажется, я?
Да, это был он, словно вдруг раздвоился. Он был здесь, рядом со мной и там, на странице книги, но не иллюстрация, а живой, уменьшенный в несколько сот раз.
Мы оба с ужасом глядели на этот странный феномен. Минута длилась, длилась, как будто уже наступила вечность. Затем произошла метаморфоза. Уменьшенный дубликат Серегина превратился в иллюстрацию, слившись со страницей.
– Мираж! Галлюцинация! Обман зрения! – сказал Серегин, обращаясь не столько ко мне, сколько к самому себе.
– Не только, – возразил я. – Это нечто иное, большее.
– А что именно?
– Задайте этот вопрос тому, у кого вы купили книгу. До Большого проспекта, где этот магазин, десять минут ходьбы. Сейчас четверть восьмого. Магазин закрывается в восемь. Торопитесь. Если он не очень занят, вы успеете получить ответ.
Серегин схватил книгу, сорвался с места и побежал.
– После разговора заходите ко мне, – крикнул я ему, закрывая за ним дверь. – Мне тоже интересно.
Я ждал его, посматривая на часы. Ждать пришлось недолго – минут двадцать, не больше. Серегин был по-прежнему бледен. Рука его судорожно сжимала книгу.
– Ну, что он сказал вам? – спросил я.
– Я его не застал. Магазин уже закрыт. Мы забыли, что перед выходным днем он закрывается на час раньше.
– Будем ждать еще сутки.
– Мне предстоит бессонная ночь. Разве смогу я уснуть после всего, что видел сегодня?
– Ерунда, – успокаивал я. – Не взвинчивайте себе нервы. Все придет в норму. Я уже не первый раз встречаюсь с этим феноменом. Да и чего волноваться? Представитель внеземного разума продает книги, состоит в профсоюзе, платит членские взносы, несомненно, он прописан и имеет адрес. У него есть паспорт, стаж, все есть, что полагается... Магазин открывают в одиннадцать. Покупателей в этот час немного. Отзовите его в сторонку, словно хотите узнать о поступлении дефицитной книги. Он к этому привык. А вы назовите свое имя, специальность и смело спрашивайте. Он человек скромный, деликатный, интеллигентный. Если сочтет нужным, ответит.
– А если не сочтет?
– Отложит свой ответ!
– Надолго?
– Не навсегда. Не для того же он начал свой разговор с вами, чтобы потом играть в молчанку.
– Вы думаете, что он только со мной начал эту странную, нелепую игру?
– Нет. Я этого не думаю.
– Ну ладно. До послезавтра – внезапно оборвал разговор Серегин. – Я и без того много отнял у вас времени.
И он ушел.
Увидел его я только через три дня. Он похудел, очевидно, от бессонницы.
– Ну, как? – спросил я, – Видали? Разговаривали? Получили ответ?
Серегин усмехнулся.
– Чепуха! Неразбериха. Алогизм. Разговаривать-то разговаривал, но с ним ли?
– Разве его трудно узнать?
– Трудно.
– Он похож на Диккенса.
– На Диккенса? Сейчас он вылитый Чехов. Бородка клинышком. Старомодное пенсне со шнурком. И даже рост другой.
– Для чего? Почему?
– А я откуда знаю? Любезен. Сердечен. Но держит каждого покупателя на расстоянии. Я все время чувствовал, что между нами прилавок и еще что-то невидимое, но прочное разделяет нас.
– Что он ответил вам?
– Сказал, что не пишет книги, тем более фантастические, а только продает их. Насчет содержания советовал навести справки у Черноморцева-Островитянина, а насчет оформления в издательстве.
– Так бюрократично ответил? Так формально?
– Да. И попросил извинить его. Он на работе. И не имеет ни времени, ни права вести посторонние разговоры. Я еще, несколько раз заходил, делал вид, что интересуюсь, новинками. Но он так посмотрел на меня, что мне стыдно стало. Может, он действительно не имеет отношения к этому феномену? Может, это особое свойство черноморцевского таланта?
– Что вы имеете в виду?
– В магию я, конечно, не верю. В волшебство. Но, может, он телепат и гипнотизер? Гипнотизирует своим стилем?
– Но мы же не читали, а просто смотрели, когда произошел этот странный феномен.
– Да.
– Говорите, похож стал на Чехова?
– Копия. Дубликат.
– После обеда выберу время, схожу, посмотрю сам. Ведь у Чехова совсем другая внешность, чем у Диккенса. Как это ему удалось?
Мои слова не понравились Серегину. Очень не понравились. Его лицо вдруг стало обиженным и даже настороженным. Уж не заподозрил ли он меня в тайном сговоре с загадочным продавцом книг?
– Извините, – пробормотал Серегин. – Я побегу.
И исчез.
Я зашел в книжный магазин незадолго до закрытия. Продавец стоял на своем месте. Действительно, его наружность изменилась.
– Здравствуйте, Диккенс, – сказал я тихо и значительно.
– Разве я еще похож на Диккенса? – спросил он меня.
– Да нет. Сейчас вы, пожалуй, больше походите на Чехова. А для чего? Зачем? С какой целью?
– И это очень бросается в глаза?
– Не очень. Но все-таки заметно. И выражение лица другое. Задумчиво-интеллигентное. В духе девяностых годов прошлого века. г
– В самом деле? Значит, сказалось. Последнее время я очень вчитывался в Чехова. Пытался понять сущность его художественного мышления, его обыденных героев. И вот под впечатлением... В отличие от вас, землян, мы слишком впечатлительны, как дети. Но это ничего. Пройдет. На будущей неделе буду читать поэтов: Есенина, Блока, Маяковского.
– Остерегайтесь, – посоветовал я. – Могут обратить внимание сослуживцы, покупатели. Кому-то может это и не понравиться.
– Так советуете не читать? Есенина и Блока?
– Пока я на вашем месте воздержался бы. Очень впечатляющие, сильные поэты.
– Благодарю за совет. Извините. Сейчас будем закрывать магазин. Заходите. Ждем на днях контейнер.
12
Кто-то из современных историков сказал про письменность, что это особое искусство, которое обогатило человечество сознанием философской одновременности всех поколений. И действительно, письменность сохранила и сохраняет человеческую мысль и соединяет людей прошлого, настоящего и будущего.
История письменности – это моя специальность. И все же я никогда не испытывал того волнения, той страсти от духовного соприкосновения с чужой жизнью через знаки и письмена, какое испытывал Серегин. Он был как бы создан для того, чтобы одновременно пребывать в настоящем и прошлом, слушать голос веков и поколений, с помощью иероглифов и еще более древних знаков приобщаться к тому, что связывает людей в гибкое непреходящее единство истории и жизни.
Философская одновременность всех поколений ведь, казалось бы, полная победа над временем. Нет, не полная. Знаки и письмена открывают дверь в прошлое, но дверь в будущее все же остается закрытой. Она откроется только тогда, когда человечество войдет в контакт с инопланетным разумом. Не раньше.
Эта мысль не давала покоя Серегину, особенно теперь, когда инопланетный разум вдруг заговорил, избрав посредником продавца книг в магазине на Большом проспекте Петроградской стороны.
Чудо почти свершилось, но Серегин не верил, да и я тоже верил в сущности только в те минуты, когда, заигрывая с моими человеческими чувствами, появлялось и исчезало изображение на страницах черноморцевского романа.