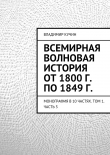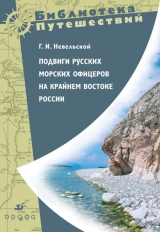
Текст книги "Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России (1849-1855 г.)"
Автор книги: Геннадий Невельской
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава двенадцатая. Начало исследований в низовьях Амгуни
Резолюция императора Николая I. – Распоряжения высшего правительства по поводу последних моих действий. – Возвращение моё в Иркутск. – Женитьба. – Поездка в Аян. – Переход в Петровское на барке «Шелехов». – Гибель барка. – Мои распоряжения в Петровском. – Прибытие в Николаевский пост. – Объявление гилякам. – Донесение генерал-губернатору. – Отправление Н. М. Чихачёва и Орлова вверх по реке Амгуни. – Их донесения. – Развлечения в Петровском. – Наши дружелюбные отношения с местным населением. – Зимняя почта. – Жизнь и обычаи местного населения. – Сведения, добытые от него об Амуре и крае. – Командировка Чихачёва и Орлова. – Возвращение их в Петровское. – Конец 1851 года. – Окончательное занятие устья реки Амура.
В особой аудиенции государь Николай Павлович, выслушав со вниманием объяснение генерал-губернатора о важных причинах, побудивших меня к таким решительным действиям, изволил отозваться, что поступок мой он находит молодецким, благородным и патриотическим {Передано мне Н. Н. Муравьёвым и Л. А. Перовским.}, и изволил пожаловать мне орден св. Владимира 4 ст., а на журнале Комитета написал: «Комитету собраться вновь под председательством наследника великого князя Александра Николаевича {Впоследствии императора Александра II.}, – и сказал: где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен».
Вследствие этого генерал-губернатор докладывал наследнику о начатом уже мной водворении в Приамурском крае, о полученных мной сведениях по его географии и о народах, обитающих в нём, и представил свои соображения о дальнейших действиях.
Комитет в присутствии наследника великого князя Александра Николаевича рассмотрел вновь это дело и постановил:
1) Николаевский пост оставить в виде лавки Российско-Американской компании.
2) Никакого дальнейшего продвижения в этой стране не предпринимать и никаких мест отнюдь не занимать.
3) Иностранным судам, которые обнаружили бы намерение занять какой-либо пункт около устья реки Амура, объявлять, что без согласия российского и китайского правительств никакие произвольные распоряжения в этих местах не могут быть допускаемы и что каждый из таких самовольных поступков влечёт за собою большую ответственность.
4) Российско-Американской компании снабжать экспедицию запасами, товарами, гребными судами и строительными материалами. Для сооружения же жилых построек и служб в Петровском и Николаевском, их охраны, а также для других надобностей, назначить из сибирской флотилии 60 человек матросов и казаков, при двух офицерах и докторе, которым, кроме казённого довольствия по сибирскому положению, выдавать особое вознаграждение за счет Компании, по соглашению генерал-губернатора Восточной Сибири с Главным правлением Компании.
5) Если при упомянутом сейчас расходе и от торговли в продолжение трех лет Российско-Американская компания будет терпеть убыток, то по представленному ею расчету правительство обязывается её вознаградить, но, однако, никак не свыше 50 000 рублей.
6) Продовольствие от казны из Петропавловска, а равно запасы и товары Компании из Аяна должны доставляться в Петровское на казённых судах.
7) Экспедицию эту назвать Амурской и начальником её во всех отношениях назначить. капитана 1-го ранга Невельского.
8) Экспедиция эта, а равно все её действия и руководство ею, в пределах настоящего высочайшего повеления, осуществляются под главным начальством генерал-губернатора Восточной Сибири.
9) Начальнику экспедиции, а также всем служащим в ней офицерам даровать все права и преимущества, какие установлены законом для начальника Охотского порта и служащих в нем офицеров.
Это постановление Комитета 12 февраля 1851 года было утверждено императором, и на основании его я получил 16 февраля инструкции от генерал-губернатора. Вместе с этим Главное правление Компании в тот же день депешей уведомило меня, что добавочное довольствие будет производиться Компанией в следующих размерах: начальнику экспедиции по 1 500 рублей в год, офицерам по 200 рублей и нижним чинам по 40 рублей; требование на получение товаров и запасов от Компании, в пределах упомянутой суммы, а равно и отчёты агентов Компании должны утверждаться мной. На основании указания императора правительствующий Сенат 15 февраля 1851 года уведомил через трибунал внешних сношений китайское правительство о нашем намерении иметь наблюдение за устьем реки Амура.
Таковы были распоряжения правительства по поводу последних моих действий и таковы были ничтожные средства, определённые на содержание и действие нашей экспедиции. Нам назначалось на всё не более 17 000 рублей в год, тогда как на содержание губернатора Камчатки и его канцелярии определялась значительно более крупная сумма. Из вышеописанного ясно, что мне, как и в первом случае, не давалось ни прав, ни средств предпринимать какие-либо меры для надлежащего водворения в этом крае. С этими распоряжениями я прибыл в половине июня в Охотск и, взяв оттуда людей и казённое довольствие, направился в Аян, чтобы принять там товары и запасы Компании и оттуда вместе с транспортом «Охотск», который должен был там находиться в конце июня, итти в Петровское.
Неприбытие в Аян из Петровского транспорта «Охотск» придавало некоторое правдоподобие разнесшимся в то время в Аяне слухам, будто бы команда в Петровском подвергается величайшим опасностям и даже будто она уничтожена. Имея в виду это обстоятельство, я немедленно пошел из Аяна в Петровское на транспорте «Байкал», взяв с собой для усиления своих средств прибывший незадолго перед этим в Аян корабль Российско-Американской компании "Шелехов".
Проездом из Петербурга 16 (28) апреля 1861 года я женился в Иркутске на девице Екатерине Ивановне Ельчаниновой, только что вышедшей из Смольного монастыря, племяннице бывшего в то время иркутского гражданского губернатора В. Н. Зорина. Моя молодая супруга решилась переносить со мной все трудности и лишения пустынной жизни в диком негостеприимном крае, удалённом на десяток тысяч верст от образованного мира.
С геройским самоотвержением и беэ малейшего ропота она вынесла все трудности и лишения верховой езды по топким болотам и дикой гористой тайге Охотского тракта, сделав этот верховой переезд в 1 100 вёрст за 23 дня. Моя жена с первой же минуты прибытия своего в Петровское показала необыкновенное присутствие духа и стойкое хладнокровие. Барк «Шелехов», на котором я с ней находился, подходя к заливу Счастья, по случаю внезапно открывшейся течи {По освидетельствовании барка, как установила комиссия под председательством командира корвета «Оливуца» капитан-лейтенанта И. Н. Сущёва, изучавшая причины гибели «Шелехова», оказалось, что у форштевня отошли две обшивные доски.}, несмотря на все меры, начал погружаться в воду, так что только благоприятный ветер, дувший в направлении берега, и близость мели дозволили немедленно спуститься на последнюю и тем избавить всех от гибели. Когда «Шелехов» встал на мель, все палубы его уже были наполнены водой, и барк погружался почти до русленей87. В то же время перед входом в залив Счастья сел на мель и сопровождавший нас транспорт «Байкал». Выстрелов наших не было слышно в Петровском и потому ответа на них не было, кроме того, мрак не позволял видеть из Петровского наши суда. Это обстоятельство и толпа гиляков, собравшихся на лежавшей перед нами кошке, подтверждали, казалось, упомянутые неблагоприятные слухи, распространённые в Аяне. Положение наше у пустынного негостеприимного берега, вблизи судов, из которых одно лежало на банке затонувшим, а другое сидело на мели, было весьма опасное и критическое.
Семейства пяти матросов, взятых из Охотска, и вся команда барка «Шелехов» соединились на верхней палубе, единственном месте, где не было воды, и с напряжённым вниманием ожидали избавления от этого опасного убежища, которое могло мгновенно измениться при первом свежем ветре с моря, В это время капитан барка лейтенант В. И. Мацкевич, поступивший в экспедицию юный лейтенант Н. К. Бошняк и помощники лейтенанта Мацкевича просили мою жену первой съехать на транспорт «Байкал», "Муж мой говорил мне, что при подобном несчастии командир и офицеры съезжают с корабля последними, – отвечала им Екатерина Ивановна. – Я съеду с корабля тогда, когда ни одной женщины и ребенка не останется на нем; прошу вас заботиться о них". Так моя жена и поступила.
Между тем, ветер стих и мрак рассеялся. Гиляки собрались на кошке, чтобы помочь нам выйти на берег, и дали знать в Петровское, откуда немедленно были высланы две шлюпки. «Байкал», как только начался прилив, снялся с мели, и все семейства и команда были перевезены благополучно с барка. Таким образом, все слухи, распространённые в Аяне, оказались ложными.
Оставшиеся в Петровском Орлов и Гаврилов успели выстроить три домика для помещения офицеров, 30 человек команды и товаров. Мне с женой пришлось на первое время разделить флигель в две комнаты с семейством Орлова.
Орлов и Гаврилов сообщили мне: 1) что, согласно моему распоряжению, транспорт «Охотск» с открытием навигации в Петровском начал готовиться к походу, но начавшаяся внезапно буря с сильным ледоходом по заливу выбросила транспорт на берег. Кроме того, по гнилости транспорта в нем открылась такая сильная течь, что не было никакой возможности выйти в море; 2) что последним зимним путем Орлов с 8 человеками отправился на мыс Куегда, чтобы срубить домик для Николаевского поста, но только что он начал рубить лес для этого, как гиляки соседних деревень встревожились и объявили ему, что маньчжуры им строго приказали не позволять русским здесь селиться и что из Сен-зина с открытием реки придет сюда большая сила для истребления всех русских и для наказания смертью тех гиляков, которые будут помогать им. Поэтому Орлов во избежание неприятных столкновений, которые могли бы повредить нашим действиям, впредь до прибытия подкреплений оставил рубку леса и ограничился лишь только тем, что с открытием навигации послал в лиман шлюпку наблюдать за устьем Амура {Это обстоятельство, вероятно, и было поводом к распространению упомянутых слухов в Аяне.}; 3) что все сношения его с окрестными гиляками были дружественными и что от них он узнал о плававших ранней весной в Татарском проливе больших судах, доходивших до лимана. Наконец, 4) что за два дня до нашего прихода стояло на Петровском рейде американское китобойное судно. Шкипер его съезжал на берег, и Орлов объявил ему, что всё побережье пролива вплоть до Кореи и вся эта сторона составляет русское владение.
В Петровское прибыли со мной 22-летний лейтенант Н. К. Бошняк, прапорщик корпуса штурманов А. И. Воронин, доктор Орлов, топограф Штегер, 30 человек матросов и казаков, из которых пять человек семейных, и приказчик Российско-Американской компании якутский мещанин Березин; таким образом, вся команда Амурской экспедиции, соединённая с командой транспорта «Охотск», составляла 70 человек.
По прибытии в Петровское всё наше внимание было обращено на разгрузку барка «Шелехов», лежавшего на банке в 10 милях от Петровского, что было сопряжено с большими трудностями и препятствиями. К счастью, стояла постоянно тихая погода, а пришедший на Петровский рейд военный корвет «Оливуца» под командой капитана Сущёва помог этому делу. При благородном и ревностном содействии капитана «Оливуца» {Корвет «Оливуца», под командой капитан-лейтенанта Ивана Николаевича Сущёва, на основании распоряжения, последовавшего в январе 1850 года, осенью того же года был послан из Кронштадта на службу в камчатские воды для подкрепления Петропавловского порта и крейсерства в Камчатском и Охотском морях.} и при энергичной деятельности лейтенанта Мацкевича и всех команд разгрузка барка была кончена и весь груз его, кроме соли и сахара, был спасен. Спасли также рангоут и весь такелаж, все же усилия к снятию барка с мели остались тщетны. Барк «Шелехов» был куплен Компанией в Сан-Франциско, и, как оказалось, Компания в этом случае была обманута, так как по осмотре барка комиссией под председательством командира корвета И. Н. Сущёва было найдено, что подводная часть его была скреплена до такой степени слабо, что держалась только на одной обшивке, так что при первом свежем ветре с моря барк сейчас же развалился и от него не осталось ни малейшего следа.
Сделав распоряжение о выгрузке барка и о снятии корпуса, я послал мичмана Н. М. Чихачёва с топографом Поповым для наблюдения за южной частью лимана и для подробной съёмки берега южного пролива (Н. М. Чихачёв поступил в экспедицию с корвета "Оливуца"). Сам же я с лейтенантом Бошняком, приказчиком Березиным и с 25 человеками вооруженных людей на байдарке и вельботе отправился через лиман в реку Амур для подкрепления Николаевского порта, обеспеченного в то время посланной Орловым из Петровского четырехвесельной, вооружённой однофунтовым фальконетом, шлюпкой. По прибытии на мыс Куегда я собрал окрестных гиляков и объявил им, "чтобы они не верили маньчжурским торгашам и не слушались их. Если кто-либо из них будет распускать враждебные для нас слухи, то чтобы таковых представляли в Николаевск, где они будут строго наказаны, а равно будут строго наказываемы и те из гиляков и из других народов, которые осмелятся нам угрожать, а тем более изъявлять против нас какие-либо враждебные поступки. Вся эта страна русская, и мы не дозволим никому распоряжаться. Маньчжуров же мы не боимся и заставим их себя уважать и бояться".
Назначив лейтенанта Н. К. Бошняка начальником Николаевского поста, я приказал ему: 1) постоянно иметь при посте военный флаг и при флаге и орудии караул и держать всегда часового, 2) построить на зиму помещение для команды и 3) приказчику Березину начать расторжку с инородцами. Сделав эти распоряжения, 29 июля на вельботе я возвратился в Петровское. С корветом «Оливуца», отправлявшимся 1 августа в Аян с командой затонувшего барка «Шелехов», я послал донесение как об этом происшествии, так и о распоряжениях моих генерал-губернатору и депешей уведомил Главное правление Российско-Американской компании о гибели барка. В заключении моего донесения генерал-губернатору я писал: "Из приложенного при сем акта комиссии, свидетельствовавшей во всей подробности барк «Шелехов», вы усмотрите, что надобно благодарить бога, что это происшествие, обнаружившее всю ненадежность барка, случилось у берега, на который была возможность спасти людей и весь почти груз барка с его вооружением, так как в таком состоянии, какое оказалось при его осмотре, он неминуемо погиб бы в океане при свежем ветре со значительной качкой на переходе, который ему предстоял из Аяна в Ситху".
По прибытии мичмана Н. М. Чихачёва из южной части лимана я отправил его вместе с Орловым на шестивесельной шлюпке вверх по реке Амгуни с целью ознакомления с этим большим притоком реки Амура, впадающим в него близ Николаевского поста, а равно с целью собирания предварительных сведений от населения о путях, ведущих с этой реки к Хинганскому хребту, откуда она берет свое начало. Мне нужны были эти сведения, потому что первое, что я предполагал сделать, – это разрешить пограничный вопрос, то-есть обследовать направление этого хребта от верховьев реки Уды.
Посланные офицеры, войдя в реку Амгунь по протоке, соединяющей её с протокой Пальво (обследованной мной в 1850 году), и поднявшись по Амгуни до селения Кервет, 8 октября возвратились в Петровское и донесли мне: а) что река Амгунь значительна и судоходна и направление течения имеет вообще северо-восточное; б) по словам туземцев, она выходит из тех гор, из которых берут начало реки Уда, Тугур, Бурея и Зея. Жители селения Кервет (самагиры) называют эти горы Хинга, что значит каменные, большие. Исток реки Амгунь, по их словам, гораздо южнее истоков рек Уды, Тугура и Буреи. К реке Амгуни близко подходит река такой же величины – Горин, которая также берет начало из этих гор, но исток этой последней расположен южнее истока Амгуни88. От селения Кервет до упомянутого хребта, по Амгуни, они ездят на собаках около 15 дней; в) что самагиры ни от кого не зависимы и ясака не платят. Они приняли Чихачёва и Орлова весьма радушно и жаловались, что маньчжуры, приезжающие к ним для торговли, обманывают их и делают различные бесчинства, и в заключение просили, чтобы мы перебрались к ним.
К половине октября в Николаевском были готовы две юрты, обнесённые засеками, а в Петровском – флигель в 3 сажени (5,5 м) ширины и 5 сажен (9 м) длины для нашего помещения. Само собой разумеется, что всё это делалось из леса прямо с корня; печи же, или, лучше сказать, чувалы (вроде каминов), были или сбиты из глины, или сложены из сырого кирпича, без всяких оборотов, с пролётом на прямую. Ясно, что жить в подобных хоромах было далеко не комфортабельно: во время метелей (нург), случавшихся нередко на открытой кошке, все строения были заметаемы снегом, так что попадать в них было возможно не иначе, как через чердаки, много стоило труда, чтобы разгрести окна для света и двери для входа. Ближайший к нам сколько-нибудь цивилизованный пункт – Аян – лежал в 1000 верстах пустынного и бездорожного пространства, по которому тунгусы верхом на оленях едва могли добираться в 5 или 6 недель.
Несмотря на всё это и на различные лишения и недостатки в самых необходимых потребностях для цивилизованного человека, офицеры и команды по примеру образованной и молодой женщины, моей жены, заброшенной судьбой в эту ужасную пустыню и разделявшей наравне с нами без всякого ропота все эти лишения и опасности, переносили их твердо и бодро, сознавая долг свой и пользу от их трудов для Отечества.
Главным и единственным, общим для всех развлечением летом было катанье, по заливу на гилякских лодках, а зимой на собаках. При этом все мы, и Екатерина Ивановна надевали оленьи парки (вроде стихаря), ибо всякая другая одежда была неудобна для такой дикой езды, какая принята в том крае.
Раз предупреждённое энергическими мерами готовившееся восстание нескольких гилякских селений, подстрекаемых к этому маньчжурскими купцами-кулаками, которым мы делались соперниками в торговле и, главное, не дозволяли опаивать гиляков и нахально обирать их, наказывая за это по-русски, в присутствии гиляков; строгое соблюдение нами как бы священных для гиляков их обычаев {Самым священным обычаем у них было не выносить из юрты огня и ложиться на нары, которые окружали стены их юрт, непременно головой не к стене, как обыкновение у нас принято, а от стены, и прочие мелочи, которым не трудно было уступить.} и, наконец, строгое взыскание при них же и с наших людей за всякую причинённую им обиду – постепенно располагали гиляков в нашу пользу. Вместе с тем наши пушки, вооружённый вид команды, обычная церемония при подъеме и спуске военного флага, при которой дозволялось им присутствовать, поселяли к нам уважение и убеждение, что мы пришли к ним не с тем, чтобы их поработить, как старались внушать им кулаки-маньчжуры, но, напротив, защищать их от всяких насилий и не касаться их обычаев. Они скоро поняли, что мы не хотим благодетельствовать их нашими реформами, несродными им, и, наконец, что мы глубоко вникаем в их нравы и обычаи и маньчжуров не боимся.

Ласковое обращение со всеми приезжавшими в наши посты гиляками ещё более усиливало в них упомянутое убеждение. Они охотно, без всякого опасения, всё чаще и чаще начали являться в Николаевское и в особенности в Петровское, где Екатерина Ивановна усаживала их в кружок на пол, около большой чашки с кашей или чаем, в единственной, бывшей во флигеле у нас, комнате, служившей и залом, и гостиной, и столовой. Они, наслаждаясь подобным угощением, весьма часто трепали хозяйку по плечу, посылая её то за тамчи (табак), то за чаем. Несмотря на то, что это общество никогда не мывшихся гиляков, одетых в собачьи шкуры, пропитанные нерпичьим жиром, было невыносимо тягостно не только для молодой образованной женщины того круга, к которому принадлежала моя жена, но и для всякой крестьянки, Екатерина Ивановна переносила с полным самоотвержением как эти посещения, так и их последствия, то-есть грязь и зловоние, которое оставляли после себя гости в единственной нашей комнате.
Она понимала, что только этим путём мы могли приобретать понятия о стране пустынной и неизвестной, в которой нам предстояло действовать для блага Отечества. Такой радушный приём развязывал языки нашим гостям: гиляки и другие представители населявших низовья Амура народов с охотой и откровенностью рассказывали нам о положении края, о реках, его орошающих, о путях, по которым они ездят на нартах и лодках, о затруднениях и опасностях, какие могут встретиться при этих поездках, и о средствах к устранению их. Наконец, они знакомили нас с нравами, обычаями, образом жизни и вообще с положением и состоянием народов, обитавших в этом крае.
Весьма естественно, что подобные сведения были далеко не удовлетворительными; так например, при вопросе о расстоянии между пунктами, гиляк чертил на полу мелом или углём палки, означавшие число ночей, которые надобно спать, чтобы, следуя на собаках или в их лодке, достигнуть известного места. Но, вместе с тем, эти и подобные сведения давали нам понятие о времени и препятствиях, какие нужно ожидать при исследовании страны, и на что обращать больше внимания, тем более, что средства наши для этой цели состояли тогда из тех же нарт с собаками и утлых гилякских лодок. Кроме того, без предварительных сведений о такой огромной и пустынной стране, которая рисовалась нам на картах, по одним легендам, большей частью ложным, нельзя было и составить по возможности практический план для действий, который направлял бы к главной цели. Между тем таковой план был необходим, так как всякая командировка в край, особенно в видах прочного водворения в нем, как выше видели, мне строго была запрещена, а потому лежала единственно на моей ответственности. Ясно, что при таком положении, прежде чем решиться предпринять командировку, необходимо было уяснить не только практическую возможность её исполнения с нашими ничтожными средствами, но и вполне взвесить степень безопасности посылаемых и дать им такие подробные наставления, которые отстранили бы эти опасности и затруднения.
Главная цель моя заключалась в том, чтобы фактически объяснить правительству значение для России этого края на отдалённом нашем Востоке; для этого предстояло разрешить нам, как я выше упомянул, два вопроса: вопрос пограничный и вопрос морской, обусловливавший значение для России Приамурского края в политическом отношении.
К ноябрю месяцу все команды в Петровском и Николаевском были, по возможности, размещены на зиму, и Николаевский пост был обеспечен продовольствием и товарами. К этому же времени с тунгусами, прикочевавшими на Петровскую кошку из Удского края, было заключено условие о доставке зимним путём верхом на оленях писем и депеш в Аян; они взялись отвозить в Аян из Петровского почту не более двух раз в зиму. Летом почта от нас должна была доставляться в Аян на казённых судах, совершавших рейсы между Аяном и Петровским. Это обыкновенно случалось два или три раза в лето. Таким образом, мы имели сведения из России в продолжение года не более четырёх или пяти раз. Особого судна для экспедиции назначено не было, потому что вся камчатская флотилия состояла из двух транспортов ("Байкал" и "Иртыш") и двух ботов ("Кадьяк" и "Камчадал"). Эти суда постоянно были заняты снабжением Петропавловска, который силились возвести тогда на степень главного нашего порта на Восточном океане. Эти суда должны были развозить продовольствие в Гижигу, Тигиль, Большерецк и Нижнекамчатск, а потому отделять какое-либо из них для экспедиции не представлялось никакой возможности.
Имея в виду эти обстоятельства, генерал-губернатор Н. Н. Муравьёв приказал зимой 1850 на 1851 год выстроить в Охотске бот для экспедиции, но по случаю переноса этого порта в Петропавловск распоряжения Николая Николаевича исполнить не могли, а вместо бота в сентябре 1852 года доставлена была в Петровское, на боте «Кадьяк», только часть такелажа и парусины, которые предназначались на вновь строившийся бот. «Кадьяк» по случаю открывшейся в нем сильной течи не мог возвратиться в Петропавловск и остался на зимовку в Петровском. К навигации мы, по возможности, исправили его, и я надеялся, что по крайней мере он останется при экспедиции, но эта надежда осталась тщетной. После первого же рейса, сделанного им из Петровского в Аян, по распоряжению камчатского губернатора, он был взят из экспедиции и отправлен с продовольствием в Гижигу.
Суда Российско-Американской компании, плававшие между Ситхой и Аяном, по условию правительства с Компанией не обязаны были заходить в Петровское. Если в продолжение трёх лет и являлось иногда одно из этих судов на Петровском рейде, то это делалось единственно по милости и сердоболию начальника Аянского порта Кашеварова и то только в таких случаях, когда без прихода этого судна всем нам угрожала чуть не голодная смерть.
В какой степени была правильна и надежна наша зимняя почта, отбывавшая, как мы сейчас видели, с тунгусами на оленях, показывает следующее обстоятельство: нередко тунгус, отправленный с почтой из Петровского, через две или три недели возвращался с дороги обратно с объяснением, что он мало взял с собою пороху и чаю; он вешал в подобных случаях сумку с почтой на берёзу и просил, чтобы пополнили эти запасы. После вышеизложенного естественно, что тунгус с почтой из Аяна и наше судно с моря встречались в Петровском всеми с особым чувством, которое могут понять только люди, заброшенные в пустыню, отрезанную от всего цивилизованного мира. В особенности это было ощутительно для моей жены, попавшей в такую ужасную обстановку.
Не мало труда стоило нам приучить гиляков и других местных жителей к своевременной доставке писем из наших постов и от лиц, командированных в новый край. Они не понимали, что позднее исполнение подобных поручений утрачивает их значение. Они считали, что, когда бы ни доставить писку (как они называли письмо и всякую бумагу), всё равно, лишь бы только она была доставлена. Так часто случалось, что из Николаевского привозил мне гиляк письмо через два или три месяца, а от офицеров, командированных дальше, случалось получать корреспонденцию ещё позже этого времени, а иногда письмо придет только тогда, когда пославший его офицер уже возвратился. Не мало стоило труда, чтобы без всяких потрясений жизни и обычаев инородцев внушить им понятие о праве и старшинстве. Единственным правом, как я выше заметил, они считали нож и физическую силу и полагали, что без этого возможно исполнить только тогда, когда им угодно, – и то за такие товары, какие им понравятся.
Надобно было глубоко изучить их жизнь и обычаи, заменявшие у них законы, чтобы навести их на необходимость иметь в селениях такого человека, к которому мы могли бы обращаться с приказаниями и который, в свою очередь, мог бы требовать от них беспрекословного исполнения. Привести к этому убеждению аборигенов Нижнеамурского края много помогло нам знание существовавших у них обычаев, принимавшихся ими за коренные и непреложные законы, вроде поместного права.
Гиляки вообще живут значительными селениями (от 15 до 200 душ и более); эти селения состоят из юрт, наподобие больших сараев, по стенам которых устроены широкие теплые нары, нагреваемые идущими от очагов трубами. Посреди юрты между четырьмя столбами находится возвышение, на котором спят собаки; в большей части юрт находится тут же привязанный к столбам и медвежонок или медведь, с которым они забавляются. Под потолком юрты растянуто несколько жердей, на которых они вешают свою одежду и всякую рухлядь. В очагах, расположенных по обеим сторонам входной двери, вмазаны котлы, в которых гиляки готовят пищу для себя, для собак и для медведя. При каждой из таких юрт вблизи реки устроены на столбах высоко над землей небольшие чуланы, служащие для хранения запасов рыбы, ягод, кореньев, юколы и нерпичьего жира – главных продуктов их питания. Наконец, против каждого сарая находится несколько положенных на козла жердей; на эти жерди гилячки вешают чищеную рыбу, из которой мясо идет в пищу людям, а требуха и кости – собакам. Рыба эта, провяленная на солнце, называется у них юколой; она является самым главным продуктом питания всех обитающих здесь народов, все равно как у нас хлеб или соль. Такая юрта или сарай со всеми смежными с ней службами составляет хозяйство местных аборигенов. Сооружает это хозяйство обыкновенно одно семейство, но поселиться в юрте и пользоваться им может всякий, кто его не имеет, хотя бы то был пришелец, совершенно посторонний и незнакомый хозяину юрты. Здесь-то и проявляется право хозяина, выражающееся в том, что он назначает число мест на нарах, которые могут быть отведены для посторонних, и назначает по своему усмотрению работы, которые должны исполняться в его пользу пришельцами; он же наблюдает за точным исполнением пришельцами самых священных для них обычаев, состоящих в том, чтобы никто не ложился на нары головой к стене и чтобы никто не выносил из юрты огня. Они были убеждены, что, в случае неисполнения этого в какой-либо деревне, все жители её должны умереть или быть уничтожены. Неисполнение этого обычая кем-либо из пришельцев, а равно буйство и неисполнение обязанностей, возложенных хозяином, влечет за собой немедленное изгнание гостя, и в этом случае хозяева остальных юрт под страхом немедленной казни не могут укрыть или приютить изгнанника.
После всего сказанного не странно ли мне было получать почти с каждой почтой наставления и приказания из петербургских канцелярий, чтобы я главным образом старался входить в сношения со старшинами гиляков, тунгусов и других народов, посещавших нижнее течение Амура, которых в Петербурге считали какими-то вассальными китайскими князьями. Мне писали, чтобы я заключил с ними условие, вроде торговых трактатов, какие заключаются только между образованными нациями, и, наконец, чтобы под строгой ответственностью я отнюдь не распространял своих действий далее Николаевска.
Всё, что можно было вывести из сведений, доставленных упомянутым путём гиляками, в общих чертах заключается в следующем: 1) что река Амур около селения Кизи довольно близко подходит к морскому берегу89; 2) что в недалёком расстоянии от селения Коль лежат озёра и что реки, впадающие в эти озёра, близко подходят к рекам Тугуру и Амгуни; что все реки эти берут свое начало с того же хребта гор, с которого стекают реки Уда, Горин и Бурея; 3) что одно из озёр – Удыль, посредством протоки Уй, соединяется у селения Ухта с рекой Амуром и что берега этой протоки, сколько можно было понять из объяснений гиляков, должны быть удобны для заселения; 4) что в селение Ухта на озеро Удыль и ближайшие к нему селения Пуль и Кальм, лежащие на левом берегу Амура, для торговли с местным населением приезжают по первому зимнему пути маньчжуры; 5) что путь вверх по Амуру, до селения Кизи, а равно и путь через селение Коль и озеро Чли, ближайшее к этому селению, до селения Ухта, представляются путями безопасными и более других проезжими. По словам гиляков, чтобы доехать из Петровского селения в Кизи надобно спать от 12 до 15 ночей, а до селения Ухта – от 15 до 18 ночей.