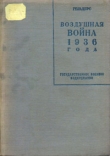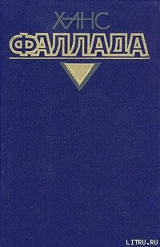
Текст книги "Маленький человек, что же дальше?"
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
И в меру мыслительных способностей, отпущенных природою ее глупому птичьему мозгу, она размышляет о пройденном ею с тех пор пути – двое детей, сварливая дочь и плаксивый, невзрачный сын. Торговое дело, наполовину промотанное беспутным мужем, – а она? Она что?
Да, в конце концов ей остается только плакать, а плакать можно и в темноте, по крайности сэкономишь на освещении, – ведь деньги так и летят. И вдруг ей приходит на ум, что сегодня за два часа он тоже, должно быть, немало прокутил, и она снова включает свет и принимается за обследование его бумажника, и считает и пересчитывает. И опять, уже в темноте, дает себе слово с завтрашнего дня быть с ним ласковей, и стонет, и причитает: «Нет, теперь уже ничто не поможет. Надо его окончательно к рукам прибрать!»
А потом опять плачет и в конце концов засыпает, – ведь в конце концов всегда засыпаешь и после зубной боли, и после родов, и после ссоры, и после большой радости – увы! – такой редкой.
Затем следует первое пробуждение – в пять утра она быстро отдает приказчику ключ от ларя с овсом, а потом – второе, в шесть, когда служанка стучится в дверь и просит ключ от кладовой. Еще час сна! Еще час покоя! И затем третье, окончательное пробуждение – без четверти семь, сыну пора в школу, а муж все еще спит. В четверть восьмого она снова заглядывает в спальню – муж уже не спит, мужа рвет.
– Так тебе и надо, опять налакался, – говорит она и уходит. Затем он появляется к утреннему кофе, мрачный, примолкший, растрепанный.
– Подай селедку, Мари! – только и говорит он.
– Постыдился бы, отец, так распутничать, – язвительно замечает Мари, уходя за селедкой.
– Черт меня побери! – свирепеет отец. – Давно пора ее с рук сбыть!
– Твоя правда, отец, – вторит ему жена. – Что ты зря трех дармоедов кормишь?
– Пиннеберг самый подходящий. Пусть Пиннеберг и действует, – говорит Клейнгольц.
– Конечно. Только надо его подстегнуть.
– Об этом уж я позабочусь, – отвечает муж.
С этими словами работодатель Иоганнеса Пиннеберга, кормилец, в руках которого благополучие всей семьи: и милого, и Овечки, и еще не родившегося Малыша, уходит в контору.
ИЗМЫВАТЕЛЬСТВО НАЧИНАЕТСЯ. НАЦИСТ ЛАУТЕРБАХ, ДЕМОНИЧЕСКИЙ ШУЛЬЦ И ТАЙНЫЙ СУПРУГ ПОПАДАЮТ В БЕДУ.
Из всех служащих первым в контору пришел Лаутербах: без пяти восемь. Но не от усердия – от скуки. Этот коренастый светло-русый парень с красными ручищами прежде был сельскохозяйственным служащим. Но в деревне ему не понравилось. Лаутербах перебрался в город. Лаутербах перебрался в Духеров, к Эмилю Клейнгольцу. Он был чем-то вроде специалиста по семенам и удобрениям. Крестьяне не слишком-то радовались его присутствию при поставке картофеля. Лаутербах сейчас же замечал, если сорт был не тот, что по договору, если они сплутовали и подмешали к желтому картофелю сорта Индустри белый Силезский. Но, с другой стороны, Лаутербах был не такой уж вредный. Правда, его нельзя было задобрить водкой, – водки он в рот не брал, ибо почитал себя обязанным беречь арийскую расу от алкогольного яда, ведущего к вырождению, – итак, он не пил и сигар тоже не принимал. Он хлопал мужика по плечу, да так, что только держись: «Ах ты, старый плут!» – сбавлял десять, пятнадцать, двадцать процентов, но зато – и в глазах крестьян это искупало все – он носил свастику, рассказывал сногсшибательные еврейские анекдоты, сообщал о последних вербовочных: походах штурмовых отрядов в Бурков и Лензан – словом, он был истый германец, свой парень, ненавидел евреев, французов, репарации социалистов и КПГ. Это искупало все.
В нацисты Лаутербах пошел тоже от скуки. Выяснилось, что в Духерове, так же как и в деревне, ему нечем скрасить свой досуг. Девушки его не интересовали, кино начиналось только в восемь вечера, а обедня отходила уже к половине одиннадцатого, и, таким образом, у него оставалось много ничем не заполненного времени.
А у нацистов не соскучишься. Он быстро попал в штурмовики, в драках он проявил себя чрезвычайно рассудительным молодым человеком: он пускал в ход свои кулачищи (и то, что в данный момент было в них зажато), с чуткостью истинного художника предугадывая результаты. Лаутербах утолил свою тоску по полноценной жизни: он мог драться почти каждое воскресенье, а по вечерам иногда и в будни. Контора была для Лаутербаха родным домом. Здесь были сослуживцы, хозяин, хозяйка, работники, мужики: всем им можно было рассказывать, что уже свершено и что еще предстояло свершить. И на праведников и на грешников изливал он поток своей тягучей, медленной речи, оживлявшейся громким гоготом слушателей, когда он изображал, как отделал советских прихвостней.
Сегодня, правда, такими подвигами он, Лаутербах, похвастаться не может, но зато они получили новый приказ, общий для всех груфов, и теперь он преподносит Пиннебергу, пунктуальному Пиннебергу, явившемуся ровно в восемь: штурмовики получили новые отличительные знаки!
– По-моему, это просто гениально! До сих пор у нас были только номера штурмовых отрядов. Знаешь, Пиннеберг, на правой петлице вытканы арабские цифры. А теперь нам дали еще двухцветный шнур на воротник. Это просто гениально, теперь и со спины видно, к какому отряду принадлежит штурмовик. Представляешь, какое это имеет практическое значение! Например, мы, скажем, ввязались в драку, и я вижу, как один дубасит другого, я смотрю на воротник…
– Замечательно – соглашается Пиннеберг и начинает разбирать накладные, полученные в субботу с вечерней почтой. – Что, Мюнхен 387 536 – общий заказ?
– Вагон с пшеницей? Да… И представляешь, у нашего груфа теперь на левой петлице звездочка.
– А что такое груф? – спрашивает Пиннеберг.
Но тут приходит Шульц, третий дармоед, приходит в десять минут девятого. Приходит Шульц, и сразу забыты и нацистские значки и накладные на пшеницу. Приходит Шульц, демонический Шульц, гениальный, но совсем не добродетельный Шульц; Шульц, правда, может высчитать в уме быстрее, чем Пиннеберг на бумаге, сколько стоят 285,63 центнера по 3,85 марки за центнер, но зато он бабник, отчаянный кутила, он бегает за каждой юбкой, ему единственному удалось поцеловать Марихен Клейнгольц, правда, так сказать, мимоходом, от щедрости сердца, и все же избежать брачных уз.
Приходит Шульц – над желтым морщинистым лбом напомаженные черные кудри, большие, сверкающие черные глаза, – Шульц, духеровский модник в отутюженных брюках и черной фетровой шляпе (пятьдесят сантиметров в диаметре), Шульц, с массивными кольцами на желтых от табака пальцах, Шульц, властитель сердец всех служанок, кумир всех продавщиц, они поджидают его вечером у конторы, за счастье потанцевать с ним – ссорятся.
Приходит Шульц.
Шульц говорит:
– Здрасте!
Вешает пальто, аккуратно, на плечики, смотрит на сослуживцев сперва испытующе, затем с сожалением, затем с презрением и говорит:
– Ну, вы, как обычно, ничего не знаете?
– Какую девку ты вчера хапал-лапал? – спрашивает Лаутербах.
– Ничего вы не знаете. Ровно ничего. Сидите здесь, накладные подсчитываете, над контокорренте корпите, а тем временем…
– Что тем временем?
– Эмиль… Эмиль и Эмилия вчера вечером в «Тиволи»…
– Неужели он ее с собой потащил? Быть того не может! Шульц садится:
– Пора бы уже и за образцы клевера приниматься. Кто ими займется, ты или Лаутербах?
– Ты!
– Клевер не по моей части, по клеверу специалист наш дорогой сельскохозяйственник. Хозяин отплясывал с брюнеточкой Фридой, что с багетной фабрики, а я на два шага сзади, и вдруг наша старуха как налетит на него. Эмилия в халате, а под халатом, должно быть, только сорочка…
– В «Тиволи»?
– Заливаешь, Шульц.
– Провалиться мне на этом месте! «Гармония» устроила в «Тиволи» семейный танцевальный вечер. Военный оркестр из Плаца – во-о! Рейхсвер – во-о! И вдруг наша Эмилия как налетит на своего Эмиля, и бац его по уху, ах ты старый пьянчуга, ах ты свинья…
К черту накладные, к черту работу! Контора Клейнгольца смакует сенсационную новость. Лаутербах молит
– Расскажи все сначала, Шульц, Значит, фрау Клейнгольц входит в зал… Я не совсем себе представляю… через какую это дверь? Когда ты ее заметил?
Шульц польщен.
– Что тут еще рассказывать? Ты уже все знаешь. Ну, так вот, входит она, значит, через ту дверь, что прямо из коридора, а сама такая красная, знаешь, просто багрово-малиновая… Входит, значит…
Входит Эмиль Клейнгольц, в контору, само собой. Трое служащих отскакивают друг от друга, спешат по своим местам, шуршат бумагой. Клейнгольц смотрит на них, стоит перед ними, взирает на склоненные головы.
– Вам нечего делать?! – вопит он. – Нечего делать? Так я одного уволю. Ну, кого?…
Никто не поднимает головы.
– Нужна рационализация. Где трое могут бездельничать, двое будут работать. Что вы скажете, Пиннеберг? Вы поступили последним.
Пиннеберг молчит.
– Ну, разумеется, теперь все как язык проглотили. А минуту назад… Какая у меня старуха, а? Отвечайте, старый козел, – малиновая, багровая, а? Вас, что ли, выгнать? Взять да сию же минуту и выгнать?
«Подслушивал, собака, – думают все трое, бледные от страха. – Господи, господи боже мой, что я говорил?»
– Мы вообще не о вас толковали, господин Клейнгольц, – говорит Шульц, но чуть слышно, так, бормочет себе под нос.
– Ну, а вы? Вы? – обращается Клейнгольц к Лаутербаху.
Но Лаутербаха не так легко запугать, как его сослуживцев, Лаутербах принадлежит к тем немногим служащим, которым наплевать, есть у них место или нет. «Это чтобы я боялся? При моих-то лапищах? Я на всякую работу пойду, – и конюхом, и грузчиком. Подумаешь, служащий! Даже слушать противно! Только одно название!»
Итак, Лаутербах без страха смотрит в налитые кровью глаза хозяина.
– Да, господин Клейнгольц?
Клейнгольц ударяет кулаком по перегородке, так что гул идет.
– Одного из вас, дармоедов, я выгоню! Вот увидите… Но это еще не значит, что остальные могут успокоиться. Таких, как вы, хоть пруд пруди – Лаутербах, ступайте на склад и вместе с Крузе пересыпьте в мешки сто центнеров жмыхов. Тех, что от Руфиске! Нет, ступайте вы, Шульц! И вид же у вас сегодня – краше в гроб кладут, вам полезно будет поворочать мешки.
Шульц исчезает, не говоря ни слова, рад, что отделался.
– Вы, Пиннеберг, отправляйтесь на вокзал, да поторапливайтесь. Закажите на завтрашнее утро, на шесть часов, четыре двадцатитонных вагона, надо отгрузить пшеницу на мельницу. Живо!
– Слушаюсь, господин Клейнгольц, – говорит Пиннеберг и смывается. На душе у него кошки скребут. Скорее всего Эмиль только спьяну болтает. И все же…
На обратном пути с товарной станции он видит на противоположной стороне улицы знакомую фигуру, знакомого человека, знакомую женщину, ее, свою жену…
Он медленно переходит через улицу на ту сторону…
Там идет Овечка, в руках у нее хозяйственная сумка. Овечка его не видит. Вот она остановилась у мясной лавки Брехта, рассматривает выставленный товар. Он подходит совсем близко, окидывает внимательным взглядом улицу, дома, – как будто опасности ждать неоткуда.
– Что сегодня шамать будем, дамочка? – шепчет он ей на ухо и тут же спешит отойти, оглядывается еще раз на ее засиявшее от радости личико. Ой, вдруг фрау Брехт видела из окна… она-то его знает, он всегда покупал у нее колбасу… Эх, опять он забыл о благоразумии, но что прикажете делать, если у вас такая жена. Видно, кастрюль она не купила, да, надо быть очень бережливыми…
В конторе сидит хозяин. Соло. Лаутербаха нет. Шульца нет. «Дело дрянь, – думает Пиннеберг. – Совсем дрянь!»
Но хозяин не обращает на него никакого внимания, подперев голову одной рукой, он водит пальцем другой по строчкам кассовой книги, медленно, словно читает по складам.
Пиннеберг взвешивает положение. «Самое лучшее сесть за пишущую машинку, – думает он. – Буду стучать, тогда не станет донимать разговорами».
Но Пиннеберг ошибся. Не успел он написать: «Милостивый государь, при сем прилагаем образец нашего клевера урожая нынешнего года, качество гарантировано, всхожесть девяносто пять процентов, чистота девяносто девять процентов…» – как на плечо ему ложится рука, и хозяин говорит:
– Минуточку, Пиннеберг…
– Да, господин Клейнгольц? – отзывается Пиннеберг и снимает пальцы с клавишей.
– Вы заняты предложением клевера? Предоставьте это Лаутербаху…
– Я…
– С вагонами все в порядке?
– Все в порядке, господин Клейнгольц.
– Сегодня после обеда все за работу – ссыпать пшеницу в мешки. Заставлю и моих баб тоже помогать: пусть мешки завязывают.
– Да, господин Клейнгольц.
– Мари работница хоть куда. Да и вообще она хоть куда. Красавицей ее не назовешь, а в остальном хоть куда.
– Ну, само собой, господин Клейнгольц.
Они сидят друг против друга. В разговоре наступила пауза. Господин Клейнгольц ждет воздействия своих слов – они, так сказать, проявитель, теперь должно выявиться, что отпечаталось на пластинке.
Подавленный Пиннеберг с тревогой смотрит на сидящего напротив него хозяина в грубошерстном зеленом костюме и высоких сапогах.
– Да, Пиннеберг, вы подумали? – снова начинает хозяин, и голос его звучит прочувствованно. – Ну так как же, подумали?
Перепуганный до смерти Пиннеберг думает. Но выхода не находит.
– О чем подумал? – задает он глупый вопрос.
– Да об увольнении, – выдержав долгую паузу, произносит работодатель, – об увольнении! Будь вы на моем месте, кого бы вы уволили?
Пиннеберга бросает в жар. Вот ведь сволочь. Вот ведь свинья, как измывается над человеком!
– Этого я сказать не могу, господин Клейнгольц, – волнуясь, говорит он. – Не могу же я выступать против своих сослуживцев.
Клейнгольц наслаждается ситуацией.
– Себя бы вы не уволили, если бы вы были мною? – спрашивает он.
– Если бы я был… Сам себя? Не могу же я…
– Ну, я уверен, что вы над этим вопросом еще подумаете, – говорит Эмиль Клейнгольц и встает. – По условию я должен предупредить вас за месяц. Значит, первого сентября, а уволить первого октября, так ведь?
Клейнгольц покидает контору, идет доложить жене, как поизмывался над Пиннебергом. Глядишь, она и нацедит ему рюмочку. Очень бы сейчас кстати было.
ГОРОХОВЫЙ СУП ПРИГОТОВЛЕН, ПИСЬМО НАПИСАНО, НО ВОДА ОКАЗАЛАСЬ СЛИШКОМ ЖИДКОЙ.
С утра Овечка прежде всего отправилась за покупками, только положила на подоконник подушки и перины, чтобы проветрились, и ушла за покупками. Почему он не сказал, что готовить на обед? Она же не знает! И понятия не имеет, что он любит.
По мере размышлении возможности все сужались, и в конце концов изобретательная фантазия Овечки остановилась на гороховом супе. Это просто и дешево, его можно и на второй день есть.
О, господи, хорошо девушкам, которых по-настоящему обучили готовить! Меня мать всегда прогоняла от плиты. «Ступай прочь, не умеешь, так не суйся!»
Что нужно для супа? Вода есть. Кастрюля есть. Горох? Сколько гороха? Полфунта на двоих за глаза достаточно. Горох хорошо разваривается. Соль? Зелень? Немножко сала? Да, пожалуй, на всякий случай надо взять. А мяса сколько? И прежде всего какое мясо? Говядину, конечно, говядину. Полфунта должно хватить. Горох очень питателен. А есть много мяса вредно. И, конечно, картошка.
Овечка пошла за покупками. Замечательно вот так, в самый обычный будничный день, утром, когда все сидят в конторах, гулять по улице; еще совсем свежо, хотя солнце уже светит вовсю.
На Базарной площади гудит большая желтая почтовая машина. Может быть, там, за окном конторы, сидит ее мальчуган. Но он не сидит за окном, десять минут спустя он останавливается у нее за спиной и спрашивает, что они будут шамать за обедом. Жена мясника, несомненно, что-то заметила, уж очень чудно она себя держит, и за фунт костей для супа спросила тридцать пфеннигов, за голые кости, без кусочка мяса, их бы просто в придачу дать надо. Она, Овечка, напишет матери и спросит, не жульничество ли это? Нет, лучше не надо, лучше она сама во всем разберется. Но его матери она должна написать. И по дороге домой она начинает сочинять письмо.
Можно подумать, будто Шаренхеферша бесплотный дух, в кухне, куда Овечка ходила за водой, не заметно, чтобы там готовили или собирались готовить, все прибрано, плита холодная, и в комнате, что за кухней, не слышно ни звука. Овечка ставит горох на огонь. Что, соль сразу кладется? Лучше подождать, пока сварится, вернее будет.
Ну а теперь за уборку. И трудное же это дело, гораздо труднее, чем Овечка думала, ох уж эти мне старые бумажные розы, гирлянды, кое-где выгоревшие, кое-где ядовито-зеленые, выцветшая мягкая мебель, уголки, закуточки, завитушки, колонки! К половине двенадцатого надо все закончить и сесть за письмо. У милого обеденный перерыв с двенадцати до двух, он придет без четверти час, не раньше, ему еще надо в ратушу.
Без четверти двенадцать Овечка сидит за письменным столиком ореховою дерева, перед ней лежит желтая почтовая бумага, оставшаяся еще с поры ее девичества.
Прежде всего адрес: «Фрау Мари Пиннеберг. Берлин. Северо-запад, 40 – Шпеннерштрассе, 92,11».
Матери нужно написать, мать надо известить, когда женишься, особенно если ты единственный сын, больше того, единственный ребенок. Даже если ты ее не одобряешь, как сын не одобряешь ее образ жизни.
– Мать должна была бы стыдиться, – заявил Пиннеберг.
– Но, миленький, ведь она уже двадцать лет как овдовела!
– Все равно! Да к тому же у нее их несколько было.
– Ганнес, я у тебя тоже не первая.
– Это совсем другое дело.
– Что же тогда должен сказать Малыш, если он высчитает, когда он родился и когда мы поженились.
– Это еще совсем неизвестно, когда родится Малышок.
– Отлично известно. В начале марта.
– Как же так?
– Да, да, мальчуган! Я-то знаю. И твоей матери я напишу, это надо.
– Делай как знаешь, только я об этом больше слышать не хочу.
«Милостивая государыня», – ужасно глупо, правда? Так не пишут. «Дорогая фрау Пиннеберг». – Но ведь это же я сама, и это тоже как-то не звучит. Ганнес, конечно, прочитает письмо.
«Ах, что там, – думает Овечка, – или она такая, как Ганнес думает, и тогда все равно, как ни написать, или она по-настоящему славная женщина, так уж лучше напишу ей, как хотела. Итак…»
«Дорогая мама! Я ваша новая невестка Эмма, по прозвищу Овечка, мы с Ганнесом обвенчались позавчера, В субботу. Мы счастливы и довольны, и были бы еще счастливее, если бы вы порадовались вместе с нами. Нам живется хорошо, только Ганнесу, к сожалению, пришлось оставить готовое платье, теперь он работает в фирме, торгующей удобрением, что нам не очень нравится.
Вам шлют привет Ваши Овечка и …»
Она оставляет свободное место. «Письмо ты все-таки подпишешь, милый!»
У нее еще полчаса времени, она достает книгу, купленную у Викеля две недели тому назад: «Святое чудо материнства».
Читает, наморщив лоб: «Да, с появлением ребеночка наступают счастливые, светлые дни. Этим божественная природа возмещает человеческое несовершенство».
Овечка старается понять прочитанное, но смысл ускользает от нее, ей кажется, что это очень трудно и непосредственно к Малышу не относится. Затем следует стишок, она медленно несколько раз перечитывает его.
О младенца уста, о младенца уста!
В вас мудрость живет ясна и чиста!,
Ведь ребенок пернатых язык,
Словно царь Соломон, постиг.
И его Овечка тоже не совсем понимает. Но стишок какой-то такой радостный. Она откидывается на спинку стула, теперь часто бывают минуты, когда она остро ощущает в своем лоне драгоценную ношу. Она сидит с закрытыми глазами и повторяет про себя:
Ведь ребенок пернатых язык.
Словно царь Соломон, постиг.
Она чувствует: «Это, должно быть, самое радостное, что только есть на свете, Малышок должен всегда радоваться!..»
– Обед готов? – раздается еще из передней голос Ганнеса. Вероятно, она вздремнула, теперь она часто бывает такая усталая.
«Обед!» – вспоминает она и медленно встает.
– На стол еще не накрыла? – спрашивает он.
– Сейчас, милый, сию минуту, – она бежит на кухню. – Можно прямо в кастрюле на стол? Но я с удовольствием подам и в миске!
– А что у нас?
– Гороховый суп.
– Чудно. Ну, давай прямо в кастрюле. А я пока накрою на стол.
Овечка наливает ему тарелку. Вид у нее немного испуганный.
– Жидковат? – озабоченно спрашивает она.
– Наверно, хорош, – говорит он и разрезает на маленькой тарелке мясо.
Она пробует суп.
– Господи боже мой, жидкий какой! – невольно вырывается у нее. А затем следует: – Господи, а соль!
Он тоже опускает ложку; теперь они смотрят друг на друга поверх стола, поверх тарелок, поверх большой коричневой эмалированной кастрюли.
– А я думала, суп будет такой вкусный, – сокрушается Овечка. – Я все, что нужно, купила: полфунта гороха, полфунта мяса, целый фунт костей, суп должен был получиться очень вкусный!
Он встает и сосредоточенно мешает большим эмалированным уполовником в кастрюле.
– Только и попадается гороховая шелуха! Сколько ты воды налила?
– Это горох виноват! Никакой от него густоты!
– Сколько воды налила? – повторяет он.
– Полную кастрюлю.
– Пять литров и на них – полфунта гороха. Мне думается. Овечка, – говорит он, напуская на себя таинственность, – это вода виновата. Вода слишком жидкая.
– Ты думаешь, я налила слишком много воды? – огорченно спрашивает она. – Пять литров. Но я варила на два дня.
– Пять литров… мне думается, на два дня это многовато. – Он пробует еще ложку. – Прости меня, Овечка, но это, правда, одна горячая вода.
– Ах ты, мой бедненький, ты ужасно проголодался? Что же делать? Может, сбегать за яйцами, поджарить картошку и сделать глазунью? Глазунью и жареную картошку – это я умею.
– Ну, так действуй! За яйцами я сам сбегаю. И его уж и след простыл.
Он возвращается в кухню, у Овечки из глаз текут слезы, и это не от лука, который она нарезала для картошки.
– Ну, Овечка, – говорит он, – трагедии тут никакой нет. Она бросается к нему на шею.
– Миленький, ну что делать, раз я такая плохая хозяйка! Мне так хочется во всем тебе угодить. А если Малышок будет плохо кушать, он не вырастет!
– Это когда же не вырастет: сейчас или потом? – смеясь, спрашивает он. – Ты думаешь, ты так и не научишься готовить?
– Ну вот, теперь ты надо мной смеешься.
– Насчет супа я еще на лестнице подумал. Суп совсем не плохой, только воды слишком много. Поставь его снова на огонь и пусть себе долго-долго по-настоящему кипит, чтобы лишняя вода выкипела, тогда все же получится настоящий хороший гороховый суп.
– Отлично! – говорит она, просияв. – Ты совершенно прав. Сейчас же после обеда так и сделаю, тогда и за ужином по тарелке съедим.
Они несут в комнату жареную картошку и яичницу.
– Нравится? Правда, нравится, совсем по твоему вкусу? У тебя есть время? Может, приляжешь на минутку? У тебя такой утомленный вид.
– Нет, не лягу. Не потому, что опоздаю, просто сегодня я не могу спать. Этот подлец Клейнгольц…
Он долго колебался, стоит ли ей вообще говорить.
Но ведь в субботу ночью они договорились не иметь больше друг от друга секретов. Вот он и рассказывает ей все. А кроме того, когда выложишь то, что на душе, легче становится!
– Что же мне теперь делать? – спрашивает он. – Если я ему ничего не скажу, первого числа он наверняка уволит меня. Что, если просто сказать правду? Что, если сказать, что я женат, не может же он выбросить меня на улицу?
Но в этом вопросе Овечка – истая дочь своего отца: от работодателя служащему ничего хорошего ждать не приходится.
– На это ему наплевать, – с возмущением говорит она. – Прежде, возможно, и попадались среди них приличные… Но в наше время… Когда столько безработных и всем кушать хочется… Я на его место всегда найду человека – вот как они рассуждают!
– Пожалуй, Клейнгольц не такой уж плохой, – говорит Пиннеберг, – Просто он не подумал. Надо бы ему как следует растолковать. Сказать, что мы ждем Малыша и потому…
Овечка возмущена.
– И ты хочешь рассказать это ему! Ему? Да ведь он тебя шантажирует! Нет, мальчуган. Не делай этого, ни в коем случае не делай.
– Ну, а что мне тогда делать? Должен же я ему что-нибудь сказать.
– Я бы… я бы поговорила с сослуживцами, – задумчиво говорит Овечка. – Вероятно, он им тоже грозил. Если вы будете стоять друг за друга… не уволит же он всех троих.
– Возможно, так дело и выгорит, – соглашается он. – Если только они не подведут. Лаутербах не обманет, он слишком глуп, но Шульц…
Овечка верит в солидарность всех трудящихся.
– Не подведут же тебя твои сослуживцы! Нет, миленький, так все уладится. Я верю, нам не должно плохо житься. Сам посуди – мы трудолюбивы, мы экономны, и люди мы не плохие, и Малыша мы ждем, и ждем его с радостью – ну, почему, собственно, нам должно плохо житься? Это было бы просто нелепо!
КЛЕЙНГОЛЬЦ ЗАТЕВАЕТ СКЛОКУ. КУБЕ ЗАТЕВАЕТ СКЛОКУ, А СЛУЖАЩИЕ ПРЯЧУТСЯ В КУСТЫ. ГОРОХОВЫЙ СУП ОПЯТЬ НЕ УДАЛСЯ.
У фирмы Эмиль Клейнгольц чердак для хранения пшеницы старый и неудобный. Нет даже порядочного приспособления для засыпки мешков. Сперва надо взвесить мешки на десятичных весах, а потом через люк спустить вниз прямо в грузовую машину.
Ссыпать в мешки за один день тысячу шестьсот центнеров пшеницы – такое только Клейнгольц способен придумать. Никакой организации работы, никакой распорядительности. Пшеница лежит тут уже неделю, а то и две, можно бы давно начать ссыпать ее в мешки, так нет же, извольте все за один день!
На чердаке полным-полно народу, помогают все, кого Клейнгольц наспех собрал. Несколько женщин подгребают пшеницу обратно к кучам: работают трое весов: у первых Шульц, у вторых Лаутербах, у третьих Пиннеберг.
Эмиль бегает от одного к другому. Эмиль еще злее, чем утром: Эмилия ни вот столечко не дала ему выпить, потому он и не пустил на чердак ни ее, ни Мари. Злость на тиранку жену возобладала над отцовским желанием пристроить дочь. «Чтоб и духом вашим там не пахло, стервы!
– Вес мешка прибавили, вес правильный, Лаутербах? Ну и идиот! Мешок на два центнера весит три фунта, а не два! Мешок должен весить ровно два центнера три фунта, господа. И чтобы без походу. Я никому ничего дарить не собираюсь. Я сам перевешаю, Щульц.
Двое мужчин волокут мешок к спуску. Мешок развязался.
Бурая пшеница рекой полилась на пол.
– Кто завязывал мешок? Вы, Шмидт? Черт подери, вам, кажется, не впервой с мешками дело иметь. Не вчера родились! Чего на меня уставились, Пиннеберг? У вас мешок перетягивает. Я же вам, дураку, сказал, чтобы без походу!
Теперь Пиннеберг действительно уставился на хозяина и смотрит на него очень злобно.
– Ну, чего глаза вылупили! Если вам здесь не нравится, можете уходить. Шульц, старый козел, оставьте Мархейнеке в покое. Ишь ты, вздумал у меня на складе девок лапать.
Шульц бормочет что-то в свое оправдание.
– Молчать! Вы ущипнули Мархейнеке за задницу. Сколько у вас мешков?
– Двадцать три,
– Плохо дело подвигается! Плохо! Только намотайте себе на ус: пока не погрузим восемьсот мешков, ли одного человека не отпущу! Перерыва не дам. Хоть до одиннадцати ночи работать будете, вот тогда увидим…
Под крышей, нагретой жарким августовским солнцем, невыносимо душно. Мужчины сняли пиджаки, жилеты, женщины тоже сняли, что можно. Пахнет сухой пылью, потом, сеном, новыми блестящими джутовыми мешками, но сильнее всего потом, потом, потом. Запах распаренных тел, тяжелый дух чувственности становится все гуще. И непрерывно, как гудящий гонг, слышится голос Клейнгольца:
– Ледерер, вы что, с большого ума так за лопату беретесь? Возьмите лопату как следует!.. Держи мешок аккуратнее, черт полосатый, чтоб раструб был! Вот как это делается…
Пиннеберг стоит у весов. Механически опускает защелку.
– Еще немножко, фрау Фрибе. Самую малость. Так, теперь опять слишком много. Еще горсточку отсыпьте. Снимайте! Следующий! Хинрихсен, не зевайте. Теперь вам. Не то мы здесь до полуночи проторчим.
А в голове все время обрывки мыслей: «Овечке хорошо… на свежем воздухе… белые занавесочки колышутся… Замолчал бы, сукин сын! Вечно лается!.. И за такое место цепляешься! Боишься потерять. Благодарю покорно».
И опять гудит гонг:
– Ну как, Кубе? Сколько у вас вышло из этой кучи? Девяносто восемь центнеров? А в ней было сто. Это пшеница из Никельсгофа. В куче было сто центнеров. Куда у вас два центнера делись, Шульц? Я сейчас сам перевешаю. Ну-ка, ставь мешок на весы.
– Ссохлась здесь, в тепле, пшеница-то, – слышится голос старого седобородого рабочего Кубе. – Страсть сырая была, когда привезли из Никельсгофа.
– Разве я когда сырую пшеницу куплю? Нечего глотку зря драть. Тоже еще разговаривает. Небось домой, мамаше, отнес, а? Ссохлась! Слушать тошно! Украли пшеницу, вот что, здесь все, кому не лень, воруют!
– Не позволю, хозяин, меня вором обзывать, – говорит Кубе. – Я в союз пожалюсь. Не позволю, вот и весь сказ.
Он смело смотрит хозяину в лицо.
«Вот это здорово, – ликует в душе Пиннеберг. – В союз! Эх, если бы и нам также! Но разве у нас что выйдет? Нипочем не выйдет».
Клейнгольца этим не удивишь, Клейнгольцу это не внове.
– Разве я тебя вором обозвал? И не думал. Мыши, они известные воровки, у нас здесь для мышей раздолье. Надо бы, Кубе, опять отравы подложить или привить им дифтерит.
– Вы, господин Клейнгольц, сказали, что я воровал пшеницу. Все слышали. Я пойду в союз. Пожалюсь на вас, господин Клейнгольц.
– Ничего я не говорил. Ни слова вам не сказал. Эй, господин Шульц, я Кубе вором обзывал?
– Я не слышал, господин Клейнгольц.
– Видишь, Кубе? А вы, господин Пиннеберг, слышали?
– Нет, не слышал, – запинаясь, говорит Пиннеберг, а в душе льет кровавые слезы.
– Ну что, Кубе? – говорит Клейнгольц. – Вечно ты склоку затеешь. В фабрично-заводской комитет метишь.
– Осторожнее на поворотах, господин Клейнгольц, – предостерегает Кубе. – Опять за свое беретесь. Сами знаете, о чем это я. Уже три раза со мной судились, и моя правда взяла. И в четвертый раз пойду. Я, господин Клейнгольц, не из пугливых.
– Вздор несешь, Кубе, стар стал, из ума выжил, не понимаешь, что говоришь, – злится Клейнгольц, – Мне тебя жалко!
Однако с Клейнгольца довольно. Кроме того, здесь действительно ужасно жарко, особенно когда все время бегаешь и на всех орешь. Клейнгольц идет вниз, отдохнуть.
– Я пойду в контору. А вы, Пиннеберг, последите, чтобы работали. И никаких перекуров, поняли? Вы отвечаете!
Он спускается с чердака, и тотчас же начинается оживленный разговор. В темах недостатка нет, об этом позаботился сам Клейнгольц.
– Понятно, почему он сегодня как с цепи сорвался!
– Промочит горло – отойдет.
– Перекур! – кричит старый Кубе. – Перекур! Эмиль, вероятно, еще во дворе.
– Пожалуйста, пожалуйста. Кубе, не подводите меня, – просит двадцатитрехлетний Пиннеберг шестидесятитрехлетнего Кубе, – ведь господин Клейнгольц не разрешил.
– Все по договору, господин Пиннеберг, – говорит бородатый Кубе, – по договору полагается отдых. Нет такого закона, чтобы хозяин отдыха не дал.
– Но ведь он с меня спросит.