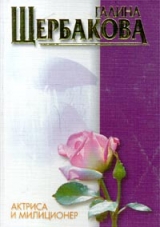
Текст книги "Актриса и милиционер (авторский сборник)"
Автор книги: Галина Щербакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
А потом поселился в квартире Валентин Петрович. Вернее, вернулся в свою комнату, до времени закрытую и опечатанную. Вместе с двумя ребятишками, которых забрал от бабушки. Мальчик и девочка, семь и девять лет. Сам он вернулся после плена, жена его во время войны умерла, и вся квартира жалела его и ребятишек.
Как хорошо помнится эта утренняя очередь в ванную, в уборную. Мальчик и девочка, заспанные, идут прямо куда надо, никто не возражает. На кухне каждый старается налить им из своего чайника. И она тоже.
Валентин Петрович в кухне – сплошной цирк.
«Разрешите ваши спички. Я свои уронил в кастрюлю...»
«Извините меня, Ольга Ивановна, я опять обмишурился с маслом... Не дадите ложечку?...»
«Макароны у меня пригорели... Скажите, это безнадежно или как-то можно спасти?...»
К Ираиде он обращался чаще всего, она подкармливала ребят, даже стирала с них, когда бралась за свое. Вечером Валентин Петрович приходил к ней просто так.
– Ида (он называл ее так), спасибо вам за все. Вы так выстирали Наташке платье, что я его не узнал. На нем, оказывается, и цветочки, и ягоды.
– Ерунда какая.
Ираида смущенно распихивает по углам вещи, на ее взгляд, интимные. Ей, например, кажется, что и пудреницу, и помаду видеть мужчине не полагается, и она прячет их под вышитую дорожку на тумбочке. И то, что на подушке у нее накидка ришелье, тоже смущает, будто она мещанка какая. И она кладет на накидку географическую карту. А тут на столе лампочка с чулком, не успела доштопать. Тоже надо спрятать, а на подоконнике в ситцевой косыночке тряпочки, на которые она накручивает волосы на ночь. И она все прячет, все растыкивает, а Валентин Петрович – олух царя небесного – хочет ей помочь, он ведь ей так благодарен, она карту на ришелье, а он снимает, порядок так порядок. Не понимает, что порядок – когда все строго. Это мама с ее поделками, вышивками... Все шлет, шлет...
Черная строгая шляпа с вуалеткой.
– Идочка, вам очень к лицу эта шляпа. Давайте я вам поправлю. – Немного загнул поля, вуалетку присобрал. Откуда в нем это?
В воскресенье они все тянут ее гулять. Идут вдоль Москвы-реки смотреть, как выскакивает на метромост поезд. Каждый раз неожиданно и радостно. Этот кусок открытого метро очень нравится Ираиде, ее умиляет и успокаивает определенность и четкость движения. А Валентин Петрович отворачивается, уходит от моста подальше. Ему больше нравится смотреть на воду. «Она меня завораживает». Так они и гуляют. Она смотрит на метро, он – на воду, а дети бегают по набережной, бросаются камешками.
Никогда она не думала, что со стороны они – семья. Но однажды старушка:
– Вы, мамаша, не туда смотрите. Дети у вас глаза друг другу выбьют.
Это было потрясающее открытие: они – семья. Ей даже стало казаться: она родила этих детей. Девочку рожала легко, а вот мальчик шел ножками. Кислородную подушку не убирали. Подумалось: со временем они поменяют квартиру, и все так и будут считать. Девочка – белесая, в нее. И ноги у нее, судя по всему, будут большие, не менее тридцать восьмого размера. Ведь есть же такая пословица: не было ни гроша, да вдруг алтын. Вот и у нее – сразу семья, полный комплект. «Да, да, мальчик шел ножками... Еле спасли и его и меня. Но, слава Богу, очень опытная оказалась акушерка. Как же ее звали? Неблагодарная память. Забыла!»
Старушка смотрит осуждающе. На ней вишневое пальто и довоенные белые фетровые боты со сбитыми каблуками. В руках авоська, из дырок торчат морковины, как шипы у мины. Домой Ираида ведет детей за руки, а Валентин Петрович шлепает сзади.
Шляпа с вуалеткой сползла на затылок. Ираида встряхивает головой, но от этого она совсем сваливается. Мальчик начинает плакать.
– Ты что?
– Лед жалко.
– Почему?
– Он растает...
– Ну и что?
– Но ведь он лед. Ему хочется быть льдом, а не водой. Льдом, льдом...
Валентин Петрович обнимает его, объясняет:
– Ты ведь тоже растешь, меняешься... Сначала мальчик, потом юноша... Но все равно это ты. Вода и лед – это то же самое.
– Нет, – кричит, – лед хочет быть льдом!
Ираида смущена. Странные дети, откуда такое? Ей никогда ничего подобного не приходило в голову.
Пьют чай у нее в комнате. Она делает бутерброды с повидлом, бежит на кухню за чайником.
И вот тогда в коридоре ее перехватывает соседка, Ольга Ивановна.
– Идка, не дури!
– Ты о чем?
– Ты знаешь, он откуда? За плен ему вовек не отмыться. И на тебя тень упадет... Ты в силу входишь...
– Да я ни о чем таком и не думала.
– А ты думай... Он в тебя, как вша в кожух, вцепился...
– Ты не права...
– Он, Ираида, клейменый. Ты это знай. И дети у него клейменые на всю жизнь. И ты не связывайся.
Ираида входит с чайником в комнату. Мальчик бросается ей помогать. Валентин Петрович смотрит с нежностью. Действительно, что это они в нее вцепились?
Утром девочка стучит в дверь:
– Тетя Ида, тетя Ида! Идите в ванную, я вам очередь заняла.
Ираида направилась было к двери и вдруг замерла. Слышит возню, это прибежал мальчик, заглядывает в замочную скважину.
– Ушла, – говорит разочарованно.
Голос Валентина Петровича: «В комнату! В комнату!» Голос Ольги Ивановны: «Что вы тут крутитесь, дети?!» Потом все стихает. Ираида умывается из графина, уходит так, чтоб никто ее не заметил.
Вечером расходятся с работы. Вынимают из-за окна свертки, заталкивают в сумки, пудрят носы. Ираида делает вид, что у нее еще дела.
– Ты что, остаешься?
– Я как получила комнату, – рассказывает Зина, что сидит напротив Ираиды, – так не могла дождаться, когда рабочий день кончится. Сижу как на иголках. И все представляю, как приду, дверь свою закрою, пояс с резинками сниму и буду ходить росомахой.
– У тебя сколько соседей?
– Мне тогда было все равно. Дверь закрою – и росомахой.
– А у тебя, Ираида, соседи как?
Она пожимает плечами.
Это спрашивает их ядовитая машинистка. Почему-то она боится, что все выйдут замуж раньше нее. Она всех подбивает на разговор о замужестве и всех отговаривает. И вот тогда тоже:
– Ты только осторожнее, Ираида. Сейчас в Москве немало мужиков всяких... Ищут дур...
– Это ты про меня? – Ираида поднимает брови.
Замуж ей хотелось. Хотелось по трем причинам. Во-первых, это дало бы какое-то основание порвать с Иваном Сергеевичем. Старик бы побоялся иметь дело с замужней женщиной. Он был человек с принципами. «Мне хорошо с вами, Ираидочка, – говорил он. – Это подарок судьбы, что вы – вольная птица. Я ведь отдаю себе отчет, что вы – последнее женское тело в моей жизни. И приятно сознавать, что тело это красивое и теплое». И он проводил сухой ладонью по ее животу, по бедрам и назад, к самой шее, и она боялась, что он нащупает у нее в горле клокочущий комок отвращения, который она постоянно, до боли в челюстях, сглатывала. Так вот. Замуж – это спасение от Ивана Сергеевича.
Во-вторых, хотелось приехать к родителям с мужем. Видела: идут они вдвоем, оба высокие, полные (да! да! полные. Это сейчас идиотская мода на мослы. Тогда, сразу после войны, красивой считалась только полная, цветущая женщина). Идут полные, высокие, оба в габардиновых серых плащах, оба в шляпах: он – в зеленой, велюровой, она – в черной, маленькой, с муаровой черной лентой, завязанной сзади бантом. У них два кожаных чемодана в ремнях, а у нее еще большая, с щелкающим замком сумка. И вся улица провожает их взглядом, а в воротах ждет отец, гордый своей Получившей Высшее Образование и Работающей в Самой Москве Дочерью. Он стоит, приподняв подбородок кверху, чтоб не выплескать застывшие в уголках глаз блестящие слезинки счастья. У кого еще такая умная дочь? Кто из соседей пьет чай с московским печеньем? А?! То-то! Ради этого, ради отца и матери, ради их радости хотелось замуж. И это во-вторых.
В-третьих, было бабье. После сухой блуждающей руки Ивана Сергеевича всегда думалось: что же все-таки на самом деле эти отношения? Есть хоть доля правды в том, что о них пишут и рассказывают? Конечно, этот вопрос можно было выяснить и без замужества, в любом доме отдыха и на любой туристской базе, но так не хотелось... Больше того, была уверенность, что так будет все плохо. Надо было иначе. Капитально.
Но с претендентами после войны было негусто...
... Оказывается, уже все ушли. Звонит телефон. Она берет трубку. Слышит детские голоса. Это девочка и мальчик.
– Позовите, пожалуйста, тетю Иду...
Она тогда трубку положила осторожно-осторожно...
Первое время – глубочайшее самоуважение. Как она ловко вынырнула! Валентин Петрович скоро из Москвы уехал. Не вникала, куда, к кому. В конце концов не она рожала этих девочку и мальчика. Мало ли что показалось той старухе в сбитых фетровых ботах. Кажется – перекрестись. Да и как бы она явилась с этим полным комплектом к отцу? Вдруг выяснилось, что габардиновый плащ на Валентине Петровиче не будет иметь вида, что их проход по родной улице покажется соседям цыганским шествием, а не торжественным приездом. Скажут просто: никто не брал, потому и вышла на детей. И это она, Умная, Получившая Высшее Образование и Работающая в Самой Москве! Ведь выйти «на детей» всегда было уделом дурнушек, перестарок или девушек с историями. Она же, она же, она же!.. На работе у нее полный блеск и самые радужные перспективы, если самой себе, конечно, не навредить. У нее есть свои идеи, она их бережет до того момента, когда сама сможет их высказать. И выскажет! Просто ужас ее охватил, когда представила: из-за Валентина Петровича у нее могло все сорваться, вся перспектива. И себе плохо, и делу – идеи не воплотит, и отца оставит без радости стоять в воротах с гордо поднятым подбородком, чтоб не скатились ненароком две сверкающие гордые слезинки. За нее. За Дочь. Ах, Валентин Петрович, Валентин Петрович, разбирайтесь со своей жизнью сами. Что я вам, в конце концов, – спасательный круг? И такой она в себе вырастила гнев, что все прошлые мысли стали ей казаться мыслями женщины, которая чудом спаслась...
А потом возле кинотеатра «Повторный» высокий военный подошел и спросил: «Вам билет не нужен?»
Она купила у него билет. Все было как в мечте. Стоял отец у ворот, а они шли по улице с мужем, неся два кожаных чемодана в ремнях. Правда, было лето и не было на них габардиновых плащей. Но зато на ней был шелковый пыльник, а на Вячеславе темно-синий бостоновый костюм и зефировая рубашка в полоску. После обеда отец сказал ей, что муж у нее представительный и имя у него хорошее. Как у Молотова. А мать пошла по соседям в обновке: вигоневой коричневой кофточке с черной окантовочкой по воротнику и крепдешиновом цветастом платочке в тон. По желтому фону рассыпались коричневые цветы на тонких черных стебельках.
Ах, как было хорошо тогда! А главное – все было основательно. Она очень любила это слово. Основательный человек – высшая аттестация. Слово, которое в фундамент положить можно. Основа. Основание. Как хорошо было сидеть рядом с Вячеславом в театре или гостях. Он такой аккуратист, всегда отглажен. А какой воспитанный! Всегда спрашивал, можно ли закурить, и дым отгонял ладонью в сторону. А он ведь ей был сладок! Дым!
Было хорошее, было. Они ездили по Военно-Грузинской дороге, и вдруг выяснилось: у нее плохой вестибулярный аппарат и ее тошнит на этих виражах. Он тут же прекратил поездку. Пропали две путевки, а он сказал: плевать. Поселились в Туапсе. Он приносил ей в резиновой шапочке виноград, втирал ей в спину масло для загара. А потом шили ей шубу. Котиковую. В специальном ателье. Он туда нашел ход и сказал мастеру: «Сделайте, как своей жене». Хорошая была шуба, теплая, объемная. Первая хорошая вещь в ее жизни.
А потом мстил. Мстил за шубу, за хрустальную люстру, за серебряный кофейный сервиз. Мог сказать: «Другие люди...» Что другие? Другие уже машины давно купили. «Не в тряпках счастье». А она разве говорит, что в тряпках? Всегда для нее работа была на первом месте, а быт – на втором.
Когда Ираида выходила замуж, дети подразумевались сами собой. Раз муж, значит, дети. Через три года созрело легкое удивление – почему? Но так, чтобы тревога или разочарование, – этого не было. Годы перешагнули за тридцать, в руках был отдел, воплощались идеи, очень ощутимыми были преимущества бездетности. Поэтому вначале из стыдливой деликатности, а потом уж и сознательно тему эту они с мужем не обсуждали. Нет и нет, и хорошо.
... Та молодая женщина с японским зонтиком могла быть и дочерью Валентина Петровича. Странно, но Ираида тогда не могла решить, что лучше: чтоб она была его женщиной или его дочерью?
Какая глупость может не давать покоя! Ну какое ей дело? Любовница, жена, дочь... Да ей-то что? Три раза чай пили, два раза детям бельишко стирала, на набережную ходили... Так нет же! Все-таки кто она ему? Подошла и провела пальцем по щеке. И замерла рядом.
Сейчас, покачивая себя на мягких пружинах, И. А. вдруг вспомнила свою старую, с крестом в окне комнату, коричневые куски хлеба на выщербленной дешевой тарелке. Она ножом выковыривает из банки резиновый джем, а дочь Валентина Петровича, Наташка, подпрыгивает от нетерпения рядом.
– Ну, доченька! – говорит он.
И тогда девочка бросается к нему на руки, прыгает у него на коленях... А она, Ираида, все возится и возится с проклятым неподдающимся джемом. Наташка вздыхает и пальчиком проводит по отцовской щеке, по маленькому шраму. Ираида так и не успела узнать, где этот шрам заработал.
Значит, дочь Валентина Петровича... И стало легче. Даже смешно стало. Как-то поникли другие «но» – костюм и депутатский значок.
Дело в том, что Ираида теперь уже с глубочайшим сочувствием относилась ко всем, имеющим взрослых детей. Она имеет глаза, она видит... Она имеет уши, она слышит. Она хорошо знает, что такое взрослые дети. К Анне Берг приходит сын. Молодой, а плешивый, рыхлый, с длинными волосами на затылке. Приходит стрельнуть четвертную на «личные потребности». Анна хохочет басом и дает. Сын ведь! Когда Ираида видит это, она торжествует, что подобного безобразия она, слава Богу, лишена. А если была бы дочь?... Тогда представляется невестка Анны, вся в камнях, цепях, брелках, кулонах, с загнутыми, как когти, малиновыми ногтями на растопыренных хватающих пальцах. Она тоже прибегает к свекрови за десяткой. На блок сигарет, пудру, помаду, капрон... Она, в отличие от сына Анны, долгов свекрови никогда не возвращает, на что Анна говорит:
– Черт со мной... Пусть лучше мне не отдает. А то закатит кто-нибудь чужой Мише скандал, и будет у него на нервной почве прободение...
Когда таких детей нет, это подарок судьбы. Конечно, есть и другие. Правда, она лично не видела. Все сосут, все тянут, а ты их – люби! Кстати, если уж быть справедливой, то в вопросе о взрослых детях они с ним единодушны. Поэтому глупости говорят о ней: «Она такая, потому что детей нет». Это не разговор, уважаемые, не разговор... Родить ребенка – ума не надо. Это – личное дело каждого. А чем оборачивается? Остервенелостью, какая там работа! Накормить, одеть, устроить, выдать, нянчить... А кто будет делать остальное?
Есть, правда, у нее в отделе одна... Мария Митрофановна. По мозгам – министр. Во всех спорных, а то и тупиковых случаях идут к ней. И. А. ненавидит себя в этот момент. Пару раз было так, что она отказывалась от правильного решения потому, что его предлагала Мария, но это слишком дорогая – государственная! – цена за гордость. Смешно: к мозгам Марии всегда надо проходить через какое-то чертово свечение. Совершенно точно – свечение. Она будто в нимбе из любви к детям, к внукам, книгам, картинам, птицам, собакам... Фу! Ей могут звонить из ЦК, из Совмина, из Госплана, к ней едут консультироваться сэвовцы, но все – поголовно все! – должны будут «по дороге к мозгам» восхититься фотографией кота Максика, что висит у нее над столом, поговорить о внучке Леночке, у которой – ужас! ужас! – сколиоз, почитать сочинение племянницы Веры, за которое та получила где-то там приз, – да мало ли что еще надо сделать! И сделаешь, чтоб эта курица наконец снесла свое золотое яичко. И она ведь знает, знает, что они терпеливо слушают весь этот бред, потому что она им нужна для другого. Так еще говорит: «Милые вы мои! Все вторично, только любовь первична. Для женщин эта истина бесспорна, для лучших мужчин – тоже, а вы меня, Ираида Александровна, простите, что я отвлекаюсь, я помню, что время – деньги, но это не мы придумали, а американцы, и так ли уж нам надо этому следовать?» И будет бесконечно светиться, сочиться этим своим естеством... А мозги – черт ее дери! – министра. Посидит, помяукает над бумагами – и предложит выход. На ее шестидесятилетие министерство было завалено подарками и телеграммами: не уходите!
Курица Мария. Она с мужем – он у нее большой начальник, учитель ботаники в восьмилетке, лютики-цветочки, одним словом, – так она с ним ходит по улице в обнимку. «Как хорошо, говорит, молодые придумали эту манеру!» Зинаида однажды шла за ними от Трубной до Театра Советской Армии. Шла как завороженная.
И тут пришло плохое воспоминание, очень плохое. Зина. Они с ней вместе начинали, в сорок первом... Шли ноздря в ноздрю, а потом, после войны, Ираида подругу обошла. У Зинаиды не было жизненной хватки. Одно пальто на десять лет, одна комната на всю жизнь. И не скромность это! Бескрылость. Ну, не вышла замуж... Господи! Да начни она, Ираида, снова, она бы теперь очень и очень подумала, стоит ли этот «замуж» свеч... Со стороны у всех ладно, а если копнуть? Глупая женщина была Зина, и бзики у нее были глупые: если уж никто замуж не берет, то хочу «собственную грушу в собственном дворе на Клязьме. Чтоб лежать под ней и ни о чем не думать».
Откуда могла быть собственная груша у Зины? Она, Ираида, так у нее и спрашивала: «Откуда у тебя могут появиться на это деньги?»
Потом, через много лет, она пригласила Зину к себе на дачу. Та уже сильно болела. Ходила мало, но тут медленно, с остановочками все обошла, обсмотрела, потом села на лавочку и сказала очень ядовито (а жить ей оставалось три месяца!):
– Нет, Ираида, это не Клязьма. И груши тут нет.
Не забыть ей этого! Она, идиотка, везла ее на такси на природу, за город, она ведь знала диагноз, знала, что это вопрос месяцев... Хотела порадовать женщину. Сгоняла Вячеслава в Пушкино за рыночной клубникой... Зина, правда, клубнику ела и коньяку выпила: «Мне уже все можно, что нельзя». А сама дачу и территорию вокруг нее в грош не поставила.
– Не обижайся, – говорила она Ираиде. – В обездоленное ты меня привезла место. Оно не для человека – для должности предназначено. Посмотри, тут даже у сосен казенный и безликий вид... Люди не оставляют здесь следов, они проходят, как тени...
Ираида тогда сказала:
– И хорошо, что не оставляют следов. Значит, сохраняют природу...
Но Зина махнула рукой:
– Не придуривайся. У тебя ведь есть деньги. Купи себе лачугу и посади грушу. Заведи кошку, собаку. Подвесь на грушу рукомойник. Выкопай колодец...
Ираида смотрела на Зину и думала: сумасшедшая. Рак уже совсем разрушил ее личность. Это же надо подумать – рукомойник на груше.
Зина умирала у нее на руках. Открыла глаза, узнала:
– А! Ты! Ну как? Посадила грушу?
Сразу после крематория Ираида поехала на дачу. Первый раз в жизни она не вернулась на работу в рабочее время. Села на электричку и уехала. Ну вас всех! Была осень. С дач съехали те, у кого дети – школьники, остались только старики и бездетные. Было как-то очень тихо и покойно. Ираида бродила по участку.
А что, если и правда посадить здесь грушу? И она стала искать место. Это было трудно, потому что все давно было посажено, посажено планово, разумно, а пустые пространства имели целевое назначение – для сушки белья, для футбола или детских песочниц. «Люди же думали, думали! – возмутилась Ираида. – Этот участок не для груш. Здесь свой порядок».
И тут этот всегда радовавший своей раскладкой порядок вдруг обернулся в ней ощущением паники. Представилось, что она – Зина, у которой до самой смерти не было изолированной квартиры, и не было денег на первоклассный санаторий, и не было мужа, и не было груши. А вот теперь и самой ее нет. Совсем и нигде. Очень легко было почему-то перевоплотиться в Зинаидино нечто. Вот ее нет. На следующее лето на казенной постели казенной дачи у этих казенных сосен будет спать ее преемник. Он только слегка, чуть-чуть что-то передвинет, вобьет на терраске два собственных гвоздя. Наверное, один для плаща, а другой... На другом он повесит ракетку. За зиму в помещении выветрится их дух. Не будет никаких признаков жизни ее и Вячеслава. «Маленькие» она ночью перед самым отъездом вынесет в овраг. Вместе с ними баночки из-под кремов и бутылочки от аллохола. И все. Но тут мысли сбились. Ведь не обязательно умирать, чтоб так от тебя ничего и не осталось. Зачем умирать? Достаточно уйти с работы... Уйти на пенсию... И тогда она испугалась, что не вернулась на службу после крематория. И побежала на электричку. Если успеть на ту, что в шестнадцать двадцать, она приедет к концу работы. И она бежала, скинув босоножки, прямо в капроне.
... Что ни говори, а кусок жизни ушел с Зиной. Как ушел когда-то с Митей. С Иваном Сергеевичем... С Валентином Петровичем...
Каждый раз в этом месте она на себя сердилась: нехорошо живого перечислять вместе с покойниками. Ведь Валентин Петрович жив, и даже депутат какой-то. Никогда она ничего плохого ему не желала – только хорошее. И не сделала ему ничего плохого... Но от логических и правильных этих объяснений самой себе легче не становилось.
К утру В. М. почему-то вспомнил, что четвертая подруга жизни Шибаева – стоматолог и наверняка имеет золотишко. Вот непотопляемый мужик, вот ловчила! Сто раз другой бы сгорел дотла, а этот выныривает, и ему все лучше. И дети у него от каждой подруги, но чтоб кто написал на него бумагу или он сам от кого отказался... Даже в гости к ним ездит, как родной. И тяжкая, горькая обида с головой покрыла В. М.
В конце концов он тогда решил заехать к Насте с самыми добрыми намерениями. И не выглядел его заезд, как крюк, почти по прямой ехал, только остановку сделал и маленько попуткой. Все-таки родина, молодость, потянуло. Это никто не осудит. В чем криминал? Шел и думал: «Я иду по-хорошему».
Настя стояла на стремянке возле дома и – нате вам! – белила стену. Увидела его свысока и залилась:
– Ой, держите, я сейчас свалюсь! Это ж надо...
У Вячеслава Матвеевича легкий чемоданчик, свободной рукой он придержал тогда стремянку, чтобы Настя слезла. Совсем рядом мелькнули ее полные белые ноги и зеленая комбинация.
– Я чего зашлась, – смеется она, вытирая руку о фартук и протягивая ему, – я теперь как белю, так тебя вспоминаю! Помнишь, как я тебя опозорила! И тут вспомнила. Смотрю, а ты собственной персоной...
– Проездом я тут. – Голос у Вячеслава Матвеевича хриплый. – Дай, думаю, посмотрю, как живешь.
– Ну, ну, ну... – Настя смеется. – С чего бы это вдруг? Ну, садись, оглядывайся. Скоро мой с работы придет, познакомлю.
– Замужем?
– Вот это да! А как же? – И все смеется, все смеется. – А ты?
– Женат. – Гордо у него так получилось, вроде все кругом сплошь холостые, а вот он женат.
– Детки есть?
– Детей нет, – в той же тональности продолжал он. – Мы оба очень много работаем.
– И поэтому детей нет?
Ну, таким приемом его не собьешь.
– У нас другая жизнь, Настя.
– А! Музеи... Театры... Зельдин и Нэлепп...
– Что? – Вячеслав Матвеевич тогда почему-то то ли испугался, то ли обиделся: это-то к чему?
– А у нас трое, – сказала Настя.
– Муж у тебя кто?
– Золотой человек. А сын уже директор школы. А дочка старшая в институте, младшая в школе. Так и живем. Дай Бог каждому.
– И мы тоже живем хорошо. Значит, все хорошо и есть...
– А ты чего приехал? Скажи все-таки, чего? На меня посмотреть, на детей моих или еще чего?
Она глядела на него снизу вверх, такая вся маленькая, сбитая, с копеечной гребенкой в волосах, в платье, заляпанном известкой. Сверлила мысль: почему она не пошла переодеться? Все-таки он гость или не гость? Мужчина или не мужчина? «Опустилась! – радостно подумал он. – Совсем опустилась!»
– Проездом я, – сказал небрежно. – Мимо. Я сейчас и уйду. У меня поезд скоро.
– Ну-ну! – странно так ответила Настя. – Ну-ну! Будешь идти мимо школы, посмотри на моего сына. Он с ребятами в футбол играет.
– Директор школы?
Настя засмеялась:
– Не положено?
– Странно как-то...
– Ну иди, раз проездом.
– Ты уже в возрасте, – вдруг напыщенно сказал Вячеслав Матвеевич. – Могла бы на побелку позвать кого-нибудь. Нанять.
– Я, Слава, всю жизнь свою чистоту сама блюду! Нанять! А может, мне это нравится?
Ничего больше из разговора не помнилось. Но было, видно, что-то еще, потому что шло время и какие-то тетки повылезали к калиткам, поставили ладони козырьком, уставились. И за две минуты ведь не могло родиться ощущение, что он с Настей и не расставался с той самой московской поры, ему даже показалось, в дверях напротив Настиного дома стоит та самая дама в банном халате. Вот тогда он почему-то испугался. Вроде надо что-то объяснять, слова какие-то говорить. Он даже слегка вспотел, хотя вообще был мужчина непотеющий, чем, кстати, весьма гордился.
И он стал говорить. Что у каждого, мол, своя дорога. Вся жизнь – дорога. А поскольку это так, то хорошо иметь подходящего попутчика.
– А! – сказала Настя. – Поняла. Попутчика. В домино играть, в карты... – И засмеялась: – Ты, Славик, не объясняй. Чего через столько-то лет?
– Да нет же! – взволновался Вячеслав Матвеевич. – Ну не то слово... Не попутчик... Пусть соратник... Понимаешь?
– Понимаю! – сказала Настя. – Это хорошее слово. Мне нравится. Давай я тебя покормлю? Да я обязательно тебя покормлю! Как же иначе? И как попутчика покормлю, и как соратника, и как знакомого, и даже как мужа первого покормлю. – И Настя вдруг в азарт вошла, всплеснула руками и кинулась в дом.
Но у него хватило ума посмотреть на черный японский хронометр и остановить ее: «Очень жаль, но, увы...» И наплел про машину, которая ждет его за бугром.
Напоследок сделал жест – поцеловал Насте руку, морщинистый, загорелый, крепкий кулачок.
Уходил, как уплывал. Так, во всяком случае, хотелось ему выглядеть в каждом глазу из-под ладони-козырька. Так бы и совсем уйти белым пароходом... Но остановился возле школьного футбольного поля. Среди ребятишек один взрослый. Это и есть, значит, Настин сын. Тот удивленно стал оглядываться, потом взял мяч и пошел к забору. Чем ближе подходил он, тем приятней делалось Вячеславу Матвеевичу: Настин сын ему не нравился. Исхитрилась Настя родить парня как раз такого, каких он терпеть не мог. Такой именно тип. Во-первых, седина. С чего бы это в тридцать лет? С каких горестей? Что он видел и что он знает? Во-вторых, этот взгляд – бьющий на расположение. Зачем? С какой радости? Ты мне кто – кум, сват, брат? И вообще весь вид. Спортивный костюм на нем дорогой, чистошерстяной, не тряпка. Зачем же тогда по колену грязным, пыльным мячиком постукивать. Если уж не можешь без этого, купи для таких целей трико за пять рублей сорок копеек. И стучи до помрачения сознания.
– Вам кого? – спрашивает Настин сын.
– Что же вы, директор, а в мяч... Как маленький.
Тот смеется Настиным смехом.
– Откуда вы знаете, что я директор?
– Да уж знаю. – Хотелось и про костюм сказать, и про седину спросить: с каких, мол, нечеловеческих страданий?
– Я думал, вам закурить, – сказал Настин сын, – так я некурящий!
Еще и некурящий!
– Играй! – будто разрешил Вячеслав Матвеевич, и тот рассмеялся: именно так и понял.
– Ну, спасибо! – сказал Настин сын и ловко так, как мальчишка, поддал мячик левой, вполне профессионально поддал.
Когда они поженились с Ираидой, он ждал сына. Не родился. Потом даже решил: хорошо. Свободно.
А сейчас вдруг подумалось: да был бы этот седой парень его сын, да пусть бы он десять костюмов враз бы изорвал, да он бы сейчас сам в своем кримплене такую бы «свечу» сделал, что все бы ахнули. И пусть бы ахнула Настя. Пусть бы всплеснула руками.
Странное было у него состояние. Все он делал так, как надо. Мужа дожидаться не стал: руку, как положено, поцеловал; ушел по-быстрому, вроде по делу; держался красиво, парню высказал свое мнение о футболе корректно, не навязываясь, пришел и ушел, когда сам захотел, а чего ж у него так все болело?
Будто им как из рогатки выстрелили. И вот он теперь летит и шмякнется неизвестно где, прямо брюхом.
Вячеслав Матвеевич выпил тогда в станционном буфете. Выпил много, жадно, не закусывая. Буфетчица – слышал он – сказала одному мужику:
– С виду человек с положением, а алкаш...
Первая половина данного ему определения не польстила, а вторая не огорчила. Подумалось: первое – неправда и второе тоже... А правда... Правды не было... Ничего не было... Всю жизнь... Всю жизнь он мечтал приехать к Насте и убедиться: тогда он поступил правильно. А получилось иначе. Настя засмеялась, и от надежды осталась пыль. И было так, как было. Старый человек пришел к старой любви, и сказать ему было нечего. Он, конечно, что-то лопотал про какой-то путь развития, а она кивала и все хотела накормить.
Он не идиот. Он уже тридцать лет знал, что именно так все и будет. Ничем это не запить... Ничем и никогда.
Резко звонит будильник. Семь утра. Оба мучительно открывают глаза. Была ночь или ее не было? Болят поясница, шея, голова... Ах, не вставать бы... Без пятнадцати восемь они за столом.
– Когда вчера вечером ты ел миноги, ты забыл закрыть холодильник. Хорошо, что я вставала...
– Ты после стирки в ванной пол не вытерла. Всю ночь стояла лужа.
Сказали и спрятались за газетами.
Она хотела наклониться над чашкой, но французская грация тут же властно и колюче выпрямила ее.
«Как в капкане», – подумала она и медленно поднесла кофе ко рту...
Каким бесконечно длинным может быть путь чашки с кофе.
1975








