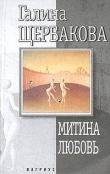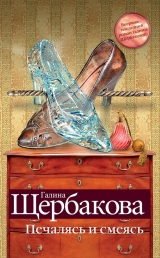
Текст книги "Печалясь и смеясь"
Автор книги: Галина Щербакова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Только вот силы – чувствовала – кончались. И ноги, и руки, и голова, и сердце вечерами криком кричали, просили у Фени пощады. Феня мокрым полотенцем голову перетянет, ноги в тазик с морской солью сунет, гадостный валерьяновый чай заварит и набухает обидой, набухает. Спроси, на кого? А черт его знает! На себя, дуру. Что бы ей выйти за того полковника? Или за лифт-инженера? Что б ей в семнадцать лет рвануть было куда-нибудь подальше, чтоб ее никто и она никого, чтоб не тянулась за ней судьба от всего их рода-племени, в котором все бабы, как одна, ломовые лошади, а мужики все, как один, только на легком подхвате. Прадед был из лакеев, дед однорукий, всю жизнь в конторе сельсовета рисовал картинки показателей, папаня шоферил в обкоме и спал по двадцать часов в сутки, не меньше. Мама тоже была шофер, так вот она как раз водила молоковоз. По любой погоде, на лысых колесах, а езжай, корми народ, мама-шоферюга… Нет, в их роду женщины были и костью, и мясом, и мозгом. И умом, и силой. Потому и передавали по женской линии только одну-одинокую уверенность – на мужиков расчета нет.
Лучший случай – чтоб не бил… Чтоб хоть дурак, но смирный. Чего Ваня так в свое время в мечту влез? За ласковость. Ладошкой мягкой своей начнет по спине водить – сердце заходится. А уж если подробности начнутся, тут и начало Фениной смерти. Ласку она его не передком воспринимала – для этого она гордая, – а как-то невозможно воздушно… Смешно, если иметь в виду – грех их почти всегда был на жестком президиумном столе, волосы Фени путались в чернильном приборе, бывало, вставала, а на затылке скрепки, колпачки от ручек, так вот мощный дубовый стол от Ваниных ладоней вызывал у Фени ощущение облака, и чем сильнее была тяжесть, тем выше взлеталось Фене, и за это она пошла бы за ним, идиотом, на край света, но он не то что не позвал, а просто ни разу, ни единственного разу не объявился больше… Феня плакала прямо в таз, и соленые ее слезы, попадая в соленую воду, испытывали на уровне существования вод свое водяное счастье единения.
…Это ж сколько прошло времени с того момента, как бросил Игорь Олечку? Да немного совсем. Не зажило это еще у Фени. А понять, что завелась у него другая, уже было можно. Раз не пришел ночевать, два… Хорошо, что еще от Вани осталась роскошь – телефон. Ничего не скажешь – звонил Игорь. Конечно, врал. У приятеля, мол. За городом, не успеваю на электричку. Феня в подробности не вникала. Для себя решила – другую невестку не признает, будь она хоть позолоченная!
Оля сказала Фене, что «новая» беременная.
– Откуда ты знаешь? – спросила Феня.
– Видела глазами, – ответила Оля. – Она сорок второй размер, а живот у нее, как дулечка, вперед. Чем рожать будет, неизвестно. Ну, нет у нее, мама Феня, тела, нет. Из чего расти ребенку – неизвестно.
– Ну и черт с ним, с этим ребенком, – сказала Феня, и ее изнутри как ударило. И еще раз, и еще, Феня за подоконник уцепилась, зубы сжала, хорошо, что Оля спокойная, как мамонт, и на мелкие, тем более чужие, внутренние чувства реагирует слабо. Не ее же изнутри ударило – свекровь, а то, что та побледнела, и взмокла, и держится за подоконник, так ведь держится? Держится. Она баба цепкая. Нечего ее пугать вопросами, что, мол, с тобой, что? Оклемается… Оклемалась Феня, рванула в ванную, включила воду и стала молиться, хотя до этого ни разу в жизни пальцы в щепоть не собирала. Она просила прощения, получалось – за хулу тому ребеночку, что торчал дулечкой на сорок втором размере. И вот тут в самое это ее нелепое моление без умения и правил увидела Феня, что в дулечке – девочка, махонькая такая, с мышонка, но значимости – почему-то! – для нее, для Фени, необыкновенной.
Тогда Феня громко, громче бегущей из крана воды сказала Богу или кто там был на проводе вместо него, что дитя это она не признает категорически, нечего ей так грубо намекать; на двоих внуков сил и возможностей у нее нет…
Но все пошло плохо. Сидело в голове видение девочки-мышонка, а Игорь ни слова, даже в дом свою «сорок вторую» не привел.
Феня не выдержала, спросила:
– Так на каком же вы этапе?
– Разведется Ирка с мужем – распишемся. Нас уже сроки поджимают.
– Так она у тебя уже целованная! – закричала Феня.
– Она у меня уже рожалая. У нее сыну четыре года. – Феня сказала себе: «Сейчас я рухну», – и тихо присела на стул.
– И где ж это вы собираетесь обретаться своей многодетной семьей?
– Без проблем, – ответил Игорь. – От матери у нее хорошая квартира со всеми делами.
– А куда ж вы мать дели?
– Ты выражайся! – ответил Игорь. – Рак. Умерла.
– А отец существует в природе?
– Тоже умер.
– Нашел своему ребеночку наследственность, – пробурчала Феня. – Сплошные покойники.
– Можно подумать, – засмеялся Игорь, – что с тобой этого не случится… Что ты бессмертная!
– Так ведь живу еще! – резонно ответила Феня. – А их нету.
– Меньше народу, больше кислороду, – засмеялся Игорь.
– Добрый ты у меня! – сказала Феня. – Гуманист.
– Кстати, – сказал Игорь. – Я фотографию видел у Ирки с одной гулянки. Так там и ты, и ее родители. Молодые и пьяные…
– Я? – удивилась Феня. – Откуда ж я могу с ними быть?
– Ты ж всех знаешь! – засмеялся Игорь. – У Ирки мать была журналисткой. Куциянова ее фамилия.
Феня сдержалась, как белорусский партизан. Потому что еще до слов пришло к ней приказание: держись, женщина, и сиди устойчиво. Вернее, сиди усидчиво.
– А! – ответила она как бы равнодушно. – А!
Тут надлежало спросить и про отца. Получилось бы в масть. Но Феня решила – ширк! ширк! – вытереть пыль. Встала, пошла размазывать грязь, чтоб больше было.
Ах ты, девочка-мышонок! Родишься ведь и будешь… Не нужна ты мне! Не нужна! Потому что я однолюбка, у меня Ваня – один, сын – один, внук – один. На два не делюсь, мышонок. Неделимая я частица… Я, мышонок, атом… Так с тряпочкой-вехоткой добралась Феня до старого ученического портфеля, в котором держала большие фотографии. В то самое время, как родить Куцияновой дочку, Феня не помнила у Куцияновой мужа. Итальянца долбаного помнила, хотя в глаза не видела. Другие разные мужские особи всплывали на поверхности воды воспоминаний… Инструктор по идеологии, например… Похабистый такой мужчинка… Главреж оперетты, круглый, как хорошо покатавшийся по свету колобок… Феню тоже щипал, причем больно, зараза, пришлось даже дать по рукам, обиделся, дурак, нажаловался завстоловой. Вот она, фотография. Вот. С юбилея газеты. Феня была на обслуживании. Стоит с самого краю, на животе поднос плашмя, на голове черт-те что, тот еще вид. В моде тогда были начесанные и налаченные башни. У нее выше всех. Было из чего строить. Куциянова, как у нее и принято, с голым разворотом плеч. Идеологический инструктор, главреж, Ваня… Все тут, все по местам… Ваня, как и полагается первому человеку, в центре, девки из общего отдела к нему притулились, кто головкой, кто бочком, но он стоял прямо, он понимал, что вспышка магния – это не просто. Это документ. Не отмажешься. Поэтому руки его шкодливые висели строго по швам и лицо изображало серьезность, ужимок не допустило.
– Мам, я пошел! – сказал Игорь.
– Подожди, – ответила Феня. – Ты не эту фотку имеешь в виду?
– Точно! Она… – засмеялся Игорь. – Ты тут как Екатерина Вторая…
– Я такая и есть, – сказала Феня. – Ну, кто ж отец, если Куциянова – мать?
– Так начальник же обкома! – сказал Игорь. – Он Ирку потом уже признал, хотя она и незаконная. Ирка моя – дитя греха.
– Тогда понятно.
Феня отнесла фотографию в портфель. Щелкнула замком. Она-то, дура, придумала Игорю автокатастрофу со своим «женихом». Даже выстригла из газеты подходящую по срокам заметку. Между прочим, другие поверили тоже.
– Обратной дороги нет, – сказала Феня так, как «Пива нет и не будет». – Никто теперь калек не держит, а мышонок явно будет слабенькая от брата и сестры. Выкинут ее к чертовой матери или родители, или врачи, и концов не найдешь. Мы народ такой.
Феня почувствовала, как начала концентрироваться до величины точки. Хорошее такое, решительное действие. Все лишнее в стороны, все нужное втягиваешь в себя и трамбуешь, трамбуешь… Силу, терпение, настойчивость, презрение, ум, хитрость, самостоятельность… Плотненько, плотненько друг к другу, чтоб больше влезло, чтоб девочке-мышонку выжить в любом случае, а у нее именно «любой случай» и будет… Потому как замесили тебя, девчоночка, на плохих дрожжах.
…А потом развернулись перед Феней плечи-приклады, не пройти. Пришлось сквозь них пробиваться силой.
…Феня умирала, лежа животом на портфеле с неформатными фотографиями. В это время дочка Куцияновой, лежа на спине, рожала в «рафике» «Неотложки», на нее матом орали медсестра и санитары, чтоб дотерпела до больницы, но что возьмешь с этой природы-бабы, если ей пристало рожать!
Чвакнула девочка-мышонок на ладони медсестры-неумехи и тут же расщепила пронзительные глазки, чтоб посмотреть на первых людей на земле Фениной сущностью.
– Ишь, – сказали ей санитары, – какая серьезная. Как пуля…
С точки зрения чечевицы
Тоненькая девушка вскочила со словами «Садитесь, пожалуйста», и огромная тетка с сумками с хрустом внедрилась в узенькое пространство, выдавив еще пару слабых телом пассажиров. Видели бы вы ее лицо. Лицо не смущенного и благодарного человека, а торжествующего хама, уверенного в своем праве. Я просто ощутила утяжеление атмосферного столба в закутке нашего вагона. Но каким разным по атомному составу был этот чертов столб! Выдавленные пассажиры генерировали свой гнев против тоненькой, они убивали ее глазами, и девчушка виновато стала пробиваться к выходу.
И тут я поняла: ее выталкивали не только они, а вся толпа. Ее не любили все. В крошечном пространстве квасился всеобщий гнев против столь малого хорошего. И это было так видно! Я хотела понять, что это есть, почему девчонка так всех раздражила. Потому что она встала, а ты нет, значит, получается, что ты хуже? Да ведь ты безногому-то точно уступил бы. И люди вели тайный скрупулезный выбор вариантов, когда бы они встали. И я, грешница, подумала: не надо было уступать место этой тетке, не надо, и все, по определению. Тетка – хамка.
У меня на этот счет есть свой опыт, давний-предавний.
…Моему сыну два месяца, и у меня кончается декретный отпуск. Тогда, в конце пятидесятых, он, этот отпуск, был двухмесячный. Почти истерически я ищу няню. Нахожу ее прямо на вокзале, в толпе бегущих из деревни людей. Это было время выдачи крестьянам паспортов в хрущевскую «оттепель». Первые признаки свободы после Сталина – и сразу массовый побег из деревни. Я отлавливаю в толпе девчонку. Дома перво-наперво вычесываю из нее вшей. Потом облачаю ее в собственную городскую одежду. Ее удивляет комбинация – такая красавица – и под всем? Не видно же! Ей непонятен пояс с чулками, как непонятен он был моей маленькой внучке, когда я пыталась ей рассказать, что это такое. Девушка кладет сахар в чай с кончика ложки, и я объясняю, что нужно класть хоть две, хоть три с верхом до нужной сладости.
Девушка остается и живет, объясняя мне, хозяйке, что живет она как в раю. Перед самым летом, проходит где-то полгода, я застаю барышню за интересным занятием. Она набивает в свой мешок не только те вещи, которые были ей отданы, но и те, что считались моими. На жалкий вопрос «Что ты делаешь?» она с лицом той тетки, что через полвека выдавливает людей в метро, объясняет мне:
– Вы думаете, я дура? Эсплутаторов давно прогнали, а вы остались. Теперь что ваше – то и мое.
Надо сказать, что все происходит в коммуналке на глазах соседей. И я вижу, что она, коммуналка, на ее стороне. И я теряюсь, я чувствую себя виноватой перед этой юной дурочкой, вымытой и без вшей. Наискосочек стоит соседка, учительница истории. Читаю некоторое смущение на ее лице. Господи, да это же она, я видела, как она шептала что-то моей няне, а когда я вошла, заговорила громким голосом политинформатора.
Итак, коммуналка против меня. В них во всех взыграла классовая солидарность. Ведь, с точки зрения чечевицы, я «эсплутатор» и «не наш человек». Вот ведь не отдаю дитя в ясли, фря такая. А чем их ясельные хуже моего сына?.. А девчонке место на заводе, разъелась тут на сладком и жареном. Когда няня уходит, мне начнут сочувствовать, и эта их фальшь будет больнее, чем страх потерять работу, чем жалость об утраченном платьице из набивного шифона и туфель-лодочек. Девчонка их унесла, как и хотела, а я стою и реву обо всем сразу. Коммуналке приятны мои слезы. Но одновременно – что ли, мы не русские? – они предлагают посидеть в очередь с дитятей, пока то да се… И я уже кидаюсь им в ноги с благодарностью, я уже не помню провокатора-историчку.
Описывая долготерпенье и ужасы жизни русского человека, литература всегда умилялась его качествами, будь то Платон Каратаев, дед Щукарь, всеми забытый Фирс или многажды восхваленный скромняга Теркин. Я не буду ни с чем спорить, в национальном характере каждого народа есть много чего, и хорошего, и дурного. Но почему история в метро сейчас и история в коммуналке полвека тому встали одна за другой? В них есть общее, общее русское – неумение быть благодарным, незнание слова «спасибо». Не просто спасибо дяде за игрушку, а папе за велосипед, а то спасибо, которое – основа человеческого общения. Ведь если нет чувства благодарности, нет ничего, нет замеса жизни. Благодарность и «хорошесть» едины. Не может быть хорошим человек, будучи неблагодарным. И наоборот. Неважно, за что спасибо – за место в транспорте, за тарелку супа или за возможность учиться, за то, что дали родители, а то и просто посторонние, за участие и сочувствие. Одним словом, жизнь стоит спасиба. Конечно, возникает встречный вопрос: а большевизм и фашизм? А рабство и калечество? Тоже спасибо?.. Но согласитесь: в любой самой страшной ситуации моменты для «спасибо» есть. И это, поверьте, больше и существеннее, чем «место подвигу» в жизни.
Меня еще в «совке» поражало, как по-барски, в смысле по-свински, мы ведем себя у младших братьев, абхазов, прибалтов, молдаван… Во всем всегда мы держали за собой право занять лучшее место и напомнить всем, как все должны быть благодарны за теснящую их задницу. Ну, вот теперь разбежались по сторонам. И мы же во всю мочь орем, какие все вокруг неблагодарные за «все, что мы для них сделали». Даже без минимальной попытки повиниться за посадки и высылки 1947–1953 годов в той же Эстонии, за коллективизацию, будь она неладна. А чтобы первыми поблагодарить за дружбу, за гостеприимство, за взаимовыгоду, она ведь тоже была, – это нет. Всегда тупое лицо своего «права тетки в метро». Встань, подвинься, раз ты такая молодая, а я вся из себя старая. Но чтоб сказать спасибо – да ни за что! Мы, русские, не кланяемся. У советских собственная гордость. Из спасиба шубу не сошьешь. Это, между прочим, из пословиц русского народа. Так что очень все запущено, господа, очень.
Женщина в красном Загадочная история
Лёне Петрову дали квартиру. По-быстрому сбросились, сбегали в угловой «Гастроном», кое-чего купили, прижали ордер на квартиру в самом центре стола стаканчиком для карандашей и торжественно выпили. Женщины мелко после этого вздрагивали и целовали Лёню а темечко, мужчины вздрагивали крупно, хлопали Лёню по плечу и требовали честного слова, что новоселье он не замотает.
Лёня пил, не закусывая. Все принимали это за признак взволнованной рассеянности и на закуске не настаивали: ее и так было мало. А если Лёня и будет чуть не в норме, так кто же этого не поймет? Кто осудит? Ему и полагалось сегодня быть пьяным от счастья.
– Ты не в себе, старик? – спрашивали Лёню. – Вот скажи, что ты испытываешь?
Лёня смотрел на всех круглыми трезвыми глазами, и вид у нeгo был такой, что ему задают явно что-то бестактное.
– Офонарел! – альтруистически радовались мужчины, доедая закуску, а женщины собирали в газету крошки и сочувственно вздыхали.
Они бы очень удивились, если бы узнали, что Лёня трезв, как то самое неизвестное стеклышко, что выпитое вино – 176 граммов – непостижимым образом превратилось в его организме то ли в компот, то ли в квас, а состояние замеченного офонарения можно было рассматривать только в смысле «просветления», «озарения», когда видишь, как с шумом летят во все стороны брызги от отряхивающейся мокрой мухи и с каким треском падает на тротуар осенний лист.
Лёню озарили поцелуи в темечко, этот блиц-стол с ордером под стаканчиком, эти дружеские подталкивания в бок с напоминаниями о новоселье… «Они прекрасные люди, – подумал Лёня. – Это надо использовать. Другого случая не будет».
Когда все ушли, он снял пиджак, предварительно спрятав во внутренний карман ордер. Вынул из стаканчика самый длинный карандаш и на чистом листе бумаги столбиком записал фамилии всех сотрудников их отдела. Было их 16 человек. Потом Лёня напротив каждой фамилии поставил цифирь. Означала она заработок. Следующий этап был творческим. Лёня закурил, походил по комнате, почеркал что-то там на другом дополнительном листке, а когда через два часа вышел из комнаты, лицо его было вдохновенным и уставшим.
Мимо пробегали туда-сюда люди, его снова потолкали в бок, напомнив о новоселье. Кто-то из опоздавших поохал на тему «Как повезло», и после этого Лёня снова вернулся в свою комнату.
«Очень прекрасные люди. Я их, пожалуй, недооценил». И он снова стал колдовать над списком, что-то там зачеркивая и дописывая вновь.
В конце рабочего дня Лёня пошел по комнатам.
Начальник отдела прижал Лёню к груди и шёпотом ему рассказал, как он вырвал из горла квартиру для Лёни у начальника соседнего отдела.
– Еще немного – и заглотнул бы тот ее, – довольно смеялся начальник. – Но я не простак! Я тут все козыри – и молодой, и перспективный, и кандидат, и женился недавно, и здоровье слабое, и сирота.
Начальник удовлетворенно любил в этот момент Лёню, а тот, опустив голову, ждал.
– Так что теперь гони новоселье!
– Вот я потому и пришел, – встрепенулся Лёня. – Не хочу откладывать.
– Да ты устройся вначале! Не торопись!
– Неразумно, – мягко сказал Леня. – Я вам сейчас объясню. Устроюсь я, куплю там что-то, поставлю, повешу, а вы потом завалитесь…
– И все у тебя порушим! – захохотал начальник.
– Да это уж ладно. Рушьте. Но вы же с подарками придете?
– Само собой!
– А вы знаете, что мне надо?
– А ты скажи, – веселился начальник. – Ложки, плошки, сковородки?
– Что вы, – возмутился Лёня. – Зачем же вам лично бегать по хозяйственным? Это пусть женщины. Я думаю, Иван Кондратьич, чтоб вам не морочить голову, вы мне люстру купите двухламповую, а к ней в комплекте бра продаются, 35 рэ стоит.
Иван Кондратьич крякнул. Он смотрел на Лёню, на его благодарные и ласковые глаза и думал, что все это повернулось как-то неожиданно, но не отказываться же?
– Ладно, я посмотрю! – растерянно буркнул он.
– Вот спасибо! – обрадовался Лёня. – А захотите переиграть в пределах суммы, поставьте меня в известность. Очень прошу об этом, чтоб дубляжа не было.
И Лёня пошел дальше. Он подходил ко всем вежливый, ласковый, и все, как по команде, сами заговаривали о новоселье.
– Не будем тянуть! – убеждал Лёня. – Ни к чему, дорого яичко ко Христову дню. Нет, нет, нет, никаких бра. Бра будут! Мне шторы в синюю клетку нужны. Шесть метров. По три пятьдесят за метр. У меня диван серо-голубой…
Старенькая машинистка, которая знала Лёнину покойницу-маму, была сговорена на набор ножей и вилок, но уже после Лёня сообразил, что, кроме зарплаты, она еще получает полностью пенсию, а значит, имеет почти столько же, сколько их отдельские мэнээсы. Лёня догнал мамину подругу в коридоре, когда она уже уходила домой, и попросил добавить к ножам и вилкам сувенирный деревянный кухонный комплект за пять семьдесят.
На другой день Лёня написал два заявления о материальной помощи в местный комитет и в дирекцию.
В АХО договорился о бесплатной машине для переезда. В комитете комсомола выпросил на часок урну для голосования, наклеил на нее бумажку с игривыми словами «Для веселья на новоселье!» и пошел, ласково улыбаясь, по комнатам.
– Сколько можете, бросьте в эту самую щелочку. Все вам пойдет на радость!
Бросали неохотно. Но медь бросать стеснялись. Полтинники отсортировывали в кармане, чтоб не достать случайно. Больше всего летело в урну почему-то пятнатчиков. Улов разочаровал Лёню, где-то из глубины стали подниматься мысли о скаредности человечества.
И он еще раз, для напоминания, прошел со списком.
– Я старый сервиз – он у меня был без трех блюдечек – продал, так что ты, Петро, смотри не подведи. Сейчас конец месяца, заглядывай в «Посуду».
– Зеркало, учти, не шире шестидесяти сантиметров, иначе в проем не войдет. И, смотри, прямоугольное, мне круглое в ванную Мария Александровна покупает.
– Слушай, детка, ты молодая, легкомысленная, боюсь, подведешь. А сейчас как раз в магазине есть разноцветные коробки для круп. Вот если сейчас все бросишь и поедешь – достанешь.
– Старик! Не профилонь! Стопки, о которых мы договаривались, есть в подарочном отделе гастронома. Taм, правда, наценочка выходит, они туда шоколад сунули, белую балерину и ленты пять метров. На шоколад не претендую! Балерину и ленту бери себе!
– Знаешь, Лёнь, – оказала ему Тамара Зотова, – я к тебе не приду. Мне ведь кандидатский сдавать на другой день. Ты уж извини…
– Жаль! – сокрушался Лёня. – А мы с тобой о чем договаривались?
– Скатерть за мной с салфетками…
– О, мать! Нe убивай! У меня твоя скатерть запланирована железно. Ты, ладно уж, сиди, зубри, а скатерть принеси на работу, ладно? Вырвись, купи, только не забывай: гладко-белую или голубую. У меня шторы в клетку синие, диван с голубизной, ковер у меня серебристый. Мне гамму нарушать нельзя. Я и то боюсь, Муратов мне должен настенную живопись купить, а мне теперь что зря вешать не годится.
И Лёня бегом бежал к Муратову прямо с дрожащими руками и ногами.
– Я тут с Зотовой говорил о скатерти. И испугался. Ты мне живопись еще не брал? Нет? Некогда? Ты брось, брось, всем некогда. Ты только помни. Мне надо две горизонтальные, одну вертикальную. И тона чтоб были спокойные, холодноватые. Без всякой желтизны. Ищи зиму. Или деревья без листьев. Ежели женское лицо будет – то бледную брюнетку с большими глазами, платком закутанную. Хорошо бы платком серым.
– А зеленым не хочешь? – спросил Муратов.
– Нет, что ты! – испугался Лёня. – У меня сине-серая гамма.
– Гамма, говоришь, – тихо переспросил Муратов. – А если я по этой гамме красным мазну? А?
– Ни в коем случае! У меня красные мазки в коридоре.
– А еще где? – спросил Муратов.
– Кухня у меня слоновой кости, ванная зеленоватая, коридор в красное ударяется, так что платок мне только серый.
– Для гаммы? – прицепился Муратов.
– Я же тебе и говорю!
– А гамма-глобулин у тебя есть?
– Зачем? – удивился Лёня. – Это же для инъекций. Ты брось шутить, я с тобой серьезно.
– И я тоже, – мрачно говорил Муратов. – Мне хочется, как в твоем коридоре, удариться в красное. Или опять же что-нибудь для инъекции…
– Муратов! Я с тобой буду шутить на новоселье, – рассердился Лёня. – Ты уходишь от вопроса. Тебе хочется мне приятное сделать?
– Нет, – сказал Муратов. – Иди ты к черту.
Лёня забеспокоился не на шутку. В конце концов, живопись не самое главное, можно обойтись, но если так каждый начнет, то прекрасно задуманное и организованное мероприятие может лопнуть.
Зотова – пac. Одно дело она идет в дом – тут с пустыми руками стыдно, а на работу вполне может не принести скатерть с салфетками. И что с ней сделаешь? Бесчестные люди были, есть и будут.
Теперь этот хам Муратов. Тут уже явный отказ, хотя свинство это с его стороны неимоверное.
А до новоселья всего три для. И еще кто-нибудь найдет себе уважительную причину.
Лёня нервничал. Все валилось из рук, а тут еще случайно услышал, что начальник в командировку собирается.
Лёня решительно взял список и пошел к нему.
– Иван Кондратьич! – спросил он жалобно. – Это правда, что вы уезжаете?
– Да, скорее всего, – ответил начальник.
– А как же новоселье? – совсем заскучал Лёня.
– Ну, Петров, это уж вы без меня обойдетесь. Я свое дело сделал.
– Купили? – радостно спохватился Лёня.
– Что купил? – растерялся Иван Кондратьич.
– Люстру двухламповую и бра. Как договорились.
Непонятным цветом замигали глаза у начальника, заскрипел он своим кожаным креслом, задвигал бумагами на столе.
«Стыдно ему. Что забыл, – тепло думал об Иване Кондратьиче Лёня. – Все-таки хороший человек».
– Сколько я тебе должен? – не своим голосом спросил начальник.
– Ну, уж! Должны! – засветился Лёня. – 35 рублей с копейками стоит все это хозяйство.
И снова заскрипел креслом Иван Кондратьич. Но бумажник достал. Вынул четыре десятки, посмотрел, что осталось. Вздохнул.
– Я вам сдачу дам, – сказал Лёня. Достал трешку и два рубля, подождал, пока положит Иван Кондратьич деньги на стол. Поменял их местами.
– Жаль, – сказал, – что не будет вас, Иван Кондратьич.
– Ох, как жаль, – сказал тот.
А Лёня пошел дальше.
– Не надо тебе бегать! – сказал он Taмape. – Ты мне скатерть отдай в денежном выражении.
Звонким рублем получил он зеркала – круглое и прямоугольное, шторы в синюю клетку, ножи и вилки, стопки с шоколадом, сувенирный набор за пять семьдесят.
И так обидно, так обидно стало Лёне, что стены в его квартире по-прежнему оставались голыми.
«Ему потом самому будет стыдно», – горько подумал Лёня и пошел к Муратову.
– Иди, иди! – сказал Муратов. – Нет у меня бледных брюнеток! Не написал я еще картину в холодной гамме.
– И не надо, – ласково засмеялся Лёня. – И не надо. Мне сегодня подарки в валюте отдают. Оно, может, и лучше. Свой глаз – алмаз…
– А ко мне чего? – спросил Муратов. – Ждешь от меня холодноватого блеска пятерки?
– Ну, нет! – взвеселился Лёня. – Как раз здесь вполне можно красным мазнуть.
– Разрешаешь? – переспросил Муратов.
– Даю добро! – ликовал Лёня.
…С тех пор Лёню никто не видал. Приходили из милиции. Со всеми беседовали. Все с Лёней в тот день разговаривали. Муратов последний.
– Мы с ним все больше о живописи калякали. Очень он любил искусство, – объяснял Муратов симпатичному следователю.
– Загадочная история, – говорил следователь.
Жена Лёни неожиданно получила приличную сумму денег от неизвестного адресата. Говорят, утешилась.
Муратов защитил диссертацию и на первую кандидатскую зарплату купил себе портрет бледной брюнетки в красном платке.
– Мазнул я его все-таки красным, – любил он загадочно повторять.
Поступайтесь принципами, ребята, поступайтесь
Дорогие мои!
Получив задание поприветствовать вас в день 70-летия (о боже, в таком-то возрасте и до сих пор «Комсомолец»!), я достала фотографии тридцатилетней давности, на которых мое поколение восторженно-открытыми глотками отмечало сорокалетие нашей общей любимой газеты. Оставим в стороне ностальгическое «как молоды мы были», это дело, как выясняется, проходящее и даже без следа. А вот открытые глотки давайте вычленим и оставим для анализа и для истории.
Что мы тогда орали? Даю на отсечение голову, что это была песня: «Забота у нас простая, забота наша такая: жила бы страна родная, и нету других забот…»
Заметили? В коротенькой строчке три раза – забота. И ни один редактор на такую тавтологию поэту не указал, потому что рука не поднялась бы. Просто мы все тогда лопались от заботы о Родине. Ну, распирало нас от нее. Ходили и заботились, дышали и заботились, и не было, значит, других забот.
А ведь под боком, между прочим, зрела (или уже свершилась) новочеркасская трагедия, да и вообще много чего было. Очереди за хлебом, например. Я задаю себе вопрос: «Где я тогда была?» Там… Близко… В очереди… Где мои записи тех лет? Их нет… И не было… Но сегодняшние воспоминания о том времени, увы, не мои. И не моих товарищей. Я буду последней, кто бросит камень за это в себя и своих друзей, но осознать сейчас, сегодня мы должны себя – тех. Что было с нами. Ведь мы считали себя хорошими, честными. Да и были, наверное, такими. Но главным в нас было другое – мы были образцовыми служителями Химеры. А Химера тем и отличается от жизни и реальности, что она каждую секунду совершает подмену.
Мы жили в искаженном мире, принимая его – фальшивый – с искренней любовью. Иначе разве могли бы мы быть главными певцами этого оборотного мира. Мы звали на «химию», звали на БАМ, звали на великие стройки. Сколько у нас было для этого ярчайших слов. И будто не знали про 56-й в Венгрии, будто не учился в нашем университете великий Солженицын, будто не было вокруг несчастий и горя. Мы служили только козлиной морде Химеры. Козлиной, козлиной, хотя она и притворялись львиной.
Хорошо помню, как бойкая дамочка из ЦК ВЛКСМ, эдакая Светланочка Горячева тех времен, стыдила мой маленький клуб юных журналистов. Знаете за что? За нашу искреннюю скорбь по поводу смерти Джона Кеннеди. Она призывала нас ликовать, ибо смерть империалиста – это всегда праздник для коммуниста. И мои девочки, стыдясь своих нормальных, человеческих чувств, взращивали в себе нечто совсем противоположное. Хотя как сказать о всех? Кто взращивал, а кто и нет. Но все равно, даже самые умные из нас были слепы, глухи, глупы и уже потому виноваты. Вот почему не могу на себя смотреть оруще-молодую. Потому что мне стыдно перед детьми и уже перед внуками за то, что радостно участвовала в диком мероприятии под названием «строительство социализма в отдельно взятой стране».
Поэтому вам, поющим ваши песни на вашей праздничной «тусовке», я желаю одного: быть свободными от любых идеологических химер, быть правдивыми до мозга костей в деле, которое выбрали. И понять – нет ничего на свете дороже счастья и благополучия одного, взятого в отдельности, человека, он же – обыватель. Оставьте его свободным от химер, не мешайте ему жить по его простым, человеческим законам. И, ради бога, не берите в голову заботу о всем человечестве. Оно этого не хочет. Оно устало, оно боится нашей заботы. От нее хлеб почему-то не родит. Я очень хочу верить – вы лучше нас. Иначе – никакого оправдания.
Ваша Галина ЩЕРБАКОВА
p. s. Я и смолоду не давала себя править, а УЖ теперь… Так что я без обиды, если это у вас «несъедобно». Ведь, как выясняется, из одного и того же «Комсомольца» вырастают и сотрудники «Огонька» и сотрудники «Советской России». Поступайтесь принципами, ребята, поступайтесь. Другого пути человеческого развития, пути стать лучше нету. А нам остро это необходимо – стать лучше. Назад, родные мои, назад – в человеческий цивилизованный мир. На этом пути я с вами…
Г. Щ. («Комсомолец», Ростов-на-Дону, апрель 1991 г.)
Невидимые миру слезы
Раз в неделю мы собираемся на редакционную летучку. Во вторник или в четверг. В зависимости от редактора, у которого – что совершенно естественно для его положения – кроме редакционных, есть еще тысяча других дел, среди которых летучка стоит в ряду «передвигаемых». Чтобы вам это понять, поясняю: непередвигаемые дела у нашего Главного связаны с двумя обстоятельствами – Совещаниями На Высоком Уровне и Собственной Машиной вместе с Ее Запасными Частями.