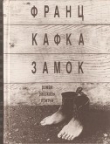Текст книги "Леда без лебедя"
Автор книги: Габриэле д'Аннунцио
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Джулиана лежала все в том же положении. Спала ли она? Только лоб, до бровей, был открыт.
Сел у изголовья и стал ждать. Глядел на этот бледный как полотно лоб, нежный и чистый, как Святые Дары, лоб сестры,который столько раз благоговейно целовали мои губы, к которому столько раз прикасались губы моей матери.
Никакого следа осквернения не было на нем; по виду он оставался все тем же. Но ничто на свете не могло отныне смыть то пятно, которое в этой бледности видели глаза моей души.
Я вспомнил некоторые слова, произнесенные в миг последнего опьянения: «Я разбужу тебя, я прочту на твоем лице сны, которые тебе приснятся». И я продолжал вспоминать: «Она все время повторяла: „Да, да“». Я задавал себе вопрос: «Какой жизнью живет теперь ее душа? Каковы ее намерения? На что она решилась?» И я глядел на ее лоб. Я перестал видеть свои мучения; я старался представить себе ее боль, понять ее муку.
В самом деле, ее отчаяние было, вероятно, нечеловеческим; оно не давало ей ни минуты покоя, не было видно конца ему. Моя казнь была и ее казнью, и, быть может, для нее была еще более ужасная казнь. Там, в Виллалилле, в аллее, на скамье, в доме, она, наверное, почувствовала истину в моих словах, прочла ее на моем лице. Она поверила в мою безграничную любовь.
«…Ты была в моем доме, а я искал тебя далеко.О, скажи мне: разве это признание не стоит всех твоих слез? Разве ты не согласилась бы пролить еще больше слез за такое доказательство моей любви?
– Да, еще больше!..»
Так ответила она, так ответила вся ее душа голосом, казавшимся мне поистине божественным. «Да, еще больше!..»
Она согласилась бы пролить еще много слез, перенести еще новую муку за это признание! И, видя у своих ног влюбленного, как никогда раньше, человека, уже много лет потерянного и оплакиваемого, видя, как открывается перед ней новый, неведомый рай, она чувствовала себя недостойной, физически ощущала свою опороченность, принуждена была чувствовать мою голову на своем лоне, оплодотворенном семенем другого. Ах, как могло случиться, что ее слезы не ранили моего лица, что я мог их пить и не отравиться?
В одно мгновение я снова пережил весь наш день любви. Я снова увидел все выражения, даже самые неуловимые, появившиеся на лице Джулианы с момента нашего прибытия в Виллалиллу, – и понял их все. Внезапный свет озарил меня. «Ах, когда я говорил ей о завтрашнем дне, о будущем – какой ужас, вероятно, внушало ей слово „завтра“ в моих устах!» И я вспомнил наш краткий разговор на балконе, против кипариса. Она покорно, с легкой улыбкой, повторяла: «Умереть!» Она говорила о близком конце. Она спросила: «Что ты будешь делать, если я внезапно умру, если, например, я умру завтра?» Потом, в нашей комнате, она крикнула, прижимаясь ко мне: «Нет, нет, Туллио, не говори о будущем,думай о сегодня, о настоящем часе!» Разве не выдавали эти поступки, эти слова намерения умереть? Разве не указывали они на трагическую решимость? Было очевидно, что она решила покончить с собой, что она, может быть, убьет себя в эту самую ночь, не дожидаясь неизбежного завтра,так как не было для нее другого исхода.
Когда прошел ужас, внушенный мне мыслью о неизбежной опасности, я начал рассуждать сам с собой: «Что может повлечь более тяжкие последствия – смерть Джулианы или ее жизнь? Ввиду того что гибель неизбежна, пропасть бездонна, может быть, следует предпочесть внезапную катастрофу бесконечной длительности ужасной драмы». И мое воображение рисовало мне все перипетии родов Джулианы: я уже видел перед собой новое существо, которое вторгнется в мою жизнь, будет носить мое имя, сделается моим наследником, незаконно овладеет ласками моей матери, моих дочерей, моего брата. «Да, только смерть может прервать роковой бег этих событий. Но останется ли самоубийство тайной? Каким образом покончит с собой Джулиана? Если будет установлено, что она сама себя убила, что подумают моя мать, мой брат? Какой удар это был бы для моей матери! А Мария? А Наталья? И я, что сделаю я со своей жизнью?»
В самом деле, я не представлял себе своей жизни без Джулианы. Я любил это бедное существо, даже покрытое пятном позора. Если не считать того внезапного порыва ярости под влиянием чувственной ревности, я еще не питал к ней ни ревности, ни презрения. Мысль о мщении не приходила мне в голову. Напротив, я чувствовал к ней глубокое сострадание. С самого начала я принял на себя всю ответственность за ее падение. Гордое, благородное чувство воодушевило меня, возвысило меня. «Она сумела склонить голову под моими ударами, сумела страдать, сумела таить свою муку; она дала мне пример мужества, пример героического отречения. Теперь моя очередь, я должен отплатить ей, должен спасти ее во что бы то ни стало». Этим душевным подъемом, этим добрым чувством я был обязан ей.
Я внимательно поглядел на нее. Она лежала все в том же положении, неподвижно, с открытым лбом. «Спит ли она, – думал я, – быть может, она только притворяется, будто спит, для того чтобы устранить всякое подозрение, для того чтобы ее оставили одну? Если она действительно намерена не дожить до завтра, то она всеми силами старается теперь способствовать осуществлению этого намерения. Она симулирует сон. Если бы она в самом деле спала, то ее сон не мог бы быть таким спокойным, таким крепким – ведь у нее так возбуждены нервы. Вот я потревожу ее…» Но я колебался: «Быть может, однако, она в самом деле спит? Часто, после сильного нервного напряжения, несмотря на самое мучительное душевное состояние, нападает на человека сон, тяжелый, как обморок. О, хоть бы этот сон длился до утра, чтобы она встала освеженная и достаточно сильная для неизбежного объяснения между нами». Я пристально глядел на ее бледный как полотно лоб и, наклонившись слегка, заметил, что он становится влажным. Капля пота выступила над бровью, и эта капля вызвала во мне представление о том холодном поте, который сопровождает действие наркотических ядов. Внезапное подозрение пронизало меня: «Морфий!» Инстинктивно мой взгляд перенесся к ночному столику, по ту сторону постели, словно для того, чтобы найти на нем стеклянный флакон, отмеченный маленьким черным черепом, обычным символом смерти.
На столике стояли графин с водой, стакан, подсвечник; тут же лежали носовой платок ее и несколько шпилек, блестевших при свете лампы; больше не было ничего. Я быстро осмотрел весь альков. Смертельный страх сжимал мое сердце. «У Джулианы есть морфий, он всегда имеется у нее в небольшом количестве для впрыскиваний. Я уверен, что она задумала отравиться им. Куда она могла спрятать флакон?» Перед моими глазами стояла маленькая склянка, которую я однажды видел в руках Джулианы, склянка, отмеченная зловещей этикеткой, которую употребляют аптекари, чтобы обозначить яд. Возбужденное воображение шепнуло мне: «А что, если она уже выпила?.. Этот пот…» Я весь дрожал, сидя на стуле; и лихорадочные размышления проносились в моем мозгу. «Но когда же? Каким образом? Ее не оставляли одну. Достаточно одного мгновения, чтобы осушить флакон. Но, вероятно, была бы рвота… А этот приступ судорожной рвоты, недавно, как только она вошла в комнату? Заранее решив покончить с собой, она, быть может, держала морфий при себе. Весьма возможно, что она выпила его до приезда в Бадиолу, в коляске, в темноте. В самом деле, она не позволила Федерико съездить за врачом…» Я не знал хорошенько признаков отравления морфием. Бледный влажный лоб Джулианы, ее полная неподвижность пугали меня. Я собирался разбудить ее. «Но что, если я ошибаюсь? Если она проснется, что скажу я ей?» Мне казалось, что первое произнесенное ею слово, первый взгляд, которым мы обменяемся, наше первое обращение друг к другу произведут на меня неожиданное по своей силе впечатление; мне казалось, что я не смогу владеть собой, скрыть свое состояние и что она сразу, поглядев на меня, поймет, что я знаю все. И что тогда?
Я напряг свой слух, надеясь и в то же время боясь услышать шаги моей матери. Затем – я бы так не дрожал, приподымая саван, покрывающий лицо покойника, – я мало-помалу открыл лицо Джулианы.
Она раскрыла глаза.
– Ах, Туллио, это ты?
Она произнесла эти слова обычным голосом. И – что было для меня неожиданностью – я также мог говорить.
– Ты спала? – спросил я, избегая глядеть ей в глаза.
– Да, я заснула.
– Значит, я разбудил тебя… Прости… Я хотел открыть тебе рот… Я боялся, что тебе трудно дышать, что ты задохнешься под одеялами.
– Да, это правда. Мне теперь тепло, даже жарко. Сними с меня несколько одеял, прошу тебя.
Я встал, чтобы исполнить ее просьбу. Я не могу теперь определить то состояние моего сознания, которое сопровождало мои движения, припомнить слова, которые я произносил и слышал; все, что происходило тогда, было так естественно, словно ничто не изменилось, словно мы с Джулианой находились в неведении и безопасности, словно там, в глубине этого спокойного алькова, не таились – прелюбодеяние, обман, угрызения совести, ревность, страх, смерть, все ужасы человеческой души.
Она спросила меня:
– Теперь очень поздно?
– Нет, еще не пробило двенадцать.
– Мама пошла спать?
– Нет еще.
После минутного молчания:
– А ты… еще не идешь? Ты, вероятно, устал…
Я не находил ответа. Должен ли я ответить, что остаюсь? Просить ее позволить мне остаться? Повторить ей нежные слова, произнесенные мной на кресле, там, в Виллалилле, в нашейкомнате? Но если бы я остался, как провел бы я эту ночь? Сидя на стуле, не смыкая глаз, или в постели, рядом с ней? Как я держал бы себя? Мог ли бы я притворяться до конца?
Она прибавила:
– Тебе лучше уйти, Туллио… сегодня… Мне больше ничего не надо; мне ничего не надо, только покоя. Если бы ты остался… было бы хуже. Тебе лучше уйти сегодня, Туллио.
– Но тебе может понадобиться…
– Нет. К тому же, на всякий случай, рядом спит Кристина.
– Я лягу тут, на кушетке, и лишь прикроюсь одеялом…
– Для чего тебе мучиться? Ты очень утомлен, это видно по лицу… Кроме того, если я буду знать, что ты здесь, я не засну. Пожалуйста, Туллио! Завтра утром, как только ты встанешь, зайдешь ко мне. Теперь мы оба нуждаемся в отдыхе, в полном отдыхе.
Ее голос был слаб и ласков; ничего необычного не слышалось в нем. Кроме настойчивого желания удалить меня, ничто не указывало на мрачную решимость. Она казалась измученной, но спокойной. То и дело она закрывала глаза, словно сон отягощал ее веки. Что делать? Оставить ее? Но именно спокойствие ее пугало меня. Ведь это спокойствие могло быть следствием твердой решимости. Что делать? В конце концов, даже мое присутствие ночью могло бы оказаться бесполезным. Она отлично могла бы осуществить свое намерение, подготовившись заранее, имея под руками средство. А это средство – в самом деле морфий? И где она спрятала флакон? Под подушкой? В ящике ночного столика? Как искать его? Для этого нужно повести все начистоту, прямо заявить ей: «Я знаю, что ты собираешься убить себя». Но что последует за этим? Уже нельзя будет скрывать остальное. И что за ночь будет после этого? Все эти колебания истощали мою энергию, изнуряли меня. Нервы мои ослабевали. Физическая усталость становилась все более и более тяжкой. Весь мой организм делался жертвой того крайнего изнеможения, когда все сознательные функции его почти прекращаются и движения перестают соответствовать друг другу. Я чувствовал себя неспособным дольше сдерживаться, бороться, действовать каким бы то ни было осмысленным образом. Сознание своей слабости, сознание неизбежности всего того, что происходило и еще произойдет, парализовало меня. Все мое существо, казалось, поразил внезапный удар. Я ощущал слепую потребность освободиться от последних, темных остатков сознания. И наконец вся моя тоска вылилась в одну отчаянную мысль: «Пусть будет, что будет, и для меня есть смерть».
– Да, Джулиана, – сказал я, – я тебя оставлю в покое. Спи. Мы увидимся завтра.
– Ты еле стоишь на ногах!
– Да, правда; я очень устал… Прощай! Покойной ночи!
– Ты меня не поцелуешь, Туллио?
Дрожь инстинктивного отвращения пронизала меня. Я колебался. В эту минуту вошла моя мать.
– Как? Ты проснулась? – воскликнула она.
– Да, но сейчас я опять засну.
– Я ходила взглянуть на девочек. Наталья не спала и тотчас же спросила меня: «Вернулась мама?» Она хотела прийти…
– Почему ты не скажешь Эдит, чтобы она принесла ее ко мне? Что, легла уже Эдит?
– Нет.
– Прощай, Джулиана, – вдруг произнес я, прерывая их разговор.
И я поспешно наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку, которую она приблизила к моим губам, слегка приподнявшись на локтях.
– Прощай, мама, я пойду лягу, мне безумно хочется спать.
– А ты не хочешь закусить? Федерико ждет тебя внизу.
– Нет, мама, не хочу. Покойной ночи!
Я поцеловал ее также в щеку и тотчас же вышел, не бросив ни одного взгляда на Джулиану. Лишь только очутившись за порогом, я собрал остатки своих сил и пустился бежать к себе, боясь, что упаду раньше, чем доберусь до своей двери. Я бросился навзничь на постель. Меня мучило то состояние возбуждения, которое предшествует припадку рыданий, когда узел тоски готов распуститься и душевное напряжение ждет облегчения. Но возбуждение все продолжалось, и слезы не приходили. Мука становилась невыносимой. Во всем своем теле я ощущал огромную тяжесть, словно мои кости и мускулы превратились в плотный свинец. А мозг мой продолжал еще работать! И сознание мое все еще бодрствовало. «Нет, я не должен был оставить ее, я не должен был согласиться уйти таким образом. Без сомнения, как только моя мать удалится, она убьет себя. Ах, этот звук ее голоса, когда она высказала желание увидеть Наталью!..» И внезапно у меня началась галлюцинация. Моя мать вышла из комнаты. Джулиана приподымается, садится на постели и прислушивается. Затем, удостоверившись наконец, что она одна, вынимает из ящика ночного столика флакон с морфием; ни одного мгновения не колеблется; решительным движением, одним духом, осушает его до дна; снова прикрывается одеялом и, лежа на спине, ждет… Видение трупа достигло такой яркости, что я как безумный вскочил на ноги, несколько раз прошелся по комнате, спотыкаясь о мебель, цепляясь за ковры, дико жестикулируя. Наконец, открыл окно.
Ночь была тихая, воздух был полон монотонного и непрерывного кваканья лягушек. На небе трепетали звезды.
Прямо передо мною ярко сверкала Большая Медведица. Время медленно текло.
Я простоял несколько минут у окна в напряженном ожидании, устремив свой взор на большое созвездие; моему расстроенному зрению казалось, что созвездие приближается ко мне. Я сам не знал, чего мне ждать. Мое сознание путалось. Странное чувство пустоты неизмеримого неба охватило меня. И вдруг, в этой тишине, словно под влиянием какого-то скрытого процесса, происшедшего в бессознательной глубине моего существа, возник не вполне еще понятый вопрос: «Что вы сделали со мной!»И видение трупа, исчезнувшее на некоторое время, снова предстало передо мной.
Охвативший меня ужас был так велик, что я, не отдавая себе отчета в своих движениях, обернулся, стремительно вышел и направился к комнате Джулианы. В коридоре я встретил мисс Эдит.
– Откуда вы, Эдит? – спросил я ее.
Я заметил, что мой вид поразил ее.
Я отнесла Наталью к синьоре, которая хотела ее видеть; но пришлось ее там оставить. Невозможно было уговорить ее вернуться к себе в постель. Она так плакала, что синьора согласилась оставить ее у себя. Надеюсь, что Мария не проснется теперь…
– Так, значит…
Сердце билось во мне с такой силой, что я не мог сразу докончить вопроса.
– Так, значит, Наталья осталась в постели матери?
– Да.
– А Мария… Пойдемте к Марии.
Я задыхался от волнения. На эту ночь Джулиана была спасена! Она не могла подумать о смерти в эту ночь, когда рядом с ней лежала девочка. Благодаря какому-то чуду нежный каприз Натальи спас ее мать. «Дорогая! Дорогая!» Прежде чем взглянуть на спящую Марию, я бросил взгляд на пустую кроватку, в которой еще сохранилось маленькое углубление. Странное желание возникло во мне – поцеловать подушку, пощупать, сохранилась ли теплота в углублении постели. Присутствие Эдит смущало меня. Я обернулся к Марии, наклонился к ней, сдерживая дыхание, долго глядел на нее, отмечая одну за другой знакомые черты сходства со мною. Она спала на боку, запрокинув головку, так что ее шея до приподнятого подбородка была открыта. Ее зубы, маленькие, как зернышки риса, сверкали в полуоткрытом рту. Ресницы, длинные, как у ее матери, разливали из глубины глаз тень, которая касалась края щек. Хрупкость драгоценного цветка, необыкновенное изящество отличали эти детские формы, в которых – я ощущал это– течет моя утонченная кровь.
Никогда еще с тех пор, как жили эти два существа, никогда еще я не испытывал к ним такого глубокого, такого сладостного и грустного чувства.
С трудом отвел я глаза от Марии. Я хотел бы сесть между этих кроваток и, положив голову на край той, которая была пуста, ждать завтра.
– Покойной ночи, Эдит, – сказал я, выходя, и голос мой дрожал, на этот раз от волнения иного рода.
Придя в свою комнату, я снова бросился навзничь на постель. И наконец разразился отчаянными рыданиями.
XII
Когда я проснулся от тяжелого, как будто животного сна, который посреди ночи внезапно одолел меня, мне стоило большого труда вернуться к ясному осознанию действительности.
Немного спустя перед моей душой, освободившейся от ночного возбуждения, предстала действительность, холодная, неприкрашенная, неотвратимая. Что были мои последние страдания в сравнении с тем ужасом, который тогда напал на меня? Нужно было жить! У меня было такое чувство, словно кто-то подносит мне полную чашу и говорит: «Если ты хочешь жить сегодня, если ты хочешь жить, то ты должен излить сюда, до последней капли, кровь твоего сердца». Отвращение, необъяснимый ужас пронизывали меня. И все же нужно было жить, нужно было принять жизнь и в это утро! И сверх того, нужно было действовать.
Сравнение, которое я сделал между моим нынешним пробуждением и тем, о котором я мечтал и на которое надеялся накануне в Виллалилле, усилило мои страдания. Я думал: «Могу ли я примириться со своим положением? Могу ли я подняться с постели, одеться, выйти из этой комнаты, вновь увидеть Джулиану, говорить с ней, продолжать притворство перед моей матерью, ожидать часа, удобного для решительного объяснения, установить в этом объяснении условия нашей будущей жизни? Нет, это невозможно. Так что же? Сразу прикончить свои муки… Освободиться, убежать… Нет другого исхода». И, соображая, как легко этого достигнуть, представляя себе молниеносность выстрела, мгновенное действие свинца, мрак, который наступит тотчас же, я во всем теле испытывал какое-то странное напряжение, мучительное, но не лишенное чувства облегчения и даже сладости. «Нет другого исхода».И хотя меня мучила жажда узнать, что будет дальше, я с облегчением думал, что не знал бы тогда ни о чем, что эта жажда прекратилась бы сразу, словом, что наступил бы конец.
Я услышал стук в дверь; раздался голос моего брата:
– Туллио, ты еще не встал? Уже девять. Можно войти?
– Войди, Федерико.
Он вошел.
– Ты знаешь, уже поздно; теперь десятый час.
– Я поздно заснул и чувствую себя крайне утомленным.
– Как ты вообще себя чувствуешь?
– Ничего.
– Мама встала. Она мне сказала, что Джулиана чувствует себя довольно хорошо. Хочешь, я раскрою окно? Чудное утро!
Он распахнул окно. Поток свежего воздуха ворвался в комнату; занавески надулись, как два паруса; сквозь оконные рамы виднелось лазурное небо.
– Видишь?
Яркий свет открыл, вероятно, на моем лице следы моих мучений, потому что брат прибавил:
– Да и ты тоже плохо провел эту ночь?
– Кажется, меня слегка лихорадило.
Федерико смотрел на меня своими ясными голубыми глазами; и в этот момент мне показалось, что на мою душу легла вся тяжесть предстоящей лжи и притворства. О, если бы он знал!
Но, как всегда, его присутствие изгнало из меня уже овладевшее мною малодушие. Я почувствовал, как после глотка живительного лекарства, прилив вызванной им энергии. «Как он держал бы себя в моем положении?» – думал я. Мое прошлое, мое воспитание, самая сущность моей натуры не допускали никакого сопоставления с ним; однако одно было несомненно: в случае несчастья, подобного моему, или какого-либо иного он держал бы себя как человек сильный и благородный, он героически встретил бы страдание, предпочел бы скорее пожертвовать собой, чем другими.
– Дай я посмотрю… – сказал он, подходя ко мне.
И он прикоснулся ладонью к моему лбу, пощупал мой пульс.
– По-моему, теперь у тебя нет жара. Но какой нервный пульс!
– Ну, я встану, Федерико, уже поздно.
– Сегодня, после полудня, я отправляюсь в Ассорский лес. Если хочешь поехать со мной, я велю оседлать для тебя Орланда. Ты помнишь этот лес? Жаль, что Джулиана чувствует себя плохо! А то мы взяли бы ее с собой… Она посмотрела бы, как обжигают уголь. – Когда он произнес имя Джулианы, его голос сделался более ласковым, более нежным; я сказал бы – более братским. О, если бы он знал! – Будь здоров, Туллио. Пойду работать. Когда ты начнешь помогать мне?
– Сегодня же, завтра, когда захочешь.
Он засмеялся.
– Что за пыл! Ладно, я погляжу, каков ты за работой! Будь здоров, Туллио.
И он вышел своей бодрой и твердой походкой, так как он всегда был во власти призыва, начертанного на круге солнечных часов: Hora est benefaciendi.
XIII
Было десять часов, когда я вышел. Яркий свет апрельского утра, вливавшийся в Бадиолу через окна и раскрытые настежь балконные двери, смущал меня. Как при таком свете сохранить свою маску?
Я зашел к матери, прежде чем прийти к Джулиане.
– Ты поздно встал, – сказала она, увидев меня. – Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо.
– Ты что-то бледен.
– Кажется, у меня был небольшой озноб ночью, но теперь я себя чувствую хорошо.
– Ты уже видел Джулиану?
– Нет еще.
– Она собиралась встать, дорогая дочка. Говорит, что вполне хорошо себя чувствует. Но вид у нее…
– Я пойду к ней.
– Не следует откладывать письмо к доктору. Не слушай Джулианы, напиши сегодня же.
– Ты ей сказала… что я знаю?
– Да, я ей сказала, что ты знаешь.
– Я иду, мама.
Я оставил ее перед ее громадными зеркальными, продушенными ирисом шкафами, куда две служанки укладывали чудесное, только что выстиранное белье – богатство дома Эрмиль. Мария, в музыкальной комнате, брала уроки у мисс Эдит, и оттуда раздавались одна за другой быстрые и ровные гаммы. Прошел Пьетро, самый верный из слуг, седой, немного сгорбленный, неся большой поднос с хрусталем, который звенел, так как руки Пьетро дрожали от старости. На всей Бадиоле, залитой воздухом и светом, лежала печать спокойной радости. Все кругом было пропитано каким-то чувством уюта, словно тонкой и вечной улыбкой Пенатов.
Никогда еще это чувство, эта улыбка не проникали с такой силой в мою душу. Какой мир, какая тишина окружали позорную тайну, которую должны были хранить, не умирая от нее, я и Джулиана!
«Что же теперь?» – думал я, полный отчаяния, бродя по коридору, как заблудившийся странник, не будучи в состоянии направиться к тому месту, которое внушало мне страх, словно мое тело отказывалось повиноваться приказаниям воли. «Что же теперь? Она знает, что мне известно все. Всякое притворство между нами теряет отныне смысл. Необходимо взглянуть друг другу в лицо, заговорить об ужасном. Но невозможно, чтобы это выяснение произошло сегодня; трудно предвидеть все его последствия. И необходимо, теперь более, чем когда-либо, чтобы ничто в нашем поведении не показалось странным, необъяснимым моей матери, моему брату и другим обитателям дома. Мою тревогу вчера вечером, мои волнения, мою грусть можно объяснить тем, что меня беспокоят мысли о той опасности, которой подвергается Джулиана из-за своей беременности. Но в глазах других это беспокойство должно сделать меня более нежным, более заботливым по отношению к ней. Отныне я должен довести свою осторожность до крайности. Во что бы то ни стало я должен сегодня предотвратить всякую сцену между мной и Джулианой. Сегодня я должен избегать случая остаться с ней наедине. Но необходимо также, чтобы я как можно скорее дал ей понять, какое чувство определяет мое отношение к ней, какая цель руководит моим поведением. А что, если она продолжает упорствовать в своем желании покончить с собою? Что, если она лишь отложила на несколько часов исполнение своего намерения? Что, если она только ждет удобного момента?» Этот страх пресек мои колебания и заставил меня действовать. Я походил на тех восточных солдат, которых ударом плети гнали на битву.
Я направился в музыкальную комнату. Увидя меня, Мария прервала свои упражнения и подбежала ко мне, легкая и радостная, как к освободителю. Она обладала легкостью и изяществом окрыленных существ. Я поднял ее на руки, чтобы поцеловать.
– Ты возьмешь меня с собой? – спросила она. – Я устала. Уже целый час я сижу здесь с мисс Эдит… Я не могу больше. Возьми меня с собой. Let us take a walk before breakfast. [12]12
Давай прогуляемся перед завтраком (англ.).
[Закрыть]
– Куда?
– Where you please, it is the same to me. [13]13
Куда хочешь, мне все равно (англ.).
[Закрыть]
– Пойдем прежде к маме.
Вчера вы уезжали в Виллалиллу, а мы остались в Бадиоле. Это ты, ты не хотел взять нас с собой, мама была согласна. Злой! We should like to go there. Tell me, how you amused yourselves. [14]14
Мы бы хотели пойти туда. Скажи мне, как вы развлекались (англ.).
[Закрыть]
Очаровательно, как птичка, щебетала она на этом, чужом ей языке. Это непрерывное щебетание сопровождало мою тоску все время, пока мы вместе шли к комнатам Джулианы. Подойдя к двери, я остановился в нерешительности, и Мария, постучав, крикнула:
– Мама!
Сама Джулиана открыла дверь, не подозревая о моем присутствии. Увидев меня, она вздрогнула, как будто перед ней стоял призрак, словно глазам ее представилось нечто страшное.
– Это ты? – прошептала она так тихо, что я едва расслышал, тогда как губы ее внезапно потеряли краску; неподвижно, как статуя, стояла она передо мной.
И мы на пороге пристально взглянули друг на друга; очи наших душ как бы впились друг в друга. Все кругом исчезло; все между нами было сказано, понято, решено в это одно мгновение.
Потом, что было потом? Я не знаю хорошенько, не помню. Помню только, что некоторое время мое, я бы сказал, прерывистое сознание воспринимало все, что происходило, как-то лихорадочно чередуясь с моментами полного затмения. Это явление напоминало ослабление волевого внимания у некоторых больных. Я терял способность внимания; я переставал видеть, слышать, воспринимать смысл слов; потом, через некоторое время, я снова приобретал эту способность, узнавал вокруг себя предметы и лица, сознание снова начинало действовать.
Джулиана села и взяла Наталью на колени. Я тоже сел, а Мария переходила от матери ко мне, от меня к матери, все время болтая, лаская сестру, обращаясь к нам с бесчисленными вопросами, на которые мы отвечали лишь кивком головы. Эта шумная болтовня заполняла наше молчание. В один из тех моментов, когда я слышал, Мария сказала сестре:
– Ты ночью спала с мамой, правда?
– Да, – ответила Наталья, – потому что я маленькая.
– Ну, так знай, что следующая ночь уже моя. Не правда ли, мама? Возьми меня к себе в постель на эту ночь.
Джулиана молчала, не улыбалась, вся ушла в себя. Поскольку Наталья сидела у нее на коленях, повернувшись к ней спиной, то Джулиана держала девочку, обняв ее за талию; и ее скрещенные руки лежали на коленях девочки, белее, чем платьице, на котором они покоились, такие худые и скорбные, что они одни раскрывали целый мир страданий. Голова Натальи касалась подбородка матери, и Джулиана, склонившись над дочерью, казалось, прижимала свои губы к ее кудрям; когда я смотрел на нее, я не видел нижней части ее лица, не видел выражения ее губ. Не встречал я также ее взгляда. Но каждый раз я видел опущенные, слегка покрасневшие веки, которые смущали мою душу, словно сквозь них просвечивал остановившийся взгляд зрачка.
Ждала ли она, чтобы я сказал ей что-нибудь? Или, может быть, с ее губ, скрытых от меня, готовы были сорваться невысказанные слова?
Когда наконец мне удалось усилием воли выйти из этого пассивного состояния, в котором чередовались моменты необычайной ясности и полного затмения, я сказал – и при этом, помнится мне, тон моего голоса был такой, словно я продолжал начатый разговор, словно я лишь прибавил несколько слов к уже сказанным, – я сказал тихо:
– Мама желает, чтобы я известил доктора Вебести. Я обещал написать ему. Сейчас напишу.
Джулиана не подняла ресниц и продолжала молчать. Мария, в своем глубоком неведении, взглянула со страхом на мать, потом на меня.
Я встал, собираясь выйти.
– Сегодня, после полудня, мы с Федерико едем в Ассорский лес. Увидимся ли мы вечером, когда я вернусь?
Поскольку она не отвечала, я повторил ей вопрос голосом, в котором заключалось все, не выраженное мною:
– Увидимся ли мы вечером, когда я вернусь?
И губы ее сквозь кудри Натальи прошептали:
– Да.
XIV
В разгаре сменяющих друг друга и противоречивых волнений, во время первых приступов страдания, под угрозой неминуемой опасности я еще не в силах был сосредоточить свои мысли на том, Другом. К тому же с самого начала у меня не было и тени сомнения относительно верности моего прежнего подозрения. В моей душе Другой тотчас же принял образ Филиппо Арборио, и при первом приступе плотской ревности, охватившей меня там, в алькове, отталкивающий образ этого человека соединялся с образом Джулианы в целом ряде ужасных видений.
Теперь, в то время как мы с Федерико ехали верхом по направлению к лесу вдоль извилистой реки, на которую я смотрел тогда, в скорбный день Святой Субботы, Другой тоже ехал с нами. Между моим братом и мною вставал образ Филиппо Арборио, оживленный и так живо воссозданный моей ненавистью, что, представляя его, я реальноиспытывал то нервное физическое раздражение, которое несколько походило на неудержимую дрожь, не раз охватывавшую меня во время поединка, перед противником, стоявшим уже без рубашки, в ожидании сигнала к атаке.
Присутствие возле меня моего брата странным образом усиливало мое страдание. В сравнении с Федерико фигура этого человека, такая худая, такая нервная, такая женственная, еще более умалялась, становилась жалкой, и весь облик его начинал казаться мне таким презренным, таким гнусным. Под влиянием нового идеала силы и мужской простоты, воплощенного в брате, я не только ненавидел, но и презирал это сложное, двойственное существо, которое, однако, было со мной одной породы и имело общие со мной некоторые особенности мозговой конструкции, как это доказывали его художественные произведения. Я представлял себе его, подобно одному из его литературных героев, пораженным самой страшной мозговой болезнью, хитрым, двуличным, жестоко любопытным, с опустошенной душой, привыкшим обращать – благодаря привычке к анализу и беспощадной иронии – самые горячие, самые непосредственные душевные порывы в ясные и холодные выкладки, привыкшим смотреть на всякое человеческое существо как на объект психологической спекуляции, неспособным на любовь, на великодушный поступок, на самоотречение, на жертву, погрязшим во лжи, гадливым, сластолюбивым, циничным, подлым.



![Книга Молитва телу [Избранные сочинения] автора Владимир Королевич](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-molitva-telu-izbrannye-sochineniya-272008.jpg)