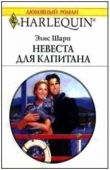Текст книги "Глаза голубой собаки (сборник)"
Автор книги: Габриэль Гарсиа Маркес
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Пока брат его болел, у него не было такого ощущения, потому что изменившееся лицо, искаженное лихорадкой и болью, с отросшей бородой, было не похоже на его собственное.
Сразу же, как только брат вытянулся и затих, побежденный окончательной смертью, он позвал брадобрея «привести тело в порядок». Сам он был тут же и стоял, вжавшись в стену, когда пришел человек, одетый в белое, и принес сверкающие инструменты для работы… Ловким движением мастер покрыл мыльной пеной бороду покойника – рот тоже был в пене. Таким я видел брата перед смертью: медленно, будто стараясь вызнать какой-то ужасный секрет, парикмахер начал его брить. Вот тогда-то и пришла эта жуткая мысль, которая заставила его вздрогнуть. По мере того как с помощью бритвенного лезвия все более проступали бледные, искаженные ужасом черты брата-близнеца, он все более чувствовал, что это мертвое тело не есть что-то чуждое ему; это – нечто составляющее единый с ним земной организм, и все, что происходит, – это просто репетиция его собственной… У него было странное чувство, что родители вынули из зеркала его отражение, то, которое он видел, когда брился. Ему казалось сейчас, что это изображение, повторявшее каждое его движение, стало независимым от него. Он видел свое отражение множество раз, когда брился, – каждое утро. Сейчас он присутствовал при драматическом событии, когда другой человек бреет его отражение в зеркале, невзирая на его собственное физическое присутствие. Он был уверен, убежден, что если сейчас подойдет к зеркалу, то не увидит там ничего, хотя законы физики и не смогут объяснить это явление. Это было раздвоение сознания! Его двойником был покойник! В полном отчаянии, пытаясь овладеть собой, он ощупал пальцами прочную стену дома, которую ощутил как застывший поток. Брадобрей закончил работу и кончиками ножниц закрыл глаза покойному. Мрак дрожал внутри него, в непоправимом одиночестве ушедшей из мира плоти. Теперь они были одинаковыми. Неотличимые друг от друга братья, без устали повторяющие друг друга.
И тогда он пришел к выводу: если эти две природные сущности так тесно связаны между собой, то должно произойти нечто необычайное и неожиданное. Он вообразил, что разделение двух тел в пространстве – не более чем видимость, на самом же деле у них единая, общая природа. Так что когда мертвец станет разлагаться, он, живой, тоже начнет гнить внутри себя.
Он услышал, как дождь застучал по стеклу с новой силой и сверчок принялся щипать свою струну. Руки его стали совершенно ледяными, скованные холодом долгой неодушевленности. Острый запах формальдегида заставлял думать, что гниение, которому подвергался его брат, проникает, как послание, оттуда, из ледяной земляной ямы. Это было нелепо! Возможно, все перевернуто с ног на голову: влияние должен оказывать он, тот, кто продолжает жить, – своей энергией, своими живыми клетками! И тогда – если так – его брат останется таким, какой он есть, и равновесие между жизнью и смертью защитит его от разложения. Но кто убедит его в этом? Разве невозможно и то, что погребенный брат сохранится нетронутым, а гниение своими синеватыми щупальцами заполонит живого?
Он подумал, что последнее предположение наиболее вероятно, и, смирившись, стал ждать своего смертного часа. Плоть его стала мягкой, разбухшей, и ему показалось, что какая-то голубая жидкость покрыла все его тело целиком. Он почувствовал – один за другим – все запахи своего тела, однако только запах формалина из соседней комнаты вызвал знакомую холодную дрожь. Потом его уже ничто не волновало. Сверчок в углу снова затянул свою песенку, большая круглая капля свисала с чистых небес прямо посреди комнаты. Он услышал: вот она упала – и не удивился, потому что знал – старая деревянная крыша здесь прохудилась, но представил себе эту каплю прохладной, бескрайней, как небеса, воды, добрую и ласковую, которая пришла с небес, из лучшей жизни, где нет таких идиотских вещей, как любовь, пищеварение или жизнь близнецов. Может быть, эта капля заполнит всю комнату через час или через тысячу лет и растворит это бренное сооружение, эту никому не нужную субстанцию, которая, возможно, – почему бы и нет? – превратится через несколько мгновений в вязкое месиво из белковины и сукровицы. Теперь уже все равно. Между ним и его могилой – только его собственная смерть. Смирившись, он услышал, как большая круглая тяжелая капля упала, произошло это где-то в другом мире, в мире нелепостей и заблуждений, в мире разумных существ.
Ева внутри своей кошки
Она вдруг заметила, что красота разрушает ее, что красота вызывает физическую боль, будто какая-нибудь опухоль, возможно даже раковая. Она ни на миг не забывала всю тяжесть своего совершенства, которая обрушилась на нее еще в отрочестве и от которой она теперь готова была упасть без сил – кто знает куда, – в усталом смирении дернувшись всем телом, словно загнанное животное. Невозможно было дальше тащить такой груз. Надо было избавиться от этого бесполезного признака личности, от части, которая была ее именем и которая так сильно выделялась, что стала лишней. Да, надо сбросить свою красоту где-нибудь за углом или в отдаленном закоулке предместья. Или забыть в гардеробе какого-нибудь второсортного ресторана, как старое ненужное пальто. Она устала везде быть в центре внимания, осаждаемой долгими взглядами мужчин. По ночам, когда бессонница втыкала иголки в веки, ей хотелось быть обычной, ничем не привлекательной женщиной. Ей, заключенной в четырех стенах комнаты, все казалось враждебным. В отчаянии она чувствовала, как бессонница проникает под кожу, в мозг, подталкивает лихорадку к корням волос. Будто в ее артериях поселились крошечные теплокровные насекомые, которые с приближением утра просыпаются и перебирают подвижными лапками, бегая у нее под кожей туда-сюда, – вот что такое был этот кусок плодоносной глины, принявшей обличье прекрасного плода, вот какой была ее природная красота. Напрасно она боролась, пытаясь прогнать этих мерзких тварей. Ей это не удавалось. Они были частью ее собственного организма. Они жили в ней задолго до ее физического существования. Они перешли к ней из сердца ее отца, который, мучась, кормил их ночами безутешного одиночества. А может быть, они попали в ее артерии через пуповину, связывавшую ее с матерью со дня основания мира. Несомненно, эти насекомые не могли зародиться только в ее теле. Она знала: они пришли из далекого прошлого, и все, кто носил ее фамилию, вынуждены были их терпеть и так же, как она, страдали от них, когда до самого рассвета их одолевала бессонница. Именно из-за этих тварей у всех ее предков было горькое и грустное выражение лица. Они глядели на нее из ушедшей жизни, со старинных портретов, с выражением одинаково мучительной тоски. Она вспомнила беспокойное выражение лица своей прабабки, которая, глядя со старого холста, просила минуту покоя, покоя от этих насекомых, которые сновали в ее кровеносных сосудах, немилосердно муча и создавая ее красоту. Нет, это были насекомые, что зародились не в ней. Они переходили из поколения в поколение, поддерживая своей микроскопической конструкцией избранную касту, обреченную на мучения. Эти насекомые родились во чреве первой из матерей, которая родила красавицу дочь. Однако надо было срочно разрушить такой порядок наследования. Кто-то должен был отказаться передавать эту искусственную красоту. Грош цена женщинам ее рода, которые восхищались собой, глядя в зеркало, если по ночам твари, населяющие их кровеносные сосуды, продолжали свою медленную и вредоносную работу – без устали, на протяжении веков. Это была не красота, а болезнь, которую надо было остановить, оборвать этот процесс решительно и по существу.
Она вспомнила нескончаемые часы, проведенные в постели, будто усеянной горячими иголками. Ночи, когда она старалась торопить время, чтобы с наступлением дня эти твари оставили ее в покое и боль утихла. Зачем нужна такая красота? Ночь за ночью, охваченная отчаянием, она думала: лучше бы родиться обыкновенной женщиной или родиться мужчиной, чтобы не было этого бесполезного преимущества, что приносят насекомые из рода в род, насекомые, которые только ускоряют приход неминуемой смерти. Возможно, она была бы счастливей, если бы была уродиной, непоправимо некрасивой, как ее чешская подруга, у которой было какое-то собачье имя. Лучше уж быть некрасивой и спокойно спать, как все добропорядочные христиане.
Она проклинала своих предков. Они виноваты в ее бессоннице. Они передали ей эту застывшую совершенную красоту, как будто, умерев, матери подновляли и подправляли свои лица и прилаживали их к туловищам дочерей. Казалось, одна и та же голова, всего одна, переходит из одного поколения в другое и у всех женщин, которые должны неотвратимо принять ее как наследственный признак красоты, – одинаковые уши, нос, рот. И так, переходя от лица к лицу, был создан этот вечный микроорганизм, который с течением времени усилил свое воздействие, приобрел свои особенности, мощь и превратился в непобедимое существо, в неизлечимую болезнь, которая, пройдя сложный процесс отбора, добралась до нее, и нет больше сил терпеть – такой острой и мучительной она стала!.. И в самом деле, будто опухоль, будто раковая опухоль.
Именно в часы бессонницы вспоминала она о таких неприятных для тонко чувствующего человека вещах. О том, что заполняло мир ее чувств, где выращивались, как в пробирке, эти ужасные насекомые. В такие ночи, глядя в темноту широко открытыми изумленными глазами, она чувствовала тяжесть мрака, опустившегося на виски, словно расплавленный свинец. Вокруг нее все спало. Лежа в углу, она пыталась разглядеть окружающие предметы, чтобы отвлечь себя от мыслей о сне и своих детских воспоминаниях.
Но это всегда кончалось ужасом перед неизвестностью. Каждый раз ее мысль, бродя по темным закоулкам дома, наталкивалась на страх. И тогда начиналась борьба. Настоящая борьба с тремя неподвижными врагами. Она не могла – нет, никогда не могла – выкинуть из головы этот страх. Горло ее сжималось, а надо было терпеть его, этот страх. И всё для того, чтобы жить в огромном старом доме и спать одной, отделенной от остального мира, в своем углу.
Мысль ее бродила по затхлым темным коридорам, стряхивая пыль со старых, покрытых паутиной портретов. Эта ужасная, потревоженная ее мыслью пыль прилетала оттуда, где превращался в ничто прах ее предков. Она всегда вспоминала о малыше. Представляла себе, как он, покойный, лежит под корнями травы, в патио, рядом с апельсиновым деревом, с комком влажной земли во рту. Ей казалось, она видит его на глинистом дне, как он царапает землю ногтями и зубами, пытаясь уйти от холода, проникающего в него; как он ищет выход наверх в этом узком туннеле, куда его положили и обсыпали ракушками. Зимой она слышала, как он тоненько плачет, перепачканный глиной, и его плач прорывается сквозь шум дождя. Ей казалось, он должен был сохраниться в этой яме, полной воды, таким, каким его оставили там пять лет назад. Она не могла представить себе, что плоть его сгнила. Напротив, он, наверное, очень красивый, когда плавает в той густой воде, из которой нет выхода. Или она видела его живым, но испуганным, ему страшно быть там одному, погребенному в темном патио. Она сама не хотела, чтобы его оставляли там, под апельсиновым деревом, так близко от дома. Ей было страшно… Она знала: он догадается, что по ночам ее неотступно преследует бессонница. И придет по широким коридорам просить ее, чтобы она пошла с ним и защитила бы его от других тварей, пожирающих корни его фиалок. Он вернется, чтобы уснуть рядом с ней, как делал это, когда был жив. Она боялась почувствовать его рядом с собой снова – после того, как ему удастся разрушить стену смерти. Боялась прикосновения этих рук, малыш всегда будет держать их крепко сцепленными, чтобы отогреть кусочек льда, который принесет с собой. После того как его превратили в цемент, наводящее страх надгробие, она хотела, чтобы его увезли далеко, потому что боялась вспоминать его по ночам. Однако его оставили там, окоченелого, в глине, и дождевые черви теперь пьют его кровь. И приходится смириться с тем, что он является ей из глубины мрака, ибо всякий раз, неизменно, когда она не могла заснуть, она думала о малыше, который зовет ее из земли и просит, чтобы она помогла ему освободиться от этой нелепой смерти.
Но сейчас, по-новому ощутив пространство и время, она немного успокоилась. Она знала, что там, за пределами ее мира, все идет своим чередом, как и раньше; что ее комната еще погружена в предрассветный сумрак и что предметы, мебель, тринадцать любимых книг – все остается на своих местах. И что запах живой женщины, заполняющий пустоту ее чрева, который исходит от ее одинокой постели, начинает исчезать. Но как это могло произойти? Как она, красивая женщина, в крови которой обитают насекомые, преследуемая страхом многие ночи, оставила свои бессонные кошмары и оказалась в странном, неведомом мире, где вообще нет измерений? Она вспомнила. В ту ночь – ночь перехода в этот мир – было холоднее, чем всегда, и она была дома одна, измученная бессонницей. Никто не нарушал тишины, и запах из сада был запахом страха. Обильный пот покрывал все ее тело, будто вся кровь из вен разлилась внутри нее, вытесненная насекомыми. Ей хотелось, чтобы хоть кто-нибудь прошел мимо дома по улице или кто-нибудь крикнул, чтобы расколоть эту застывшую тишину. Пусть что-нибудь в природе произойдет, и Земля снова завертится вокруг Солнца. Но все было бесполезно. Эти глупые люди даже не проснутся и будут и дальше спать, зарывшись в подушки. Она тоже сохраняла неподвижность. От стен несло свежей краской, запах был такой густой и навязчивый, что чувствовался не обонянием, а скорее желудком. Единственными, кто разбивал тишину своим неизменным тиканьем, были часы на столике. «Время… о, время!..» – вздохнула она, вспомнив о смерти. А там, в патио, под апельсиновым деревом, тоненько плакал малыш, и плач его доносился из другого мира.
Она призвала на помощь всю свою веру. Почему никак не рассветет, почему ей сейчас не умереть? Она никогда не думала, что красота может стоить таких жертв. В тот момент, как обычно, кроме страха она почувствовала физическую боль. Даже сквозь страх мучили ее эти жестокие насекомые. Смерть схватила ее жизнь как паук, который злобно кусал ее, намереваясь уничтожить. Но оттягивал последнее мгновение. Ее руки, те самые, что глупцы мужчины сжимали, не скрывая животной страсти, были неподвижны, парализованы страхом, необъяснимым ужасом, шедшим изнутри, не имеющим причины, кроме той, что она покинута всеми в этом старом доме. Она хотела собраться с силами и не смогла. Страх поглотил ее целиком и только возрастал, неотступный, напряженный, почти ощутимый, будто в комнате был кто-то невидимый, кто не хотел уходить. И больше всего ее тревожило: у этого страха не было никакого объяснения, это был страх как таковой, без всяких причин, просто страх.
Она почувствовала густую слюну во рту. Было мучительно ощущать эту жесткую резину, которая прилипала к нёбу и текла неудержимым потоком. Это не было похоже на жажду. Это было какое-то желание, преобладавшее над всеми прочими, которое она испытывала впервые в жизни. На какой-то миг она забыла о своей красоте, бессоннице и необъяснимом страхе. Она не узнавала себя самое. Ей вдруг показалось – из ее организма вышли микробы. Она чувствовала их в слюне. Да, и это было очень хорошо. Хорошо, что насекомых больше нет и что она сможет теперь спать, но нужно было найти какое-то средство, чтобы избавиться от резины, обмотавшей язык. Вот бы дойти до кладовой и… Но о чем она думает? Она вдруг удивилась. Она никогда не чувствовала такого желания. Неожиданный терпкий привкус лишал ее сил и делал бессмысленным тот обет, которому она была верна с того дня, как похоронила малыша. Глупость, но она не могла прежде побороть отвращения и съесть апельсин. Она знала: малыш добирается весной до цветов на дереве и плоды осенью будут напитаны его плотью, освеженные жуткой прохладой смерти. Нет. Она не могла их есть. Она знала, что под каждым апельсиновым деревом, во всем мире, похоронен ребенок, который насыщает плоды сладостью из кальция своих костей. Однако сейчас ей хотелось съесть апельсин. Это было единственным средством от тягучей резины, которая душила ее. Глупо было думать, что малыш был в каждом апельсине. Надо воспользоваться тем, что боль, какую причиняла ей красота, наконец оставила ее, надо дойти до кладовой. Но… не странно ли это? Впервые в жизни ей хотелось съесть апельсин. Она улыбнулась – да, улыбнулась. Ах, какое наслаждение! Съесть апельсин. Она не знала почему, но никогда у нее не было желания более сильного. Вот бы встать счастливой от сознания, что ты обыкновенная женщина, и, весело напевая, дойти до кладовой, – весело, как обновленная женщина, которая только что родилась. Обязательно пойти в патио и…
Вдруг мысли ее прервались. Она вспомнила, что уже попыталась подняться и что она уже не в своей постели, что тело ее исчезло, что нет тринадцати любимых книг и что она – уже не она. Она стала бестелесной и парила в свободном полете в абсолютной пустоте, летела неизвестно куда, превратившись в нечто аморфное, в нечто мельчайшее. Она не могла с точностью сказать, чтó происходит. Все перепуталось. У нее было ощущение, что кто-то толкнул ее в пустоту с невероятно высокого обрыва. Ей казалось, она превратилась в нечто абстрактное, воображаемое. Она чувствовала себя бестелесной женщиной – как если бы вдруг вошла в высший, непознанный мир невинных душ.
Ей снова стало страшно. Но не так, как раньше. Теперь она не боялась, что заплачет малыш. Она боялась этого чуждого, таинственного и незнакомого нового мира. Подумать только – все произошло так естественно, при полном ее неведении! Что скажет ее мать, когда придет домой и поймет, что произошло? Она представила, как встревожатся соседи, когда откроют дверь в ее комнату и увидят, что кровать пуста, замки целы и что никто не мог ни выйти, ни войти, но, несмотря на это, ее в комнате нет. Представила отчаяние на лице матери, которая ищет ее повсюду, теряясь в догадках и спрашивая себя, что случилось с ее девочкой. Дальнейшее виделось ясно. Все соберутся и начнут строить предположения – разумеется, зловещие – об ее исчезновении. Каждый на свой лад. Выискивая объяснение наиболее логичное, по крайней мере наиболее приемлемое; и дело кончится тем, что мать бросится бежать по коридорам дома, в отчаянии звать ее по имени.
А она будет в комнате. Она будет смотреть на происходящее, тщательно разглядывая все вокруг, глядя из угла, с потолка, из щелей в стенах, отовсюду – из самого удобного местечка, под прикрытием своей бестелесности, своей неузнаваемости. Ей стало тревожно, когда она подумала об этом. Только теперь она поняла свою ошибку. Она ничего не сможет объяснить, рассказать и никого не сможет утешить. Ни одно живое существо не узнает о ее превращении. Теперь – единственный раз, когда все это ей нужно, – у нее нет ни рта, ни рук для того, чтобы все поняли, что она здесь, в своем углу, отделенная от трехмерного мира непреодолимым расстоянием. В этой своей новой жизни она совсем одинока и ощущения ей совершенно неподвластны. Но каждую секунду что-то вибрировало в ней, по ней пробегала дрожь, заполняя ее всю и заставляя помнить, что есть другой материальный мир, который движется вокруг ее собственного мира. Она не слышала, не видела, но знала, что можно слышать и видеть. И там, на вершине высшего мира, она поняла, что ее окружает аура мучительной тоски.
Секунды не прошло – в соответствии с нашими представлениями о времени, – как она совершила этот переход, а она уже стала понемногу понимать законы и размеры нового мира. Вокруг нее кружился абсолютный и окончательный мрак. До каких же пор будет длиться эта мгла? И привыкнет ли она к ней в конце концов? Тревожное чувство усилилось, когда она поняла, что утонула в густом, непроницаемом мраке: она – в преддверии рая? Она вздрогнула. Вспомнила все, что когда-либо слышала о лимбе. Если она и вправду там, рядом с ней должны парить другие невинные души, души детей, умерших некрещеными, которые жили и умирали на протяжении тысяч лет. Она попыталась отыскать во мраке эти существа, которые, вероятно, еще более невинны и простодушны, чем она. Полностью отделенные от материального мира, обреченные на сомнамбулическую и вечную жизнь. Может быть, малыш здесь, ищет выход, чтобы вернуться в свою телесную оболочку.
Но нет. Почему она должна оказаться в преддверии рая? Разве она умерла? Нет. Произошло изменение состояния, обыкновенный переход из материального мира в мир более легкий, более удобный, где стираются все измерения.
Здесь не надо страдать от подкожных насекомых. Ее красота растворилась. Теперь, когда все так просто, она может быть счастлива. Хотя… о! не вполне, потому что сейчас ее самое большое желание – съесть апельсин – стало невыполнимым. Это была единственная причина, по которой она хотела вернуться в прежнюю жизнь. Чтобы избавиться от терпкого привкуса, который продолжал преследовать ее после перехода. Она попыталась сориентироваться и сообразить, где кладовая, и хотя бы почувствовать прохладный и терпкий аромат апельсинов. И тогда она открыла новую закономерность своего мира: она была в каждом уголке дома, в патио, на потолке и даже в апельсине малыша. Она заполняла весь материальный мир и мир потусторонний. И в то же время ее не было нигде. Она снова встревожилась. Она потеряла контроль над собой. Теперь она подчинялась высшей воле, стала бесполезным, нелепым, ненужным существом. Непонятно почему, ей стало грустно. Она почти скучала по своей красоте – красоте, которую по глупости не ценила.
Внезапно она оживилась. Разве она не слышала, что невинные души могут по своей воле проникать в чужую телесную оболочку? В конце концов, что она потеряет, если попытается? Она стала вспоминать, кто из обитателей дома более всего подошел бы для этого опыта. Если ей удастся осуществить свое намерение, она будет удовлетворена: она сможет съесть апельсин. Она перебрала в памяти всех. В этот час слуг в доме не бывает. Мать еще не пришла. Но непреодолимое желание съесть апельсин вместе с любопытством, которое вызывал в ней опыт реинкарнации, вынуждали ее действовать как можно скорее. Но не было никого, в кого можно было бы воплотиться. Причина была нешуточной: дом был пуст. Значит, она вынуждена вечно жить отделенной от внешнего мира, в своем мире, где нет никаких измерений, где нельзя съесть апельсин. И все – по глупости. Уж лучше было бы еще несколько лет потерпеть эту жестокую красоту, чем исчезнуть навсегда, стать бесполезной, как поверженное животное. Но было уже поздно.
Разочарованная, она хотела где-то укрыться, где-нибудь вне вселенной, там, где она могла бы забыть все свои прошлые земные желания. Но что-то властно не позволяло ей сделать это. В неизведанном ею пространстве открылось обещание лучшего будущего. Да, в доме есть некто, в кого можно воплотиться: кошка! Какое-то время она колебалась. Трудно было представить себе, как это можно – стать животным. У нее будет мягкая белая шерстка, и она всегда будет готова к прыжку. Она будет знать, что по ночам глаза ее светятся, как раскаленные зеленые угли. У нее будут белые острые зубы, и она будет улыбаться матери от всего своего дочернего сердца широкой и доброй улыбкой зверя. Но нет!.. Этого не может быть. Она вдруг представила: она – кошка, и бежит по коридорам дома на четырех еще непривычных лапах, легко и непроизвольно помахивая хвостом. Каким видится мир, если смотреть на него зелеными сверкающими глазами? По ночам она будет мурлыкать, подняв голову к небу, и просить, чтобы люди не заливали цементом из лунного света глаза малыша, который лежит лицом кверху и пьет росу. Возможно, если она будет кошкой, ей все равно будет страшно. И возможно, в довершение всего она не сможет съесть апельсин своим хищным ртом. Вселенский холод, родившийся у самых истоков души, заставил ее задрожать при этой мысли. Нет. Перевоплотиться в кошку невозможно. Ей стало страшно оттого, что однажды она почувствует на нёбе, в горле, во всем своем четвероногом теле непреодолимое желание съесть мышь. Наверное, когда ее душа поселится в кошачьем теле, ей уже не захочется апельсина, ее будет мучить отвратительное и сильное желание съесть мышь. Ее затрясло, стоило ей представить, как она, поймав мышь, держит ее в зубах. Она почувствовала, как та бьется, пытаясь вырваться и убежать в нору. Нет. Только не это. Уж лучше жить так, в далеком и таинственном мире невинных душ.
Однако тяжело было смириться с тем, что она навсегда покинула жизнь. Почему ей должно будет хотеться есть мышей? Кто будет главенствовать в этом соединении женщины и кошки? Будет ли главным животный инстинкт, примитивный, низменный, или его заглушит независимая воля женщины? Ответ был прозрачно ясен. Зря она боялась. Она воплотится в кошку и съест апельсин. К тому же она станет необычным существом – кошкой, обладающей разумом красивой женщины. Она будет привлекать всеобщее внимание… И тут она впервые поняла, что самой главной ее добродетелью было тщеславие женщины, полной предрассудков.
Подобно насекомому, которое шевелит усиками-антеннами, она направила свою энергию на поиски кошки, которая была где-то в доме. В этот час та, должно быть, дремлет на каминной полке и мечтает проснуться со стебельком валерианы в зубах. Но там кошки не было. Она снова поискала ее, но вновь не нашла на камине. Кухня была какая-то странная. Углы ее были не такие, как раньше, не те прежние темные углы, затянутые паутиной. Кошки нигде не было. Она искала ее на крыше, на деревьях, в канавах, под кроватью, в чулане. Все показалось ей изменившимся. Там, где она ожидала увидеть, как обычно, портреты своих предков, были только флаконы с мышьяком. И потом она постоянно находила мышьяк по всему дому, но кошка исчезла. Дом был не похож на прежний. Что случилось со всеми предметами? Почему ее тринадцать любимых книг покрыты теперь толстым слоем мышьяка? Она вспомнила об апельсиновом дереве в патио. Отправилась на поиски, предполагая найти его около малыша, в его яме, полной воды. Но апельсинового дерева на месте не было, и малыша тоже не было – только горсть мышьяка и пепла под тяжелой могильной плитой. Она, несомненно, спала. Все было другим. Дом был полон запаха мышьяка, который ударял в ноздри, как будто она находилась в аптеке.
Только тут она поняла, что прошло уже три тысячи лет с того дня, когда ей захотелось съесть апельсин.