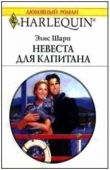Текст книги "Глаза голубой собаки (сборник)"
Автор книги: Габриэль Гарсиа Маркес
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Габриэль Гарсия Маркес
Глаза голубой собаки (сборник)
Третье смирение
Там снова послышался этот шум. Звуки были резкие, отрывистые, надоедливые, уже узнаваемые; но сейчас они вызывали острое, мучительное ощущение, – видимо, за эти дни он от них отвык.
Они гулко отдавались в голове – глухие, болезненные. Казалось, череп у него заполняется сотами. Они вырастали, закручиваясь восходящими спиралями, и ударяли его изнутри, заставляя вибрировать верхушки позвонков в нервном, неустойчивом ритме, в каком вибрировало и все тело. Что-то разладилось в устройстве его крепкого человеческого организма – что-то действовавшее до того нормальным образом – и теперь стучало у него в голове сухими, жесткими ударами молотка, чья-то рука, лишенная плоти, как у скелета, ударяла по черепу, и это заставляло его вспоминать самые горькие в жизни минуты. Подсознательным движением он сжал кулаки и поднес их к голубовато-фиолетовым артериям на висках, стараясь раздавить невыносимую боль. Ему хотелось взять в руки и ощутить ладонями этот шум, который дырявил его сознание острием алмазной иглы. Мускулы его напряглись, словно у кота, стоило ему только представить себе, как он преследует его, этот шум, в самых чувствительных участках воспаленного мозга, попавшего в лапы лихорадки. Вот он уже настиг его. Нет. Шкура у этого шума скользкая, почти неосязаемая. Но он все-таки доберется до него благодаря хорошо продуманным приемам и будет долго, до самого конца, сжимать его изо всех сил своего отчаяния. Он не позволит ему больше проникать в его слух; пусть он выйдет у него изо рта, через каждую пору кожи, из глаз, которые вылезут из орбит и ослепнут, следя за тем, как шум этот выходит из глубин охваченного лихорадкой мрака. Он не позволит, чтобы тот выдавливал из него осколки кристалликов, сверкающие снежинки на внутренних стенках черепа. Вот какой это был шум: нескончаемый, и такой, будто ребенка ударяли головой о каменную стену. Когда резко ударяют чем-нибудь о твердую поверхность природных образований. Шум перестанет его мучить, если окружить его, изолировать. Отрезáть и отрезáть по куску от его собственной тени. И схватить. Сжать его, теперь уже наверняка; изо всех сил швырнуть на пол и яростно топтать до тех пор, пока он уже действительно не сможет пошевелиться; и тогда скажет, задыхаясь, что он убил шум, который мучил его, который сводил с ума и который теперь валяется на полу, как самая обычная вещь, – превратившись в остывшего покойника.
Но ему было никак не сжать виски. Руки стали короткими, словно у карлика, – маленькие, толстые, жирные руки. Он попробовал встряхнуть головой. Встряхнул. Шум в голове возник с новой силой, он становился все более жестким, усиливался и тяжелел от собственной силы. Он был жесткий и тяжелый. Такой жесткий и такой тяжелый, что, когда настигнешь его и уничтожишь, будет казаться, что оборвал лепестки свинцового цветка.
Он слышал этот шум с той же настойчивостью и раньше. Например, когда умер первый раз. Когда – перед тем как увидеть труп – понял: этот труп – его собственный. Он осмотрел его и потрогал. Тело оказалось неосязаемым, неощутимым, несуществующим. Он действительно стал трупом и уже чувствовал, как его тело, молодое и пораженное болезнью, заполняет смерть. Воздух во всем доме сгустился, будто пропитался цементом, а внутри этой густоты – там, где предметы оставались такими же, будто это все еще был обычный воздух, – внутри был он, заботливо упрятанный в гроб из твердого, но прозрачного цемента. В тот раз в голове у него и возник этот самый шум. Какими чужими и холодными казались ему стопы его ног; там, на другом конце гроба, лежала подушка, потому что ящик был великоват для него и надо было подогнать по росту, приладить к мертвому телу эту новую и последнюю его одежду. Его покрыли белым покрывалом и подвязали челюсть платком. Он казался себе очень красивым в этом саване, смертельно красивым.
Он лежал в гробу, готовый к погребению, и, однако, знал, что не умер. И если бы он попытался встать, ему удалось бы это без труда. По крайней мере мысленно. Но делать этого не стоило. Уж лучше умереть там, умереть от смерти, которой, в сущности, и была его болезнь. Когда-то врач сухо сказал его матери:
– Сеньора, ваш ребенок тяжело болен – все равно что мертв. Однако, – продолжал он, – мы сделаем все возможное, чтобы продлить ему жизнь и оттянуть смерть. Благодаря комплексной системе самонасыщения мы добьемся продолжения органических функций. Изменятся только двигательные функции, будут затруднены одновременные движения. О том, что он жив, мы будем знать по его росту, – расти он будет обычным порядком, это просто-напросто смерть заживо. Подлинная, действительная смерть…
Он помнил эти слова, хотя и смутно. А может, он никогда их не слышал и они были измышлением его мозга, когда поднялась температура во время кризиса тифозной горячки.
Когда он утопал в бреду. Когда читал истории о набальзамированных фараонах. Когда поднималась температура, он чувствовал себя ее протагонистом. Тогда и началось что-то вроде пустоты, из которой состояла его жизнь. С тех пор он перестал различать, какие события случились на самом деле, а какие ему пригрезились. Поэтому он и сомневался сейчас. Может быть, врач никогда и не говорил об этой странной смерти заживо. Ведь это алогично, парадоксально, это просто противоречит само себе. И это заставляет его подозревать, что он на самом деле умер. Вот уже восемнадцать лет, как это произошло.
Тогда – ему было семь лет, когда он умер – его мать заказала для него маленький гроб из свежеспиленной древесины, гроб для ребенка, но врач велел сделать ящик побольше, как для нормального взрослого, а то этот, маленький, мог бы замедлить рост, и в результате получился бы деформированный мертвец или живой урод. Или из-за того, что задержится рост, нельзя будет заметить улучшение. Учитывая подобное развитие событий, мать заказала большой гроб, как для умершего подростка, и положила в ногах три подушки, чтобы гроб был впору.
Вскоре он начал расти внутри ящика, да так, что каждый год нужно было понемногу вынимать перья из подушки, лежавшей к нему ближе всех, чтобы освободить место. Так прошла половина жизни. Восемнадцать лет. (Теперь ему было двадцать пять.) Он дорос до своих окончательных, нормальных размеров. Столяр и врач ошиблись в расчетах, и гроб получился на полметра больше, чем нужно. Они думали, что он будет такого же роста, как его отец, который был похож на первобытного гиганта. Но он таким не стал. Единственное, что он унаследовал от отца, – это бороду «лопатой». Пепельную густую бороду, которую приводила в порядок его мать, чтобы он выглядел в гробу достойно. Борода ужасно мешала ему в жаркие дни.
Но было еще кое-что, беспокоившее его больше, чем этот шум! Это были крысы. Особенно когда он был ребенком, ничто так не мучило его и не приводило в такой ужас, как крысы. Именно эти мерзкие животные сбегались на запах горящих свечей, которые ставили у него в ногах. Они обгладывали его одежду, и он знал, что очень скоро они возьмутся за него самого и начнут глодать его плоть. Однажды ему удалось их увидеть: пять крыс, скользких и блестящих, забрались в гроб, вскарабкавшись по ножке стола, и сожрали его. Когда мать обнаружит это, она увидит только его останки, только твердые холодные кости. Но самый большой ужас он испытал не оттого, что крысы могут его съесть. В конце концов, он мог бы продолжать жить в виде скелета. Больше всего его мучил врожденный ужас перед этими тварями. У него волосы вставали дыбом, стоило ему только подумать об этих существах, покрытых шерстью, которые бегали по всему телу, проникали в каждую складку кожи и царапали губы своими холодными лапами. Одна из них добралась до его век и стала грызть роговицу. Когда она отчаянно пыталась продырявить сетчатку, он видел, какая она огромная, безобразная. Тогда он подумал, что умирает еще раз, и целиком отдался обморочной неизбежности.
Он вспомнил, что достиг взрослого возраста. Ему было двадцать пять, и это означало, что больше он расти не будет. Черты лица его определились, стали жесткими. Но если бы он выздоровел, то не мог бы говорить о своем детстве. У него не было детства. Он прожил его мертвым.
Пока совершался переход от детства к отрочеству, у его матери было много тревог и опасений. Она беспокоилась о поддержании чистоты в гробу и в комнате вообще. Она часто меняла цветы в вазах и каждый день открывала форточки, чтобы проветрить комнату. С каким удовлетворением любовалась она отметкой на сантиметре, когда убеждалась, что он вырос еще немного! Она испытывала материнскую гордость, видя его живым. Заботилась мать и о том, чтобы в доме не было посторонних. В конце концов, многолетнее пребывание мертвеца в жилой комнате могло быть кому-то неприятно и необъяснимо. Это была самоотверженная женщина. Но скоро ее оптимизм начал убывать. В последние годы она с грустью смотрела на сантиметр. Ее ребенок перестал расти. За последние месяцы его рост не увеличился ни на один дюйм. Мать знала, что очень трудно найти какой-либо другой способ, с помощью которого можно было бы обнаружить признаки жизни в ее дорогом покойнике. Она боялась, что однажды утром он встретит ее действительно мертвым, так что каждый день он видел, как она осторожно подходит к его ящику и обнюхивает его. Она впала в безысходное отчаяние. Последнее время мать уже не была такой внимательной и даже не брала в руки сантиметр. Она знала, что он больше не растет.
И он знал, что теперь действительно умер. Знал по мирному спокойствию, в котором пребывал его организм. Все разладилось. Едва уловимые удары сердца, которые мог ощутить только он сам, исчезали совсем, заглушаемые ударами пульса. Удары были тяжелые, будто их влекла призывная могучая сила первородной субстанции – земли. Казалось, его влечет к себе с необоримой мощью сила притяжения. Он был тяжелым, как безвозвратно умерший человек. Зато теперь он мог отдохнуть. Именно так. Ему даже не надо было дышать, чтобы жить в смерти.
В его воображении, не прикасаясь к нему, прошли, одно за другим, воспоминания. Там, на жесткой подушке, покоилась его голова, слегка повернутая влево. Он представил себе, что его полуоткрытый рот – это узкий берег прохлады, которая заполняла его гортань множеством мелких градин. Он был сломан, словно двадцатипятилетнее дерево. Он попытался закрыть рот. Платок, которым была подвязана челюсть, ослаб. Он не мог даже улечься, устроиться таким образом, чтобы принять достойную позу. Мускулы и сочленения уже не слушались его, не отзывались на сигналы нервной системы. Он уже был не таким, как восемнадцать лет назад, – нормальным ребенком, который мог двигаться, как ему нравится. Он чувствовал свои бессильные руки, прижатые к обитым ватой стенкам гроба, руки, которые ему уже никогда не будут повиноваться. Живот был твердым, как ореховая скорлупа. Затем ноги – прямые, правильной формы, по которым можно изучать анатомию человека. Покоясь в гробу, его тело становилось тяжелее, но все происходило тихо, без какого-либо беспокойства, как будто мир вокруг замер и никто не нарушает этой тишины; будто легкие земли перестали дышать, чтобы не тревожить невесомый покой воздуха. Он чувствовал себя счастливым, как ребенок, который лежит на прохладной упругой траве и смотрит на плывущие в вечернем небе облака. Он был счастлив, хотя знал, что умер, что навсегда упокоился в деревянном ящике, обитом искусственным шелком. Ум его был необыкновенно ясен. Это было не так, как после первой смерти, когда он чувствовал, что отупел и ничего не воспринимает. Четыре свечи, поставленные вокруг него и обновлявшиеся каждые три месяца, почти истаяли, как раз когда они были так нужны! Он почувствовал близкую свежесть влажных фиалок, которые его мать принесла утром. Он чувствовал, как свежесть исходит и от белых лилий, и от роз. Но вся эта пугающая реальность не причиняла ему никакого беспокойства, – напротив, он был счастлив, совсем один, наедине со своим одиночеством. Может быть, ему станет страшно потом?
Кто знает. Жестоко было думать о той минуте, когда молоток вобьет гвозди в свежую древесину и гроб заскрипит в крепнущей надежде снова стать деревом. Его тело, теперь увлекаемое высшей силой земли, опустится на влажное дно, глинистое и мягкое, и там, наверху, заглушаемые четырьмя кубометрами земли, затихнут последние удары погребения. Нет. Ему и тогда не будет страшно. Это будет продолжением его смерти, самым естественным продолжением его нового состояния.
Его тело уже не сохраняло ни одного градуса тепла, мозг застыл, и снежинки проникли даже в костный мозг. Как просто оказалось привыкнуть к новой жизни, жизни мертвеца! Однажды – несмотря ни на что – он почувствует, как развалится на части его прочный каркас; и когда он захочет ощутить каждое из своих сочленений, у него уже ничего не получится. Он поймет, что у него больше нет определенной, точной формы, и сумеет смириться с тем, что потерял свое совершенное анатомическое устройство двадцатипятилетнего человека и превратился в бесформенную горсть праха, без всяких геометрических очертаний.
В библейский прах смерти. Может быть, тогда его охватит легкая тоска – тоска по тому, что он уже не настоящий труп, имеющий анатомию, а труп воображаемый, абстрактный, существующий только в смутных воспоминаниях родственников. Он поймет, что теперь будет подниматься по капиллярам какой-нибудь яблони и однажды будет разбужен проголодавшимся ребенком, который надкусит его осенним утром. Он узнает тогда – и от этого ему сделается грустно, – что утратил гармоническое единство и теперь не является даже самым обыкновенным покойником, мертвецом, как все прочие мертвецы.
Последнюю ночь он провел счастливо, в обществе собственного трупа.
Но с наступлением нового дня, когда первые лучи нежаркого солнца проникли в приоткрытое окно, он почувствовал, что кожа стала мягкой. Минуту он оглядывал себя. Спокойно, тщательно. Подождал, пока до него долетит ветерок. Сомнений быть не могло: от него пахло. За ночь мертвая плоть начала разлагаться. Его организм стал разрушаться и гнить, как тело любого покойника. Запах, несомненно, был, – запах тухлого мяса, который то исчезал, то вновь появлялся уже с новой силой. Тело стало разлагаться из-за жары, в прошлую ночь. Да. Он гнил. Через несколько часов придет мать, чтобы поменять цветы, и с порога ее окутает запах гниющей плоти. И тогда его унесут, чтобы предать вечному сну второй смерти среди прочих мертвецов.
Вдруг страх толкнул его в спину. Страх! Какое глубокое, какое значащее слово! Теперь он был охвачен страхом, физическим, подлинным. Что это означает? Он прекрасно понял и содрогнулся: наверное, он не умер. Они поместили его сюда, в этот ящик, который он прекрасно чувствовал всем телом: мягкий, подбитый ватой, ужасающе удобный; а призрак страха открыл ему окно в действительность: его похоронят живым!
Он не мог быть мертвым, поскольку ясно отдавал себе отчет во всем, что происходит, он чувствовал шепот жизни вокруг. Мягкий аромат гелиотропов, проникавший в открытое окно, смешивался с этим его запахом. Он отчетливо услышал, как тихо плещется вода в пруду. Как не переставая стрекочет сверчок в углу, полагая, что еще не рассвело.
Все говорило ему, что он не умер. Все, кроме запаха. Но как он узнал, что этот запах исходит от него? Может быть, мать забыла поменять воду в вазах и это гниют стебли цветов? А может быть, гниет крыса, которую кошка притащила в его комнату? Нет. Это не может быть его запахом.
Всего несколько минут назад он был счастлив, что умер, потому что считал себя мертвым. Потому что мертвый может быть счастливым в своем непоправимом положении. Но живой не может примириться с тем, что его похоронят заживо. Однако его тело не подчинялось ему. Он не мог выразить то, что хотел, и это внушало ему ужас – самый большой ужас в его жизни и в его смерти. Его похоронят заживо. Он сможет это почувствовать. Ощутить ту минуту, когда будут заколачивать гроб. Почувствовать невесомость своего тела, которое будут поддерживать плечи друзей, в то время как гнетущая тоска и отчаяние будут расти в нем с каждым шагом похоронной процессии.
Бесполезно будет пытаться подняться, взывать изо всех своих слабых сил, бесполезно стучать, лежа внутри темного тесного гроба, пытаясь дать им знать, что он еще жив и что они идут хоронить его заживо. Это будет бесполезно: его мышцы и тогда не ответят на тревожный и последний призыв нервной системы.
Он услышал шум в соседней комнате. Он что, спал? Вся эта жизнь мертвеца была кошмарным сном? Однако звон посуды продолжал слышаться. Ему сделалось грустно, может быть, даже неприятно, от этого шума. Захотелось, чтобы вся посуда в мире взяла и разбилась, там, рядом с ним, чтобы какая-то внешняя причина пробудила то, что его воля была уже бессильна пробудить.
Но нет. Это не было сном. Он был уверен: если бы это был сон, его последняя попытка вернуться к реальности не потерпела бы поражения. Он никогда уже не проснется. Он чувствовал податливость шелка в гробу и запах, который окутал его так сильно, что он даже усомнился, от него ли это пахнет. Ему захотелось увидеть родственников, прежде чем он начнет разлагаться, чтобы вид гнилого мяса не вызвал у них отвращения. Соседи в ужасе бросятся от гроба врассыпную, прижимая к носам платки. Их будет рвать. Нет. Не надо такого. Пусть лучше его похоронят. Лучше покончить со всем этим как можно раньше. Он и сам уже хотел отделаться от собственного трупа. Теперь он знал, что действительно умер или, может быть, жив, но так, что это уже ничего не значит для него. Все равно. В любом случае запах слышался все настойчивее.
Смирившись, он бы слушал последние молитвы, последние слова, звучащие на скверной латыни, нечетко повторяемые собравшимися. Ветер кладбищенских костей, наполненный прахом, проникнет в его кости и, может быть, немного рассеет этот запах. Быть может, – кто знает?! – неизбежность происходящего заставит его очнуться от летаргического сна. Когда он почувствует, что плавает в собственном поту, в густой вязкой жидкости, вроде той, в которой он плавал до рождения в утробе матери. Тогда, быть может, он станет живым.
Но он уже так смирился со смертью, что, возможно, от смирения и умер.
Другая сторона смерти
Неизвестно почему – он вдруг проснулся, словно от толчка. Терпкий запах фиалок и формальдегида шел из соседней комнаты широкой волной, смешиваясь с ароматом только что раскрывшихся цветов, который посылал утренний сад. Он попытался успокоиться и обрести присутствие духа, которого сон лишил его. Должно быть, было уже раннее утро, потому что было слышно, как поливают грядки огорода, а в открытое окно смотрело синее небо. Он оглядел полутемную комнату, пытаясь как-то объяснить это резкое, тревожное пробуждение. У него было ощущение, физическая уверенность, что кто-то вошел в комнату, пока он спал. Однако он был один, и дверь, запертая изнутри, не была взломана. Сквозь окно пролилось сияние. Какое-то время он лежал неподвижно, стараясь унять нервное напряжение, которое возвращало его к пережитому во сне, и, закрыв глаза, лежа на спине, пытался восстановить прерванную нить спокойных размышлений. Ток крови резкими толчками отзывался в горле, а дальше, в груди, отчаянно и сильно колотилось сердце, все отмеряя и отмеряя отрывистые и короткие удары, как после изнурительного бега. Он заново мысленно пережил прошедшие несколько минут. Возможно, ему приснился какой-то странный сон. Должно быть, кошмар. Да нет, ничего особенного не было, никакого повода для такого состояния.
Они ехали на поезде (сейчас я это помню) по какой-то местности (я это часто вижу во сне) среди мертвой природы, среди искусственных, ненастоящих деревьев, обвешанных бритвенными лезвиями, ножницами и прочими острыми предметами вместо плодов (я вспоминаю: мне надо было причесаться), – в общем, парикмахерскими принадлежностями. Он часто видел этот сон, но никогда не просыпался от него так резко, как сегодня. За одним из деревьев стоял его брат-близнец, тот, которого недавно похоронили, и знаками показывал ему – однажды такое было в реальной жизни, – чтобы он остановил поезд.
Убедившись в бесполезности своих жестов, брат побежал за поездом и бежал до тех пор, пока, задыхаясь, не упал с пеной у рта. Конечно, это было нелепое, ирреальное видение, но в нем не было ничего, что могло бы вызвать такое беспокойство. Он снова прикрыл глаза – в прожилках его век застучала кровь, и удары ее становились все жестче, словно удары кулака. Поезд пересекал скучную, унылую, бесплодную местность, и тут боль, которую он почувствовал в левой ноге, отвлекла его внимание от пейзажа. Он осмотрел ногу и увидел – не следует надевать тесные ботинки – опухоль на среднем пальце. Самым естественным образом, как будто всю жизнь только это и делал, он достал из кармана отвертку и вывинтил головку фурункула. Потом аккуратно убрал отвертку в синюю шкатулку – ведь сон был цветной, верно? – и увидел, что из опухоли торчит конец грязной желтоватой веревки. Не испытывая никакого удивления, будто ничего странного в этой веревке не было, он осторожно и ловко потянул за ее конец. Это был длинный шнур, длиннющий, который все тянулся и тянулся, не причиняя неудобства или боли. Через секунду он поднял взгляд и увидел, что в вагоне никого нет, только в одном из купе едет его брат, переодетый женщиной, и, стоя перед зеркалом, пытается ножницами вытащить свой левый глаз.
Конечно, этот сон был неприятный, но он не мог объяснить, почему у него поднялось давление, ведь в предыдущие ночи, когда он видел тяжелейшие кошмары, ему удавалось сохранять спокойствие. Он почувствовал, что у него холодные руки. Запах фиалок и формальдегида стал сильнее и был неприятен, почти невыносим. Закрыв глаза и пытаясь выровнять дыхание, он попытался подумать о чем-нибудь привычном, чтобы снова погрузиться в сон, прервавшийся несколькими минутами раньше. Можно было, например, подумать: через несколько часов мне надо идти в похоронное бюро платить по счетам. В углу запел неугомонный сверчок и наполнил комнату сухим отрывистым стрекотанием. Нервное напряжение начало ослабевать понемногу, но ощутимо, и он почувствовал, как его отпустило, мускулы расслабились; он откинулся на мягкую подушку, тело его, легкое и невесомое, испытывало благостную усталость и теряло ощущение своей материальности, земной субстанции, имеющей вес, которая определяла и устанавливала его в присущем ему на лестнице зоологических видов месте, которое заключало в своей сложной архитектуре всю сумму систем тела и геометрию органов, поднимало его на высшую ступень в иерархии разумных животных. Веки послушно опустились на радужную оболочку так же естественно, как соединяются члены, составляющие руки и ноги, которые постепенно, впрочем, теряли свободу действий; как будто весь организм превратился в единый большой, отдельный орган и он – человек – перестал быть смертным и обрел другую судьбу, более глубокую и прочную: вечный сон, нерушимый и окончательный. Он слышал, как снаружи, на другом конце света, стрекотание сверчка становится все тише, пока совсем не смолкло; как время и расстояние входят внутрь его существа, вырастая в нем в новые и простые понятия, вычеркивая из сознания материальный мир, физический и мучительный, заполненный насекомыми и терпким запахом фиалок и формальдегида.
Спокойно, обласканный теплом каждодневного покоя, он почувствовал, как легка его выдуманная дневная смерть. Он погрузился в мир отрадных путешествий, в призрачный идеальный мир – мир, будто нарисованный ребенком, без алгебраических уравнений, любовных прощаний и силы притяжения.
Он не мог сказать, сколько времени провел так, на зыбкой грани сна и реальности, но вспомнил, что рывком, будто ему ножом полоснули по горлу, подскочил на кровати и почувствовал: брат-близнец, его умерший брат, сидит в ногах кровати.
Снова, как раньше, сердце сжалось в кулак и ударило его в горло так сильно, что он подскочил. Нарождающийся свет, сверчок, который нарушал тишину своим расстроенным органчиком, прохладный ветерок, долетавший из мира цветов в саду, – все это вместе вернуло его к реальной жизни; но в этот раз он понимал, отчего вздрогнул. В короткие минуты бессонницы и – сейчас я отдаю себе в этом отчет – в течение всей ночи, когда он думал, что видит спокойный, мирный сон без мыслей, его сознание занимал только один образ, постоянный, неизменный, – образ, существующий отдельно от всего, утвердившийся в мозгу помимо его воли и несмотря на сопротивление его сознания. Да. Некая мысль – так, что он почти не заметил этого, – овладела им, заполнила, охватила все его существо, будто появился занавес, представляющий неподвижный фон для всех остальных мыслей; она составляла опору и главный позвонок мысленной драмы его дней и ночей. Мысль о мертвом теле брата-близнеца гвоздем застряла в мозгу и стала центром жизни. И сейчас, когда его оставили там, на крохотном клочке земли, и веки его вздрагивают от дождевых капель, сейчас он боялся его.
Он никогда не думал, что удар будет таким сильным. В открытое окно снова проник аромат, смешанный теперь с запахом влажной земли, погребенных костей; его обоняние обострилось, и его охватила ужасающая животная радость. Уже много часов прошло с тех пор, когда он видел, как тот корчится под простынями, словно раненый пес, и стонет, и этот задавленный последний крик заполняет его пересохшее горло; как пытается ногтями разодрать боль, которая ползет по его спине, забираясь в самую сердцевину опухоли. Он не мог забыть, как тот бился, будто агонизирующее животное, восстав против правды, которая была перед ним, во власти которой находилось его тело, с непреодолимым постоянством, окончательным, как сама смерть. Он видел его в последние минуты ужасной агонии. Когда он обломал ногти о стену, раздирая последнюю крупицу жизни, что уходила у него между пальцев и обагрилась его кровью, а в это время гангрена сжирала его плоть, как ненасытно-жестокая женщина. Потом он увидел, как он откинулся на смятую постель, даже не успев устать, покрытый испариной и смирившийся, и его губы, увлажненные пеной, сложились в жуткую улыбку, и смерть потекла по его телу, будто поток пепла.
Так было, когда я вспомнил об опухоли в животе, которая его мучила. Я представлял себе ее круглой – теперь у него было то же самое ощущение, – разбухающей внутри, будто маленькое солнце, невыносимой, будто желтое насекомое, которое протягивает свою вредоносную нить до самой глубины внутренностей. (Он почувствовал, что в организме у него все разладилось, словно уже от философского понимания необходимости неизбежного.) Возможно, и у меня будет такая же опухоль, какая была у него. Сначала это будет маленькое вздутие, которое будет расти, разветвляясь, увеличиваясь у меня внутри, будто плод. Возможно, я почувствую опухоль, когда она начнет двигаться, перемещаться внутри меня с неистовством ребенка-лунатика, переходя по моим внутренностям, как слепая, – он прижал руки к животу, чтобы унять острую боль, затем с тревогой вытянул их в темноту, в поисках матки, гостеприимного теплого убежища, которое ему не суждено найти; и сотни лапок этого фантастического существа, перепутавшись, станут длинной желтоватой пуповиной. Да. Возможно, и у меня в желудке – как у брата, который только что умер, – будет опухоль. Запах из сада стал очень сильным, неприятным, превращаясь в тошнотворную вонь. Время, казалось, застыло на пороге рассвета. Через окно сияние утра было похоже на свернувшееся молоко, и казалось, что именно поэтому из соседней комнаты, там, где всю прошлую ночь пролежало тело, так несло формальдегидом. Это, разумеется, был не тот запах, что шел из сада. Это был тревожный, особенный запах, не похожий на аромат цветов. Запах, который навсегда, стоило только узнать его, казался трупным. Запах леденящий и неотвязный – так пахло формальдегидом в анатомическом театре. Он вспомнил лабораторию. Заспиртованные внутренности, чучела птиц. У кролика, пропитанного формалином, мясо становится жестким, обезвоживается, теряет мягкую эластичность, и он превращается в бессмертного, вечного кролика. Формальдегидного. Откуда этот запах? Единственный способ остановить разложение. Если вены человека заполнить формалином, мы станем заспиртованными анатомическими образчиками.
Он услышал, как снаружи усиливается дождь и барабанит, будто молоточками, по стеклу приоткрытого окна. Свежий воздух, бодрящий и обновленный, ворвался в комнату, неся с собой влажную прохладу. Руки его совсем застыли, наводя на мысль о том, что по артериям течет формалин, – будто холод из патио проник до самых костей. Влажность. Там очень влажно. С горечью он подумал о зимних ночах, когда дождь будет заливать траву, и влажность примостится под боком его брата, и вода будет циркулировать в его теле, как токи крови. Он подумал, что у мертвецов должна быть другая система кровообращения, которая быстро ведет их к другой ступени смерти – последней и невозвратной. В этот момент ему захотелось, чтобы дождь перестал и лето стало бы единственным, вытеснившим все остальные временем года. И поскольку он об этом думал, настойчивый и влажный шум за окном его раздражал. Ему хотелось, чтобы глина на кладбищах была сухой, всегда сухой, поскольку его беспокоила мысль: там, под землей, две недели – влажность уже проникла в костный мозг – лежит человек, уже совсем не похожий на него.
Да. Они были близнецами, похожими как две капли воды, близнецами, которых с первого взгляда никто не мог различить. Раньше, когда они были братьями и жили каждый своей жизнью, они были просто братьями-близнецами, живущими как два отдельных человека. В духовном смысле у них не было ничего общего. Но сейчас, когда жестокая, ужасная реальность, будто беспозвоночное животное, холодом заскользила по спине, что-то нарушилось в едином целом, появилось нечто похожее на пустоту, словно в теле у него открылась рана, глубокая, как бездна, или как будто резким ударом топора ему отсекли половину туловища: не от этого тела с конкретным анатомическим устройством и совершенным геометрическим рисунком, не от физического тела, которое сейчас чувствовало страх, – от другого, которое было далеко от него, которое вместе с ним погрузили в водянистый мрак материнской утробы и которое вышло на свет, поднявшись по ветвям старого генеалогического древа; которое было вместе с ним в крови четырех пар их прадедов, оно шло к нему оттуда, с сотворения мира, поддерживая своей тяжестью, своим таинственным присутствием всю мировую гармонию. Возможно, в его жилах течет кровь Исаака и Ревекки, возможно, он мог быть другим братом, тем, который родился на свет, уцепившись за его пятку, и который пришел в этот мир через могилы поколений и поколений, от ночи к ночи, от поцелуя к поцелую, от любви к любви, путешествуя, будто в сумраке, по артериям и семенникам, пока не добрался до матки своей родной матери. Сейчас, когда равновесие нарушено и уравнение окончательно решено, таинственный генеалогический маршрут виделся ему реально и мучительно. Он знал, что в гармонии его личности чего-то недостает, как недостает этого в его обычной, видимой глазу целостности: «Потом вышел Иаков, держась за пяту Исава».