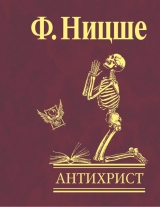
Текст книги "Антихрист "Проклятие христианству""
Автор книги: Фридрих Вильгельм Ницше
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Фридрих Ницше
Антихрист. Проклятие христианству[1][1]
Рукопись «Антихриста» для печати сохранилась. В начале рукописи помещены два титульных листа. На первом, более раннем, значится: «Антихрист. / Опыт критики христианства. / Первая книга / Переоценки всех ценностей», на более позднем – «Антихрист. / [Переоценка всех ценностей] / Проклятие христианству», причём подзаголовок «Переоценка всех ценностей» зачёркнут Ницше. Очевидно, подзаголовок на титуле был перечёркнут Ницше в декабре 1888 г., поскольку ещё 26 ноября он писал Дейссену: «Моя “Переоценка всех ценностей” с заглавием “Антихрист” готова» (Ф. Ницше. Письма. М., «Культурная революция», 2007, с. 345).
Впервые «Антихрист» был опубликован в 1895 г. в 8-м томе собрания сочинений Ницше под редакцией Фрица Кёгеля. При публикации четыре места в тексте книги были опущены, заголовок выглядел следующим образом: «Антихрист. / Опыт критики христианства». Спустя 4 года «Антихрист» вышел также в составе 8-го тома нового собрания сочинений под редакцией Артура Зайдля. Титульный лист также был воспроизведён некорректным образом, а именно: «Воля к власти. / Опыт переоценки всех ценностей. / Сочинение Фридриха Ницше. / Предисловие и Первая книга: Антихрист». Зато была восстановлена одна из купюр, сделанных в предыдущем издании – заключительный абзац книги. Остальные три места – к каждому из них мы даём постраничное примечание – были восстановлены только при публикации издания под редакцией Карла Шлехты в 1956 году. Также и заголовок в его исходном виде был впервые опубликован в издании Шлехты.
[Закрыть]
Предисловие[2][2]
Этот текст родился из третьего параграфа изначального варианта предисловия к «Сумеркам идолов»: «Но что мне до немцев! Я пишу, я живу для совсем немногих. Они повсюду, – и они нигде. Чтобы иметь уши, слышащие меня, надо прежде всего быть хорошим европейцем – и ещё чем-то впридачу к этому!.. Условия, при которых мои произведения – самую серьёзную литературу, какая только есть – поймут, а тогда уж поймут с неизбежностью – эти условия я знаю доподлинно. Нужна ставшая инстинктом и страстью порядочность, краснеющая от того, что нынче называют нравственным. Нужно полнейшее, доходящее даже до издёвки, равнодушие к тому, будет ли истина полезна или приятна для того, кто её ищет, и не станет ли она для него роковой находкой. Нужно, как то свойственно сильному, отдавать предпочтение вопросам, которые в наши дни никто не осмеливается ставить; необходимо мужество, чтобы вступать в область запретного; необходима предопределённость – к тому, чтобы существовать в лабиринте. Нужна гигиена смельчаков, руководствующихся девизом: increscunt animi, virescit volnere virtus. И семикратный опыт одиночества; и новые уши для новой музыки; и новые глаза – способные разглядеть наиотдалённейшее; и новая совесть, чтобы расслышать истины, прежде немотствовавшие. Готовность вести своё дело в монументальном стиле – держать в узде энергию вдохновения… Почитать себя самого; любить себя самого; быть безусловно свободным в отношении себя самого… Ясность привыкшего к войне и победе – того, кому знакома и смерть!.. Вот кто мои читатели, читатели настоящие, читатели неизбежные; что проку от остальных? – Остальные – всего лишь человечество. – Нужно превзойти человечество силой, высотой души – превзойти его презрением… / Зильс-Мария, Верхний Энгадин / 3 сентября 1888».
[Закрыть]
Эта книга для совсем немногих. Возможно, ни одного из них ещё вовсе нет на свете. Быть может, они – те, что понимают моего Заратустру; так как же смешивать мне себя с теми, кого и сегодня уже слышат уши?.. Мой день – послезавтрашний; некоторые люди рождаются на свет «посмертно».
Условия, при которых меня можно понимать, – а тогда уж понимать с неизбежностью, – мне они известны досконально, доподлинно. Необходима в делах духа честность и неподкупность, и необходимо закалиться в них, – иначе не выдержишь суровый накал моей страсти. Нужно свыкнуться с жизнью на вершинах гор, – чтобы глубоко под тобой разносилась жалкая болтовня о политике, об эгоизме народов. Нужно сделаться равнодушным и не задаваться вопросом о том, есть ли польза от истины, не окажется ли она роковой для тебя… Нужно, как то свойственно сильному, отдавать предпочтение вопросам, которые в наши дни никто не осмеливается ставить; необходимо мужество, чтобы вступать в область запретного; необходима предопределённость – к тому, чтобы существовать в лабиринте. И семикратный опыт одиночества.[3][3]
Ср.: в «Дионисовых дифирамбах» концовки стихотворений «Сигнальный огонь» и «Садится солнце».
[Закрыть] И новые уши для новой музыки. И новые глаза – способные разглядеть наиотдалённейшее. Новая совесть, чтобы расслышать истины, прежде немотствовавшие. И готовность вести своё дело в монументальном стиле – держать в узде энергию вдохновения… Почитать себя самого; любить себя самого; быть безусловно свободным в отношении себя самого.
Вот кто мои читатели, читатели настоящие, читатели согласно предопределению; что проку от остальных?.. Остальные – всего лишь человечество… Нужно превзойти человечество силой, высотой души – превзойти его презрением…
Фридрих Ницше
1[4][4]
Параграфы с 1-го по 7-й, согласно плану от 26 августа 1888 г. должны были, под заголовком «Мы, гиперборейцы», составлять Предисловие к «Воле к власти».
[Закрыть]
– Взглянем в лицо самим себе. Мы гиперборейцы – мы хорошо знаем, как далеко в стороне живём. «Ни по земле, ни по воде не найдёшь ты пути к гиперборейцам»,[5][5]
Ср.: Пиндар. Десятая Пифийская песнь, 29–30.
[Закрыть] – это ещё Пиндару было известно о нас. По ту сторону Севера, льда, смерти – там живём, там наше счастье… Мы открыли счастье, мы ведаем путь, мы вышли из лабиринта тысячелетий. Кто ещё-то его нашёл? – Уж не «современный» ли человек?.. «Я в безысходности», – вздыхает современный человек… Такой «современностью» мы переболели – худым миром, трусливыми компромиссами, добродетельной нечистотой современных утверждений и отрицаний, Да и Нет. Терпимость, largeur[6][6]
широта, великодушие (фр.).
[Закрыть] сердца – всё «понимать», всё «прощать» – это для нас сирокко. Лучше жить во льдах, чем среди современных добродетелей и прочих южных ветров!.. Мы были весьма мужественны, не щадили ни себя, ни других – но мы долго не знали, куда податься с нашим мужеством. Нами овладела мрачность, нас стали называть фаталистами. Наш фатум – он был полнотою сил, их напряжением, их напором. Мы жаждали молний и подвигов, куда как далеко от нас было счастье немощных – «покорность»… В воздухе запахло грозой, природа, – а это мы сами, – покрылась тьмою – ибо не было у нас пути. Формула нашего счастья: Да, Нет, прямая линия, цель…
2[7][7]
Ср.: ПСС 13, 11[414]; 15[120].
[Закрыть]
Что хорошо? – Всё, от чего возрастает в человеке чувство силы, воля к власти, могущество.
Что дурно? – Всё, что идёт от слабости.
Что счастье? – Чувство возрастающей силы, власти, чувство, что преодолено новое препятствие.
Не удовлетворяться, нет, – больше силы, больше власти! Не мир – война; не добродетель, а доблесть (добродетель в стиле Ренессанса, virtù, – без примеси моралина).
Пусть гибнут слабые и уродливые – первая заповедь нашего человеколюбия. Надо ещё помогать им гибнуть.
Что вреднее любого порока? – Сострадать слабым и калекам – христианство…
3[8][8]
Ср.: ПСС 13, 11[414]; 15[120].
[Закрыть]
Проблема, что я ставлю, не в том, кто сменит человека в ряду живых существ (человек – конец), а в том, какой тип человека надлежит взращивать, какой наиболее высокоценен, более других достоин жизни, какому принадлежит будущее.
Такой высокоценный тип в прошлом нередко существовал на земле – но как счастливый, исключительный случай и никогда – согласно воле. Напротив, его более всего боялись, он, скорее, внушал ужас, и страх заставлял желать, взращивать и выводить обратное ему – домашнее, стадное животное, больное человеческое животное – христианина…
4[9][9]
Ср.: ПСС 13, 11[413].
[Закрыть]
Человечество не развивается в направлении лучшего, высшего, более сильного – в том смысле, как думают сегодня. «Прогресс» – это просто современная, то есть ложная, идея. Европеец наших дней по своей ценности несравненно ниже европейца Ренессанса; поступательное развитие отнюдь не влечёт за собой непременно возрастания, возвышения, умножения сил.
В ином отношении отдельные удачные феномены беспрестанно появляются – в разных частях света и на почве самых различных культур; в них действительно воплощён высший тип человека – своего рода сверхчеловек в пропорции к человечеству в целом. Такие счастливые случаи были возможны и, вероятно, будут возможны всегда. Даже целые поколения, племена, народы могут быть при известных обстоятельствах таким точным попаданием.
5[10][10]
Ср.: ПСС 13, 11[408].
[Закрыть]
Нечего приукрашивать христианство – оно вело борьбу не на жизнь, а на смерть с высшим типом человека, оно предало анафеме все основные его инстинкты и извлекло из них зло – лукавого в чистом виде: сильный человек – типичный отверженец, «порочный» человек. Христианство принимало сторону всего слабого, низкого, уродливого; свой идеал оно составило по противоположности инстинктам сохранения жизни, жизни в силе; христианство погубило разум даже самых сильных духом натур, научив чувствовать заблуждение, искушение, греховность в самых высших ценностях духовного. Самый прискорбный случай – Паскаль, испорченный верой в то, что разум его испорчен первородным грехом, тогда как испорчен он был лишь христианством!..
6
Предо мною ужасное, тягостное зрелище: я откинул занавес, скрывавший человеческую порчу. Слово это, когда произношу его я, не заподозрят хотя бы в одном – в том, что оно содержит моральное обвинение человечества. Ещё раз подчеркну: в моих словах нет моралина, до такой степени нет, что порчу сильнее всего чувствую я там, где до сих пор сознательнее всего чают «добродетельного» и «богоугодного». Порча – вы уже догадываетесь – это для меня décadence. Моё утверждение состоит в том, что ценности, в какие современное человечество вкладывает максимум желательного для себя, – это ценности décadence’а.
Животное, целый животный вид, отдельная особь в моих глазах испорчены, если утратили свои инстинкты, если вредное для себя предпочитают полезному. История «высших чувств», «идеалов человечества», – возможно, мне придётся рассказать её, – вероятно, почти всё объяснила бы в том, почему человек так испорчен.
Жизнь для меня тождественна инстинкту роста, власти, накопления сил, упрямого существования; если отсутствует воля к власти, существо деградирует. Утверждаю, что воля к власти отсутствует во всех высших ценностях человечества, – узурпировав самые святые имена, господствуют ценности гибельной деградации, ценности нигилистические.
7[11][11]
Ср.: ПСС 13, 11[361].
[Закрыть]
Христианство называют религией сострадания… – Сострадание противоположно аффектам тонуса, повышающим энергию жизненного чувства, – оно воздействует угнетающе. Сострадая, слабеешь. Сострадание во много крат увеличивает потери в силе, страдания и без того дорого обходятся. Сострадание разносит заразу страдания – при известных обстоятельствах состраданием может достигаться такая совокупная потеря жизни, жизненной энергии, что она становится абсурдно диспропорциональной кванту причины (пример: смерть назарянина). Вот одно соображение, а есть и другое, более важное. Если предположить, что сострадание измеряется ценностью вызываемых им реакций, то жизнеопасный характер его выступает с ещё большей ясностью. В целом сострадание парализует закон развития – закон селекции. Оно поддерживает жизнь в том, что созрело для гибели, оно борется с жизнью в пользу обездоленных и осуждённых ею, а множество всевозможных уродств, в каких длит оно жизнь, придаёт мрачную двусмысленность самой жизни. Люди отважились назвать сострадание добродетелью (для любой благородной морали сострадание – слабость), однако пошли и дальше, превратив сострадание в главную добродетель, в почву и источник всех иных, – правда, нельзя забывать, что так это выглядит с позиции нигилистической философии, начертавшей на своём щите отрицание жизни. Шопенгауэр был по-своему прав: сострадание отрицает жизнь, делает её достойной отрицания, сострадание – это практический нигилизм. Скажу ещё раз: этот депрессивный, заразный инстинкт парализует инстинкты, направленные на сохранение жизни, на повышение её ценности, – он бережёт и множит всяческое убожество, а потому выступает как главное орудие, ускоряющее décadence. Сострадание – это проповедь Ничто!.. Но только не говорят – «Ничто», а вместо этого говорят – «мир иной», «бог», «подлинная жизнь», или нирвана, искупление, блаженство… Эта невинная риторика из сферы религиозно-моральной идиосинкразии выглядит далеко не столь невинной, когда начинаешь понимать, какая тенденция маскируется возвышенными словами – враждебность жизни. Шопенгауэр был врагом жизни, а потому сострадание сделалось для него добродетелью… Аристотель, как известно, видел в сострадании болезненное, опасное состояние, когда время от времени полезно прибегать к слабительному: трагедию он понимал как такое слабительное.[12][12]
Очевидно, речь о следующих местах из «Поэтики»: 1449b, 27–28 и 1453b (вначале).
[Закрыть] Ради инстинкта жизни следовало бы на деле искать средство нанести удар по такому опасному, болезнетворному скоплению сострадания, как в случае Шопенгауэра (и, к сожалению, всего нашего литературно-художественного décadence’а от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера), – нанести удар, чтоб оно лопнуло… Нет ничего менее здорового во всей нашей нездоровой современности, чем христианское сострадание. Тут-то послужить врачом, неуступчивым, со скальпелем в руках, – наша обязанность, наш способ любить людей, благодаря этому мы, гиперборейцы, становимся философами!..
8
Необходимо сказать, кого мы считаем своей противоположностью, – богословов и всех, в ком течёт богословская кровь, – всю нашу философию… Надо вблизи увидеть эту фатальность, а лучше пережить её самому и разве что не погибнуть от неё, чтобы уж вовсе не понимать тут шуток (вольнодумство господ естествоиспытателей и физиологов в моих глазах только шутка, им в этих материях недостаёт страсти, им недостаёт страдания). Зараза распространилась дальше, чем думают: богословский инстинкт «высокомерия» я обнаруживал везде, где люди в наши дни ощущают себя «идеалистами» и в силу высшего своего происхождения присваивают себе право глядеть на действительность неприязненно и свысока. Идеалист что жрец, все высокие понятия у него на руках (да и не только на руках!), он с благожелательным презрением кроет ими и «рассудок», и «чувства», и «почести», и «благополучие», и «науку»: всё это ниже его, всё это вред и соблазн, над которыми в неприступном для-себя-бытии парит «дух»… Как если бы смирение, целомудренность, бедность, одним словом, святость не причинили жизни вреда куда большего, чем самые ужасные извращения и пороки… Чистый дух – чистая ложь… Пока признаётся существом высшего порядка жрец, этот клеветник, отрицатель и отравитель жизни по долгу службы, не будет ответа на вопрос: что есть истина? Если «истину» защищает адвокат отрицания и небытия, она уже вывернута наизнанку…
9
Объявляю войну инстинкту теолога: след его обнаруживаю повсюду. У кого в жилах течёт богословская кровь, тот ни на что не способен смотреть прямо и честно. На такой почве развивается пафос, именуемый верой: раз и навсегда зажмурил глаза, и уже не смущаешься своей неизлечимой лживостью. Из дефектов зрения выводят мораль, добродетель, святость; чистую совесть ставят в зависимость от ложного видения, требуют, чтобы никакой иной способ видения не признавался, – свой же собственный назвали «искуплением», «вечностью», «богом» и объявили священным. Но я везде докапывался до богословского инстинкта – до этой самой распространённой, по-настоящему «подпольной» формы лживости, какая только есть на свете. Если для богослова что-то истинно, значит, это ложь – вот вам, пожалуйста, критерий истины. Самый глубокий инстинкт самосохранения воспрещает богослову чтить или хотя бы учитывать реальность – и в самом малом. Куда только простирается его влияние, всюду извращены ценностные суждения, а понятия «истинного» и «ложного» непременно вывернуты наизнанку: самое вредное для жизни называется «истинным», то же, что приподнимает, возвышает, утверждает, оправдывает жизнь, что ведёт к её торжеству, считается «ложным»… Если, случается, богословы протягивают руку к власти, воздействуя на «совесть» государей (или народов), мы можем не сомневаться в том, что, собственно, происходит: рвётся к власти воля к концу, нигилизм воли…
10
Немцы сразу поймут меня, если я скажу: философия испорчена богословской кровью. Протестантский пастор – прадед немецкой философии, сам протестантизм – её peccatum originale.[13][13]
первородный грех (лат.).
[Закрыть] Вот определение протестантизма – это односторонний паралич христианства – и разума… Достаточно сказать – «Тюбингенский Штифт»,[14][14]
Тюбингенский Штифт – знаменитый богословский институт в Тюбингене, где учились Гегель, Шеллинг, Гёльдерлин.
[Закрыть] чтобы понять, что такое немецкая философия по своей сути – коварная, скрытная теология… Никто в Германии не лжёт лучше швабов – те лгут с невинностью… Откуда это ликование, охватившее учёный мир Германии (на три четверти состоящий из пасторских и учительских сынков), когда выступил Кант? Откуда эта убеждённость немцев, ещё и теперь находящая отклик, будто с Канта начался поворот к лучшему? Богословский инстинкт немецкого учёного угадал, что отныне вновь возможно… Вновь открылась потайная тропа, ведущая к прежнему идеалу, вновь объявились понятие «истинного мира», понятие морали как самой сути мира (два самых злокачественных заблуждения, какие только есть!): благодаря лукаво-хитроумному скептицизму они если и не доказуемы, то уже и не опровержимы… Разум, права разума так далеко не простираются… Реальность обратили в «кажимость»; от начала до конца ложный мир сущего провозгласили реальностью… Успех Канта – успех богослова, и только: подобно Лютеру, подобно Лейбницу, Кант стал новым тормозом на пути немецкой порядочности с её и без того не слишком твёрдой поступью…
11
Ещё слово против Канта-моралиста. Добродетель – это либо наша выдумка, глубоко личная наша потребность и орудие самозащиты, либо большая опасность. Всё, что не обусловливается нашей жизнью, вредит ей: вредна добродетель, основанная на почитании понятия «добродетель», как того хотел Кант. «Добродетель», «долг», «благое в себе», благое безличное и общезначимое – всё химеры, в которых находит выражение деградация, крайняя степень жизненной дистрофии, кенигсбергский китаизм. Глубочайшие законы сохранения и роста настоятельно требуют обратного – чтобы каждый сочинял себе добродетель, выдумывал свой категорический императив. Когда народ смешивает свой долг с долгом вообще, он погибает. Ничто не поражает так глубоко, ничто так не разрушает, как «безличный долг», как жертва молоху абстракции. – И почему только категорический императив Канта не воспринимали как жизнеопасный!.. Только богословский инстинкт и взял его под защиту!.. Когда к действию побуждает инстинкт жизни, удовольствие служит доказательством того, что действие было правильным, а для нигилиста с христианской догмой в потрохах удовольствие служило аргументом против… Ничто так быстро не разрушает, как работа, мысль, чувство без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без удовольствия, как автоматическое исполнение «долга»! Прямой рецепт décadence’а, даже идиотизма… Кант сделался идиотом… И это современник Гёте! Роковой паук считался – нет, всё ещё считается немецким философом!.. Умолчу о том, что думаю о немцах… Не Кант ли видел во французской революции переход от неорганической формы государства к органической? Не он ли задавался таким вопросом: бывают ли события, объяснимые лишь моральными задатками человечества, так что тем самым было бы доказано «тяготение человечества к благу»? Ответ Канта: такое событие – революция. Ошибочный инстинкт во всём, противоестественность инстинктов, немецкий décadence в философском обличье – вот вам Кант![15][15]
См.: Kant I. Der Streit der Fakultaeten // Werke. Akademie-Ausgabe. Bd. 7. Berlin. S. 85–87.
[Закрыть]
12[16][16]
Ср.: ПСС 13, 15[28].
[Закрыть]
Вычту двух-трёх скептиков – в истории философии это приличный тип; остальные не знакомы и с самыми элементарными требованиями интеллектуальной благопристойности. Они как самки – все эти великие мечтатели и диковинные звери; у всех «прекрасные чувства» сходят за аргументы, вздымающаяся грудь – за меха, раздуваемые божеством, убеждение – за критерий истины. Напоследок Кант попытался – «по-немецки» невинно – придать наукообразный вид этой форме порчи, этому отсутствию интеллектуальной совести, он изобрёл понятие «практического разума» – особого разума, когда уже не надо беспокоиться о разумности, коль скоро заявляет свои права мораль, коль скоро громогласно раздаётся требование: «Ты обязан!..» Если мы примем во внимание, что почти у всех народов философ наследует и развивает тип жреца, то нас уже не удивит эта привычка чеканить фальшивую монету, обманывая самого себя. Коль скоро на тебя возложены священные обязанности – как-то: совершенствовать, спасать, искуплять людей, коль скоро ты носишь божество в своей груди и выступаешь рупором потусторонних императивов, то ты со своей миссией недосягаем для чисто рассудочных оценок, тебя освящает обязанность, ты сам тип высшего порядка!.. Что жрецу знание! Он слишком высок для наук! – А ведь до сей поры царил жрец!.. Он определял, что «истинно», что «неистинно»!..[17][17]
Черновой вариант: «Интересно взглянуть на то, что противоположно происхождению философии, а именно – на происхождение науки. Если какое-нибудь семейство на протяжении ряда поколений сохраняет приверженность определённому роду деятельности, то случается, что все накопившиеся умения, привычка к последовательности, к точности, к предусмотрительности, к педантизму становится наконец независимой и распространяйся теперь уже и на духовную сферу. Формальное обучение, которое проходит ум, словно бы обособляется от прежней цели этого обучения и само по себе становится некой потребностью, алканием проблем – сама цель становится средством. – Научность есть выражение врождённой virtù и точности в мышлении и поступках. Поэтому гениев науки можно встретить почти исключительно среди потомков ремесленников, торговцев, врачей, адвокатов: у еврейского ребёнка совсем не мало шансов стать дельным учёным. И наоборот, из сыновей священников получаются философы».
[Закрыть]
13[18][18]
В издание «Воли к власти» под номером 469 сотрудниками Архива Ницше был включён ранний черновой вариант этого параграфа.
[Закрыть]
Не станем недооценивать следующего: мы сами, мы, вольные умы, – мы воплощённое объявление войны всем прежним понятиям «истинного» и «ложного»; в нас самих – «переоценка всех ценностей». К самым ценным выводам приходят дольше всего, а здесь у нас самые ценные выводы – методы. Все методы, все предпосылки нашей сегодняшней научной мысли тысячелетиями вызывали глубочайшее презрение: учёный не допускался в общество «приличных» людей – считался «врагом бога», презирающим истину, считался «одержимым». Человек, занятый наукой, – чандала… Весь пафос человечества, все понятия о том, чем должна быть истина, чем должно быть служение науке, – всё было против нас; произнося «ты обязан!..», всегда обращали эти слова против нас… Наши объекты, наши приёмы, наш нешумный, недоверчивый подход к вещам – всё казалось совершенно недостойным, презренным. – В конце концов, чтобы не быть несправедливым, хочется спросить, не эстетический ли вкус столь долгое время ослеплял человечество; вкус требовал, чтобы истина была картинной; от человека познания вкус равным образом требовал, чтобы он энергично воздействовал на наши органы чувств. Наша скромность шла вразрез со вкусом… Ах, как хорошо они это почуяли, индюки господни —
14
Мы переучили всё. Во всём стали скромнее. Мы уже выводим человека из «духа», из «божества», мы опять поместили его среди животных. Он для нас самое могучее животное – потому что самое хитрое; его духовность – следствие. С другой стороны, мы решительно противимся тщеславию, которое и тут готово громко заявить о себе, словно человек – это великая задняя мысль всей животной эволюции. Никакой он не венец творения – любое существо стоит на той самой ступени совершенства, что и он… И того много: в сравнении с другими человек получился хуже – самое больное среди животных, он опасно отклонился от своих инстинктов жизни… Но, впрочем, он и наиболее интересен!.. Что касается животных, то сначала Декарт (весьма достойная дерзость!) осмелился помыслить животное как machina; вся наша физиология стремится доказать этот тезис. И мы вполне логично не ставим человека в сторонку (как ещё Декарт), – всё, что вообще понятно до сих пор в человеке, не заходит дальше понимания «машинообразного» в нём. Прежде человека наделяли «свободой воли» – даром высших сфер; теперь мы отняли у него и волю – в смысле особой способности. Прежнее слово «воля» служит теперь лишь для обозначения результирующей – чего-то вроде неизбежной индивидуальной реакции на множество отчасти противоречащих друг другу, отчасти гармонирующих друг с другом раздражений. «Воля» теперь не «созидает», не «движет»… Раньше в сознании, в «духе» человека видели доказательство высшего, божественного происхождения человека; чтобы усовершенствовать его, ему, словно черепахе, советовали вобрать в себя все чувства, прервать общение с земным миром и сбросить смертные покровы: тогда, мол, и останется самое главное – «чистый дух». И здесь мы тоже нашли кое-что получше: в осознании, в «духе» для нас симптом относительного несовершенства организма, пробы и ошибки, попытки достичь чего-то вслепую и на ощупь и прежде всего труды, поглощающие слишком много нервной энергии, – мы отрицаем то, что совершенство возможно, пока нечто осознаётся. «Чистый дух» – чистая глупость: если вычесть нервную систему, чувства, наконец, «смертную оболочку», мы просчитаемся – просчитаемся, да и только!..







