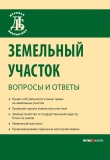Текст книги "В приисковой глуши"
Автор книги: Фрэнсис Брет Гарт
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
III.
Не доезжая десятка шагов до учителя, Мак-Кинстри, почти не останавливая своего мустанга, соскочил с седла и, хлопнув хлыстом по бокам животного, пустил его скакать в галоп к дому. А сам, запустив руки в карманы длинного, просторного полотняного сюртука, медленно направился, звякая шпорами к молодому человеку.
Это был плотный, среднего роста, человек, с густой рыжеватой бородой, с бледно-голубыми глазами, с тяжелыми веками и взглядом, вместе сонным и страдальческим, который, скользнув на учителе, больше на нем не останавливался.
– Жена хотела вам послать ружье с Кресси, – сказал учитель, – но я предложил передать его сам, так как мне показалось такое поручение не совсем приличным для молодой лэди. Вот ружье. Я надеюсь, что в нем не было и не будет надобности, прибавил он.
М-р Мак-Кинстри взял ружье одной рукой с видом слегка смущенным и удивленным, закинул его на плечо и той же самой рукой, не вынимая из кармана другой, снял мягкую войлочную шляпу с головы и, показав отверстие, пробитое пулей в ее полях, лениво ответил:
– Оно опоздало на полчаса, но Гаррисон был не в духе, и рука его дрогнула, когда он выстрелил в меня и не попал.
Момент для объяснений, очевидно, был неудачно выбран учителем, но он решил не упускать его. И однако медлил, при чем и спутник его тоже казался не менее смущен, и в рассеянности вынул из кармана правую руку, обвернутую в окровавленный платок, пытаясь, очевидно, совсем машинально, почесать в голове окоченелыми пальцами.
– Вы ранены, – сказал учитель, искренно встревоженный, – а я вас задерживаю.
– Я держал руку вот так, – пояснял Мак-Кинстри с вялой решимостью, – и пуля задела мой мизинец, пролетая через шляпу. Но я не хотел вам сказать, когда остановил вас. Я еще не довольно спокоен, извинялся он, спокойнейшим манером, я совсем вышел из себя, прибавил он с безусловным самообладанием. Но я хотел спросить вас, – и он фамильярно положил обвязанную руку на плечо учителю, – что, Кресси хорошо себя вела?
– Прекрасно, – отвечал учитель. – Но не пойти ли мне с вами домой, и мы можем переговорить после того, как ваша рана будет перевязана?
– И она была хорошенькая? – продолжал Мак-Кинстри, не двигаясь с места.
– Очень.
– И вы нашли хорошеньким ее платье из нового магазина?
– Да, ответил учитель. Быть может, немножко слишком нарядным для школы, прибавил он вразумительно, и…
– Но только не для нее, но только не для нее, – перебил Мак-Кинстри. Я думаю, что таких платьев можно еще достать там, откуда она приехала! Вам нечего беспокоиться, пока Гирам Мак-Кинстри жив, у Кресси не будет недостатка в платьях.
М-р Форд безнадежно глядел на безобразную мызу, видневшуюся вдали, и на тропинку под его ногами; затем перевел глаза на руку, все еще покоившуюся у него на плече.
– В другое время я подробнее поговорю с вами о вашей дочери, м-р Мак-Кинстри.
– Говорите теперь, – сказал Мак-Кинстри, продевая раненую руку в руку учителя. – Я люблю вас слушать. Вы из тех, что успокоиваете, и мне это приятно.
Тем не менее учитель чувствовал, что его собственная рука не так тверда, как рука его спутника. Было однако бесполезно отступать теперь, и с тем тактом, какой он только сумел проявить, он облегчил свою душу от тяготившего его вопроса. Он распространился о предварительном поведении Кресси в школе, об опасности нового усложнения такого же рода, о необходимости держать ее на положении ученицы и о желательности ее перевода с этою целью в высшее учебное заведение, где была бы зрелая наставница одного с нею пола.
– Вот, что я желал сказать сегодня м-с Мак-Кинстри, но она отослала меня к вам.
– Так, так, – сказал Мак-Кинстри, одобрительно кивая головой. – Она добрейшая женщина в околодке, и во всех делах такого рода, – он слегка помахал раненой рукой в воздухе, – лучше ее не найти. Она дочь Блера Роулинса и вместе с братом Клеем одна лишь уцелела после двадцатилетней борьбы с Мак-Инти в западном Кентукки. Но она не понимает девушек, как мы с вами. Хотя и я не совсем понимаю, потому что недостаточно спокоен. Старуха сказала вам правду, говоря, что она была не при чем с помолвкой Кресси. Это верно! Да, по правде сказать, и мы тут не при чем с Сетом Девисом и Кресси.
Он помолчал и, подняв на секунду тяжелые веки и задумчиво глянув на учителя, прибавил:
– Коли хотите знать правду, то, говоря между нами, знаете, единственное лицо, ответственное за эту помолвку и за то, что она разошлась – это вы!
– Я! – проговорил учитель в неописанном удивлении.
– Вы! – повторил Мак-Кинстри спокойно, кладя обратно руку, которую было учитель пытался высвободить из своей. – Я не говорю, что вы это сознавали или хотели этого. Но это так вышло. Если вы хотите выслушать меня, то я вам объясню, как это вышло. Мне ничего проводить вас немного, потому что, если мы пойдем на мызу, то собаки увидят меня, поднимут лай, вызовут старуху, и прощай наша задушевная беседа. И я теперь стал немного спокойнее.
Он медленно двигался по тропинке, продолжая конфиденциально опираться на руку Форда, хотя, благодаря своим обширным размерам, и покровительственному виду, казалось, как будто он поддерживает его раненой рукой.
– Когда вы только что приехали в Инджиан-Спринг, – начал он, – Сет и Кресси ходили в школу, как всякие другие мальчик с девочкой, и ничего больше. Они знали друг друга с детства – Девисы были нам соседями в Кентукки и вместе с нами переселились в Сен-Джо. Сет, может быть, со временем и привязался бы к Кресси, как и Кресси к нему и между нашими семьями ничего такого не происходило, что бы помешало им жениться, когда б они того захотели. Но никаких слов об этом не говорено и никакой помолвки не было.
– Как же так, – перебил поспешно Форд, – мой предшественник, м-р Мартин, ясно высказал мне, что помолвка была и с вашего позволения.
– Это только потому, что вы обратили на это внимание в первый же день, как пришли в школу с Мартином. «Папа, – сказала мне Кресси, – новый учитель очень строг, и он заметил нас с Сетом, а потому вам лучше сказать, что мы помолвлены». – «Но разве вы помолвлены?» – спросил я. «Да ведь придет к тому, – сказала Кресси, – а если этот учитель приехал сюда с северными идеями об обществе, то лучше дать ему понять, что Инджиан-Спринг не совсем медвежий угол на счет всяких там приличий». Так я и согласился, и Мартин сказал вам, что все в порядке: Кресси и Сет – жених с невестой, и вам нечего о них беспокоиться. А вы целую историю подняли из-за этого и объявили, что школа не подобающее совсем место для обрученных.
Учитель не без смущения взглянул в лицо отцу Кресси. Оно было неподвижно и невозмутимо.
– Я не скажу вам, что теперь все это улажено. Беда моя, м-р Форд, в том, что я не спокоен, а вы спокойны, и вот чем вы меня берете. Потому что когда я услышал, что вы сказали, то сел на мустанга и поскакал в школу с тем, чтобы дать вам пять минут времени на то, чтобы очистить Инджиан-Спринг от своего присутствия. Не знаю, помните ли вы этот день. Я рассчитал так свое время, чтобы перехватить вас по дороге из школы, но приехал слишком рано. Я слез с лошади, привязал ее к кустам, подкрался к окну и заглянул в школу. В ней было очень тихо и спокойно. Белки играли на крыше, птицы щебетали и пчелы жужжали кругом, и никто не обращал на меня внимания. Вы ходили между маленькими девочками и мальчиками, поднимали за подбородок их головки и говорили с ними так мягко и спокойно, точно вы сами ребенок и их товарищ. И все они казались довольными и спокойными. И вот – не знаю, помните ли вы это – вы подошли к окну, заложив руки за спину, и глядели так спокойно и мирно и так задумчиво, точно вы были за сто миль и от школы, и от самого себя. И вот я подумал, что дал бы не знаю что, чтобы старуха увидела вас таким. И подумал я, м-р Форд, что тут мне не место; да подумал также – немножко это грубо с моей стороны – что пожалуй не место тут и моей Кресси! И вот я отъехал, не потревожив ни вас, ни птиц, ни белок. Когда я заговорил об этом вечером с Кресси, она сказала, что так всегда бывает, и что вы всегда обращались с ней, как и со всеми другими. Поэтому она согласилась поехать в Сакраменто и закупить там кое-какие вещи с тем, чтобы через месяц обвенчаться с Сетом. Постойте, м-р Форд, дайте мне договорить, – продолжал он, так как молодой человек сделал движение, как будто собирался что-то заметить.
– Ну вот я согласился; но когда она пожила в Сакраменто и накупила себе нарядов, она написала мне, что обдумала все дело, и что, по ее мнению, они с Сетом слишком молоды, чтобы жениться, и что помолвка должна расстроиться. И я расстроил.
– Но каким образом? – спросил удивленный учитель.
– Вообще говоря, с помощью ружья, – отвечал Мак-Кинстри с медлительною важностью, показывая на ружье, которое нес на плече, потому что я не спокоен. – Я заявил отцу Сета, что если я когда-нибудь опять застану Сета с Кресси вдвоем, то убью его. Это произвело некоторую холодность между семьями и придало храбрости подлецам Гаррисонам. Но даже закон, полагаю, признает права отца. Кресси же говорит теперь, когда с Сетом все покончено, что она не видит причины, почему ей не ходить в школу и не окончить свое образование. И я нашел, что она права. И мы оба решили, что так как она оставила школу, чтобы купить эти платья, то справедливо будет, если школа этим воспользуется – пусть в этих платьях туда и ходит.
Дело оказывалось безнадежнее, чем прежде. Учитель знал, что человек, шедший с ним рядом, не будет вторично так покладлив. Но, быть может, именно сознание опасности заставило его еще серьезнее взглянуть на свои обязанности, а гордость возмущалась возможностью угрозы, скрытой под этими признаниями Мак-Кинстри. По крайней мере учитель нашел нужным сказать:
– Но вполне ли вы уверены, что не пожалеете о том, что не воспользовались расстроенным сватовством с тем, чтобы послать вашу дочь в какой-нибудь пансион для взрослых девиц в Сакраменто или в Сан-Франциско? Вы не думаете, что она может соскучиться в обществе маленьких детей, тем более, что она уже знакома с волнениями девушки, у которой уже был… – он хотел сказать «возлюбленный», но сдержался и прибавил: – которая уже узнала прелесть девической свободы.
– М-р Форд, – отвечал Мак-Кинстри с тупым и самодовольным непониманием человека одностороннего, – когда я сейчас сказал, что, заглянув в вашу спокойную, мирную школу, я нашел, что в ней не место Кресси, то не потому, чтобы ей не следовало там быть по-моему. Дело в том, что чего она никогда не находила дома у старухи и у меня, когда была маленькой девочкой, того она не нашла бы и в пансионе для взрослых девиц, а именно: детскую обстановку. Невинная наивность детства, должно быть, соскочила как-нибудь с нашего эмигрантского фургона, когда мы путешествовали по прериям, или же мы ее оставили в Сен-Джо. Кресси стала взрослой девушкой, годной в замужество, прежде чем вышла из детства. За ней увивались молодцы, когда она еще играла с ними, как играют девочки с мальчиками. Я не скрою от вас, что дочь Блера Роулинса и не могла лучше воспитать своей дочери, хотя она была драгоценной подругой для меня. Поэтому, если вам все равно, м-р Форд, то мы не будем говорить о пансионе для взрослых девиц; мне бы скорее хотелось, чтобы Кресси была маленькой девочкой среди маленьких детей. Я был бы гораздо спокойнее, если бы знал, что, когда меня нет дома и я воюю с Гаррисонами, она сидит в школе с детьми, с птицами и пчелками и слушает их и вас. Может быть, вокруг нашей мызы слишком много было всяких молодцов с самого ее малолетства; может быть, ей нужно узнать о человеке немножко поболее того, чему может ее научить молодец, увивающийся около нее или дерущийся за нее.
Учитель молчал. Неужели этот тупой, ограниченный партизан набрел на истину, которая никогда не представлялась его собственному просвещенному уму? Неужели этот себялюбивый дикарь, этот порубежный рубака с обагренными – в буквальном смысле слова – кровью руками, лучше его понял каким-то темным инстинктом, что для его дочери необходимы женственность и мягкость? На минуту он был сражен. Но затем вспомнил о недавнем заигрываньи Кресси с Джо Мастерсом и о том, что она скрыла от матери их встречу. Неужели она обманула также и отца? Или уж не морочил ли его самого отец этими переходами от угроз к доброте, от силы к слабости. Он слыхал раньше об этой жесткой черте юго-западной хитрости. Как бы то ни было, искоса взглянув на дикаря с раненой рукой, опиравшегося на его руку, он постарался не дать ему заметить своего недоверия. И удовольствовался слабой уловкой слабого человечества в таких случаях – добродушным равнодушием.
– Хорошо, – сказал он, беспечно, – я постараюсь сделать, что можно. Но уверены ли вы, что одни дойдете до дома? Не проводить ли мне вас?
И так как Мак-Кинстри отрицательно махнул рукой, то прибавил вскользь, чтобы заключить беседу:
– Я буду сообщать вам об ее успехах время от времени, если желаете.
– Мне, – подчеркнул напыщенно Мак-Кинстри, – а не туда, не на мызу. Но, может быть, вы разрешите мне приезжать и заглядывать к вам в окна школы? Ах! вам это будет неприятно? – прибавил он, впервые как бы покраснев. – Ну, оставим это.
– Видите ли, это может развлекать детей, – пояснил учитель кратко, хотя не без интереса подумав о том, какой бесконечный восторг вызвало бы свирепое и надменное лицо Мак-Кинстри, появившись в окне, в младенческой груди Джонни Фильджи.
– Ну, все равно! – отвечал медленно Мак-Кинстри. – Вы, вероятно, не согласитесь пойти в гостиницу и выпить чего-нибудь, лимонаду или грога?
– Я ни за что не решусь удерживать вас еще лишнюю минуту вдали от м-с Мак-Кинстри, – сказал учитель, поглядывая на раненую руку своего спутника. – Тем не менее, очень вам благодарен. Прощайте!
Они пожали друг другу руки, и Мак-Кинстри переместил ружье под мышку, чтобы подать левую, здоровую руку. Учитель следил за тем, как он медленно направился к мызе. После того, сознавая не то с смущением, не то с удовольствием, что он сделал шаг, последствия которого могут быть еще важнее, чем представляются ему в настоящую минуту, направился в противуположную сторону к школьному дому. Он был, так озабочен, что только подойдя к школе вспомнил про дядю Бена. Припомнив рассказ Мак-Кинстри, он осторожно подкрался к открытому окну с намерением заглянуть в него. Но школьный дом не только не представлял собой того мира и покоя, какие тронули дикое сердце Мак-Кинстри, но весь звучал юношескими негодующими возгласами: голос Руперта Фильджи так и гремел в удивленных ушах учителя.
– Пожалуйста бросьте свои кривлянья; меня вы не проведете своим Мичелем, да Добеллем, слышите! Много вы о них знаете, как же? Поглядите на эту тетрадь. Если бы Джонни написал так, то я бы выдрал его за уши. Ну, конечно, перо виновато, а не ваши деревянные пальцы. Может быть, вам требуются золотые перья, скажите пожалуйста! Знаете, что я вам скажу! Возьму я да и брошу с вами возиться. Ну вот опять клякса! Слушайте, вам не перо в руке держать, а швабру, вот что!
Учитель подошел к окну и незамеченный стал наблюдать за тем, что происходило в школе.
В силу каких-то собственных, педагогических соображений, красавец Фильджи заставил дядю Бена сесть на пол перед одним из самых маленьких пюпитров, вероятно, своего брата, в позе, которая несомненно давала большой простор локтям человека, не привыкшего обращаться с пером и бумагой, а потому производящего много лишних и безобразных движений, между тем как юный наставник с возвышенного положения, какое дозволяла ему униженная позиция великана-ученика, наклонялся над ним точно лукавая, грациозная, шаловливая девушка.
Но всего удивительнее для м-ра Форда было то, что дядя Бен не только не негодовал на свое униженное положение и на брань, какою осыпал его юный наставник, а напротив того принимал и то и другое, мало того, что с своим обычным неизменным добродушием, но еще и с явным восхищением.
– Не спеши, Руп, не спеши, – говорил он весело. – Ты и сам был когда-то мальчишкой. Само собой разумеется, что я возьму на себя все убытки по части испорченного материала. В следующий раз я принесу свои собственные перья.
– Сделайте милость. Из школы Добелля, – вероятно, намекнул злой насмешник Руперт. – В той школе, должно быть, перья были из гуттаперчи?
– Нужды нет, какие бы они там ни были, – отвечал добродушно дядя Бен. – Взгляни-ка на это С. Ведь недурно. Что скажешь?
Он взял перо в зубы, медленно приподнялся на ноги и, приставив одну руку к глазам, с восхищением глядел с высоты шести футов роста на свою работу. Руперт, заложив руки в карманы и повернувшись спиной к окну, насмешливо следил за этой инспекцией.
– Что это за раздавленный червяк на конце страницы? – спросил он.
– Как ты думаешь, что это такое? – восторженно спросил дядя Бен.
– Похоже на змеиный корень, когда его выкопаешь из земли и к нему пристанет грязь, – критически ответил Руперт.
– Это мое имя.
Оба стояли и глядели, свернув головы несколько набок.
– Это не так худо сделано, как все остальное. Может быть, скажем, это и ваше имя. То есть, он ни на что другое не похоже, – прибавил Руперт, вдруг сообразив, что полезно, быть может, иногда и поощрить ученика. – Вы со временем научитесь. Но зачем вы все это делаете? – вдруг спросил он.
– Что делаю?
– Да ходите в школу, когда вас никто не посылает, и вам нет никакой нужды учиться…
Краска разлилась по лицу дядя Бена до самых ушей.
– Что дашь, если я скажу тебе это, Руп? Представь, что я со временем разбогатею и захочу бывать в обществе. Представь, что я хочу быть не хуже других, когда будет на моей улице праздник. И захочу читать стихи, и романсы, и все такое.
Выражение бесконечного и невыразимого презрения сказалось во взгляде Руперта.
– В самом деле, – проговорил он медленно и решительно. – Хотите, я скажу вам, почему вы сюда приходите и что заставляет вас это делать?
– Что?
– Какая-нибудь… девчонка!
Дядя Бен разразился громким хохотом, от которого задрожала крыша, и до тех пор переминался с ноги на ногу, пока пол не заходил ходуном.
Но в этот момент учитель появился на крыльце и вошел тихо, хотя не совсем кстати.
IV.
Возвращение мисс Кресси Мак-Кинстри в Инджиан-Спринг и возобновление ее прерванных занятий было таким событием, влияние которого не ограничилось одной школой. Даже порванное сватовство отступило на задний план в общем внимании перед фактом ее появления в роли ученицы. Некоторые недоброжелательные особы ее пола, естественно защищенные от дальнобойного ружья м-ра Мак-Кинстри, утверждали, что ее не приняли в пансион в Сакраменто, но большинство отнеслось к ее возвращению с местной гордостью и усмотрело в этом практический комплимент делу преподавания, как оно было поставлено в Инджиан-Спринге.
Местная газета «Star» с широковещательным красноречием, трогательно шедшим в разрез с ее малым об емом и плохим качеством шрифта и бумаги, толковала о возможности «развития будущей академии в Инджиан-Спринге, под сенью которой в настоящую минуту набираются ума-разума будущие мудрецы и государственные люди». Учитель, прочитав это, почувствовал себя неловко. В продолжение нескольких дней, тропинка между мызой Мак-Кинстри и школьным домом служила любимым местом гулянья для толпы молодых людей, для которых освобожденная Кресси, над которой не тяготел больше опасный надзор Девис-Мак-Кинстри, была предметом восхищения. Но сама юная девица, которая, несмотря на досаду учителя, почитала, очевидно, своей священнейшей обязанностью наряжаться поочередно во все свои новые платья, не решалась, однако, приводить за собой обожателей в школьные пределы.
Учитель с удивлением заметил, что Инджиан-Спринг нисколько не тревожился на счет его собственного привилегированного положения относительно сельской очаровательницы; молодые люди, ясно, нисколько не ревновали к нему; никакая матрона не находила неприличным, чтобы молодую девушку возраста Кресси и с ее историей доверяли наставлениям молодого человека, немногим ее старше.
Несмотря на отношение, в какое угодно было м-ру Форду стать к ней, такой молчаливый комплимент его предполагаемому монашескому взгляду вызывал в нем почти такую же неловкость, как и нелепые похвалы «Star». Он был вынужден припомнить кое-какие неблагоразумные пассажи из своей жизни, чтобы примириться с навязываемым ему аскетизмом.
В силу обещания, данного м-ру Мак-Кинстри, он достал несколько элементарных учебников, пригодных для нового положения, занятого Кресси в школе, чтобы не нарушался ни порядок занятий, ни дисциплина в классе. В несколько недель ему удалось настолько перевоспитать ее, что он сделал ее «старшей» над младшими девочками, так что ей приходилось теперь делить некоторые обязанности с Рупертом Фильджи, который обращался с вероломным и «глупым» женским полом грубее, чем это требовалось, и с излишней придирчивостью.
Кресси приняла это звание, как вообще принимала свои новые занятия, с ленивым добродушием и по временам с таким безусловным неведением их отвлеченных или нравственных целей, что у учителя руки опускались.
– Зачем все это? – спрашивала она, поднимая внезапно глаза на учителя.
М-р Форд, которого смущал этот взгляд, почти всегда клонившийся к бесцеремонному разглядыванию его лица во всей его подробности, давал ей какой-нибудь суровый практический ответ. Однако, если предмет отвечал ее собственным тайным наклонностям, то она быстро усвоивала его себе.
Мимолетный вкус к ботанике был пробужден одним довольно пустым обстоятельством. Учитель, считая это занятие безвредным и приличным для девицы, заговорил о нем в один прекрасный день и получил обычный вопрос.
– Но представьте себе, – продолжал он бесхитростно, – что кто-нибудь пришлет вам цветов анонимным образом.
– Ее душенька! – подсказал Джонни Фильджи с обычной своей беззастенчивостью.
Игнорируя это замечание и щелчок, которым ответил на него Руперт, учитель продолжал:
– И если вы не будете знать, кто вам их прислал, то по крайней мере узнаете, что это за цветы и где они растут.
– Если они растут где-нибудь здесь, то мы ей скажем, – объявил хор тоненьких голосков.
Учитель колебался. Он чувствовал, что опрометчиво попал на щекотливую почву. В него впились десятки острых глазок, от которых природа никогда не умеет скрывать своих тайн; – эти глазки следили за появлением самых первых цветков; эти пальчики никогда не рылись в словарях и учебниках, но умели разгребать сухие листья, под которыми притаился первый подснежник, и карабкаться по оврагам, раскидывая сухой хворост, под которым прячется хитрый полевой нарцисс. Убежденный, что ему нельзя конкурировать с ними в этих познаниях, он бессовестно подменил сферу наблюдений.
– Представьте себе, что один из этих цветков непохож на остальные, что его стебель и листья не зеленые и нежные, а белые и толстые, как фланель, точно затем, чтобы предохранять его от холода, разве не приятно было бы сказать сразу, что он растет в снегу и что кто-нибудь должен был забраться за линию снега, чтобы сорвать его.
Дети, захваченные врасплох таким лукавым приемом, молчали.
Кресси задумчиво признала возможным допустить ботанику на таких основаниях.
Неделю спустя, она положила на конторку учителя растение со стеблем, точно увитым ватой.
– Не особенно ведь красив этот цветок, – сказала она. – Я думаю, что я могла бы вырезать его ножницами из моей старой суконной кофточки, и он был бы не хуже.
– И вы нашли его здесь? – спросил учитель с удивлением.
– Я сказала Мастерсу, чтобы он поискал его, когда будет на Суммите. Я описала ему цветок. Я не думала, что он сорвет его и принесет ко мне. Но он принес.
Хотя ботаника, очевидно, отошла на задний план, после такого сообщения, но, благодаря этому, Кресси получала постоянно свежие букеты, и цивилизующее влияние букетов, распространяясь на ее друзей и знакомых, повлияло на цветоводство и повело к разведению одного или двух садов и было признано школой, как интересное прибавление к ягодам, яблокам и орехам.
В чтении и письме Кресси сделала большие успехи, и грамматические ошибки стали попадаться реже в ее речи, письменной и устной, хотя она все еще удерживала некоторые характерные словечки и изменяла медлительной, певучей интонации юго-западных уроженцев. Она исподволь справлялась с трудностями произношения больше по инстинктивной музыкальности уха, нежели по разумению.
Учитель, с своими полузакрытыми глазами, не узнавал, ученицы. Понимала ли она то, что читала, или нет – этого он не решался спросить. Один только Руперт Фильджи выражал недоверие и пренебрежение к ее успехам.
Октавия Ден, раздираемая между своей безнадежной привязанностью к этому красивому, но неприступному мальчику и восторженной дружбой к этой хорошенькой и нарядной девушке, следила с зоркой тревогой за лицом учителя.
Излишке говорить, что Гирам Мак-Кинстри в промежутках между охотой и войной с соседями был чрезвычайно доволен успехами дочери. Он даже заметил учителю, что громкое чтение Кресси дома содействует тому «спокойствию», в котором он так нуждается. Были даже слухи, что устная передача Кресси «размышлений в Уэстминстерском аббатстве» Аддисона и «обвинительного приговора над Уорреном Гастингсом» Борка, так обворожили его в один прекрасный вечер, что он пропустил случай повалить наземь один из межевых столбов Гаррисона.
Учитель разделял славу Кресси в глазах публики. Но хотя м-с Мак-Кинстри не изменила своего добродушного отношения к нему, но он с неприятным чувством сознавал, что она считает ученье дочери и интерес, который принимает в нем ее муж, за слабость, которая в конце концов может произвести вредное действие на характер и волю мужа и сделать его «бабою».
А когда м-р Мак-Кинстри был выбран одним из попечителей школы, а потому вынужден был якшаться с некоторыми восточными поселенцами, то ослабления старинной, резко очерченной, демаркационной линии между ними и «янками» внушали ей серьезные опасения даже на счет его здоровья.
– Старик совсем раскиснет, – говорила она, и в те вечера, как он должен был заседать в училищном совете, искала утешения в молитвенных собраниях южной баптистской церкви, на которых ее северные и восточные соседи, под нелестным прозвищем слуг «Ваала» и «Астарты», обыкновенно ниспровергались в прах, а храмы их опустошались.
Если успехи дяди Бена были медленнее, за то не менее удовлетворительны. Без всякого воображения и даже без энтузиазма, он брал упорным и настойчивым трудолюбием. Когда раздражительному и нетерпеливому Руперту Фильджи надоедало возиться с тупым и непонятливым учеником, то сам учитель, тронутый вспотевшим лбом и растерянным взглядом дяди Бена, часто посвящал остаток дня раскрытию для него тайн науки, давая ему списывать крупные прописи, даже водя его рукой по бумаге, как с ребенком. По временам очевидная неспособность дяди Бена напоминала ему о коварной догадке Руперта. Неужели он из любви в знанию терпел все эти мучения? Это трудно было совместить с тем, что Инджиан-Спринг знал об его прошлом и о его честолюбивых планах. Он был простым рудокопом, без всяких научных или технических познаний, без самого поверхностного знакомства с арифметикой и уменья кое-как нацарапать свое имя, и это было до сих пор вполне достаточно для его потребностей. И однако писанию он предавался с особенным рвением. Учитель нашел нужным однажды заметить ему:
– Если бы вы так же усердно копировали буквы прописи, то дело было бы лучше. Ваша подпись и без того разборчива.
– Но она не совсем в порядке, м-р Форд, – сказал дядя Бен, с недоверием поглядывая на свою подпись, – в ней чего-то недостает.
– Как так? Поглядите, все буквы на лицо: Добни – не очень четко, правда, но все буквы выведены, как следует.
– В том-то и дело, м-р Форд, что не все буквы на лицо. Я писал всегда Добни, чтобы выгадать время и чернила, а следует-то ведь писать Добиньи, – сказал дядя Бен, произнеся слово по складам.
– Но ведь тогда будет не Добни, а д'Обиньи.
– Да, именно.
– Это ваше имя?
– А то как же?
Учитель с сомнением поглядел на дядю Бена. Неужели это еще другая форма Добелльской иллюзии?
– Ваш отец был француз? – спросил он, наконец.
Дядя Бен помолчал, как бы стараясь припомнить это неважное обстоятельство.
– Нет.
– А ваш дед?
– Кажется, нет. По крайней мере по мне этого не видно.
– Кто были ваш отец или дед: вояжеры или трапперы, или уроженцы Канады?
– Они были из графства Пейк, в Миссури.
Учитель продолжал с сомнением глядеть на дядю Бена.
– Но ведь вас зовут Добни. Почему вы думаете, что ваше настоящее имя д'Обиньи?
– А потому, что оно так пишется на письмах, которые приходят ко мне из Штатов. Вот, поглядите.
Он стал рыться в карманах и в конце концов достал старый кошелек, а из него вытащил смятый конверт и, тщательно разгладив его, сравнил с своей подписью.
– Вот, поглядите. Видите… д'Обиньи.
Учитель все еще колебался. В сущности в этом не было ничего невозможного. Он припоминал другие случаи такого же превращения имен среди калифорнийской эмиграции. Но все же не мог удержаться, чтобы не заметить:
– Значит, вы находите, что имя д'Обиньи лучше, нежели Добни?
– А вы как думаете?
– Женщинам оно больше понравится. Ваша жена, если бы она у вас была, наверное предпочла бы, чтобы ее звали м-с д'Обиньи, а не Добни.
Это случайное замечание попало в цель. Дядя Бен внезапно покраснел до ушей.
– Я не думал об этом, – поспешно сказал он. – У меня была другая мысль. Я думал, что в деловых сношениях и денежных делах гораздо лучше, если ваше имя более внушительно. Если бы, например, я пожелал накупить акций какого-нибудь общества или стать его директором, то было бы согласнее с делом купить их на имя д'Обиньи.
М-р Форд слушал с некоторым нетерпеливым пренебрежением. Худо было уже то, что дядя Бен проявил способность к лганью, когда старался обморочить на счет своего первоначального образования, но выдавать себя за капиталиста ради того только, чтобы польстить своему ребяческому тщеславию – это было и жалко, и гадко.
Не было сомнения в том, что он лгал, говоря, что учился прежде в школе; вряд ли возможно, чтобы его звали действительно д'Обиньи и вполне очевидно – оставляя уже в стороне тот факт, что его знали, как беднейшего рудокопа, – что он лжет на счет акций. Подобно большинству логических резонеров, м-р Форд забывал, что люди могут быть нелогичны и непоследовательны, будучи искренними. Он отвернулся, не говоря ни слова, как бы желая этим показать, что он не желает более беседовать.
– На этих днях, – продолжал дядя Бен с тупой настойчивостью, – я вам кое-что сообщу.