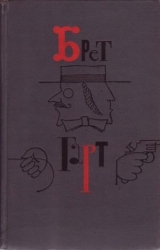
Текст книги "Брет Гарт. Том 5. Рассказы 1885-1897"
Автор книги: Фрэнсис Брет Гарт
Жанр:
Вестерны
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 37 страниц)
– Хорошая собака, – сказала она просто, с легким ударением на первом слове и вскочила в дилижанс.
Шестерка гнедых дружно взяла с места, великолепная зеленая с золотом карета помчалась по дороге, оставляя за собою облако рыжей пыли – ив пыли, до самой окраины поселка, огромными скачками несся вдогонку рыжий пес. Потом возвратился, притихший и отрезвевший.
После этого он дня два пропадал, но затем стало известно, что был он в Спринг Вэли – окружном городе, где жила мисс Престон, – и отлучку ему простили. Неделю спустя он снова исчез и на этот раз пропадал дольше, а потом из Сакраменто на имя жены нашего лавочника пришло трогательное послание.
«Будьте так добры, – писала мисс Цветик, – попросите кого‑нибудь из ваших молодых людей приехать сюда и забрать Хряща. Он славный пес, и я не против, пусть гуляет со мной по Спринг Вэли, там меня все знают; но здесь из‑за него всем бросаешься в глаза. Слишком он необыкновенного цвета! Я просто не знаю, какое платье надеть, чтобы гармонировало с ним. К розовому муслиновому он не идет, а мое прелестное коричневое из‑за него кажется гораздо бледнее. Вы же знаете, к оранжевому так трудно подобрать что‑нибудь подходящее».
Все жители нашего поселка собрались держать совет и не откладывая снарядили в Сакраменто депутацию выручать бедную девушку. Все мы были страшно злы на Хряща, но вот что странно, гнев наш умеряло другое чувство: теперь мы гордились рыжим псом! Пока до него никому, кроме нас, не было дела, мы не так уж ценили его незаурядные качества; но теперь в округе все чаще говорили: «Тот рыжий пес – знаете, что из поселка Змеиная гора», – и это непонятным образом нас возвышало, словно мы обладали неким четвероногим талисманом.
Один необычайный случай подтвердил, что так оно и есть. На перекрестке дорог соорудили новую церковь, и на ее торжественное открытие прибыла из Сан–Франциско важная духовная особа, чтобы произнести первую проповедь. Был учинен тщательный смотр всему наличному гардеробу Змеиной горы, произведен кое–какой удачный обмен – и несколько человек отрядили на воскресную службу. В белых штанах, фланелевых блузах и соломенных шляпах мы выглядели довольно живописно, и нас вполне можно было выставить в первых рядах в качестве «честных рудокопов».
Мы сидели по соседству с прехорошенькими девушками, которые охотно давали нам заглядывать в их молитвенники; вдыхали аромат свежих смолистых стружек и свежевыглаженных муслиновых платьев; а в раскрытые окна вливалось терпкое дыхание лесной чащи, и все мы, как и подобало случаю, прониклись кротостью и смирением. И вдруг кто‑то испуганно прошептал:
– Вы только поглядите на Хряща!
Мы оглянулись. Хрящ вошел в церковь и сперва по вполне простительной скромности и неведению поднялся на хоры, но сразу понял свою ошибку и теперь спокойно шел вдоль перил под изумленными взглядами прихожан. Дошел до конца, чуть помедлил и беззаботно посмотрел вниз. Для собаки, выросшей в горах, прыжок в каких‑нибудь пятнадцать футов – сущая безделица. Осторожно, расчетливо и в то же время с ленцой, с небрежным изяществом, словно бы (в переводе на человеческие понятия) заложив одну лапу в карман и управляясь только тремя, он прыгнул, бесшумно опустился прямо перед алтарем, трижды повернулся вокруг своей оси и уютно улегся.
Перед высокой особой (чьи губы, как нам показалось, тронула сдержанная улыбка) мигом предстали трое церковных старост; послышался торопливый шепот:
– Это их общий…
– Здешняя достопримечательность, знаете…
– Не хотелось бы задевать чувства местных жителей…
– Ну, разумеется, – тотчас отозвался высокий гость, и богослужение продолжалось.
Всего лишь месяцем раньше мы бы отреклись от Хряща; а теперь мы глядели чуточку свысока, ясно давая понять, что всякую обиду, нанесенную Хрящу, примем за личное оскорбление и тотчас единодушно покинем храм.
Впрочем, дальше все шло хорошо до той минуты, пока священнослужитель не взял с престола большую Библию и, держа ее перед собой обеими руками, направился мимо алтаря к кафедре. Тут Хрящ явственно зарычал. Священник остановился.
Мы, и только мы одни, мгновенно поняли, в чем дело. Формой и размером Библия походила на куски дерна, которыми мы обычно, развалясь на солнышке, забавы ради запускали в пса, чтобы поглядеть, как ловко он увертывается.
Мы затаили дыхание. Как тут быть? Первым нашелся наш предводитель Джеф Бриге, красавец парень с золотыми усами северного викинга и с кудрями Аполлона. Красота придавала ему уверенности, а самомнение делало его снисходительно любезным; он преспокойно встал и шагнул к алтарю.
– На вашем месте я бы малость обождал, сэр, – молвил он почтительно. – Сейчас он тихо–мирно выйдет отсюда, вот увидите.
– А в чем дело? – не без тревоги спросил священник.
– Он думает, сэр, вы вроде нас – ни с того ни с сего возьмете да и кинете в него книгой.
Лицо у священника стало озадаченное, но он не двигался и так и стоял с Библией в руках. Хрящ поднялся, прошел с десяток шагов по приделу, потом сорвался и исчез – будто рыжая молния мелькнула!
Упрочив таким образом свою славу, Хрящ скрылся на целую неделю. К концу недели мы получили учтивое послание от судьи Престона; собака совсем прижилась у него в доме, писал он; понятно, он не просит нас окончательно отказаться от наших общих хозяйских прав на столь ценное животное, но, может быть, мы разрешим оставить его в Спринг Вэли на неопределенный срок; и сам судья и его дочь, с которой Хряща соединяют узы старой дружбы, будут рады, если мы в любое время навестим своего любимца и сами убедимся, что ему живется недурно.
Боюсь, что столь искусно закинутая приманка и заставила нас в конце концов уступить. Правда, те, кто навещал Хряща, рассказывали чудеса; слушая их, мы только диву давались. Пес живет в роскоши, валяется на коврах гостиной и даже укладывается под письменным столом в кабинете у самого судьи, ночью спит на коврике за дверью спальни мисс Престон, днем полеживает на лужайке перед домом и от нечего делать ляскает зубами на мух.
– Он как был рыжий, так и остался, – рассказывал один из очевидцев. – А все равно его не узнать, даже не верится, как это мы швыряли в него для потехи дерном да грязью да глядели, как он отряхивается.
А теперь я вынужден поведать горькую истину, хоть и знаю, что мне не поверят – уж конечно, на меня ополчатся все любители собак и яростно залают все собаки, хранящие верность хозяевам со времен Улисса. Бесстыжий рыжий пес не только забыл нас, он просто не пожелал больше с нами знаться! Тех, кто являлся в дом судьи в городской одежде, он, бывало, еще соизволит заметить, да и то фыркает, будто презирает самое их существо, скрытое нарядной оболочкой. А остальных даже взглядом не удостаивал. Когда‑то, в редкие минуты нежности, мы дружески называли его Хрящиком – теперь он и на это не откликался. Думаю, кое–кого из молодых это обижало, и, однако, по необъяснимой слабости человеческой натуры, вся Змеиная гора стала относиться к нему куда уважительней. Впрочем, как раз когда он вовсе перестал обращать на нас внимание, в разговорах с посторонними мы начали отзываться о нем весьма бесцеремонно. Увы, мы даже всячески старались подчеркнуть, что он разжирел, стал неуклюж и неповоротлив: тем самым мы намекали, что выбор его был ошибочен и жизнь не удалась.
Год спустя он помер, в ореоле святости и благопристойности: утром его нашли на коврике за дверью мисс Престон, свернувшегося в клубок и уже окоченевшего. Нас об этом известили, и, так как наш поселок в ту пору процветал, мы попросили разрешения воздвигнуть на могиле надгробный камень. Но, когда понадобилось сочинить надпись, мы только и додумались повторить те два слова, которые когда‑то шепнула мисс Цветик и которые, вне всякого сомнения, обратили рыжего пса на путь истинный:
«Хорошая собака!»
МАТЬ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ

Хотя ей самой едва исполнилось девять лет, она была матерью, и довольно примерной матерью, пятерых детей. Двоих из них, близнецов, она называла «детьми мистера Эмплака», имея в виду весьма почтенного джентльмена, который жил в соседнем поселке и, смею думать, никогда в глаза не видал ни ее, ни их. Близнецы, как им и положено, ничем не отличались друг от друга (поскольку в прежней своей жизни были двумя кеглями) и ниже плеч в своих длинных балахонах выглядели как‑то странно, словно их начали делать да бросили; зато головы у них были крепкие и круглые, и очень многие открыто заявляли, что видят в этом несомненное сходство с их предполагаемым отцом. Остальными детьми были куклы разного пола, возраста и вида, но лишь о близнецах можно было определенно сказать, что это – ее собственное произведение. Помимо прочих своих достоинств, она была на редкость беспристрастной матерью и относилась к ним ко всем одинаково. «Дети Эмплака» – это была только примета, которая никаких преимуществ не давала.
Сама она росла без матери, с отцом, Робертом Фоуксом; он был работящий возница на почтовом тракте между Большим Поворотом и Рено, но при этом довольно беспомощный родитель. Ежедневно он пускался в путь в своем фургоне – и, если дочь не сидела неотлучно рядом с ним на козлах, нередко ее потомство оказывалось рассеянным вдоль всей этой дороги. Однако с помощью грубых, но добрых рук, уже привычных к обращению с ее детьми, семья опять собиралась вместе. Я хорошо помню, как Джим Картер ввалился в салун, прошагав по сугробам пять миль с одним из близнецов в кармане.
– Не грех бы нашей Мэри получше глядеть за детьми Эмплака, – проворчал он. – Я подобрал одного на снегу в миле за Большим Поворотом.
– Вот те на! – воскликнул случайный пассажир. – Я и не знал, что мистер Эмплак женат!
Джим хитро подмигнул нам, отхлебывая из стакана.
– Я и сам не знал, – проворчал он. – Нам отсюда не видать, чем там занимаются эти почтенные богомольные болтуны.
Расправившись таким образом с репутацией Эмплака, этот мошенник позднее, наедине с Мэри (или Мэй– ри, как она себя называла), постарался ее разжалобить и до тех пор расписывал, как мучился ее младенец в сугробе, как он из последних силенок звал: «Мэйри! Мэйри!» – пока на ее голубые глаза не навернулись слезы.
– Это тебе урок, —сказал под конец Джим Картер и проворно вытащил кеглю из кармана, – мне ведь пришлось влить в него чуть не кварту самого лучшего виски, чтобы он очухался.
Мэри не только поверила каждому его слову, но еще недели три держала злополучного Джулиана Эмплака в постели, и поговаривали, что после такого героического лечения он стал выпивать.
Ее многочисленное семейство разрослось всего лишь за два года после появления первого ребенка, приобретенного за приличную цену в Сакраменто неким мистером Уильямом Доддом, тоже почтовым возницей, и подаренного Мэри в день, когда ей исполнилось семь лет. Она назвала этого ребенка Бедолагой, быть может, кто знает, по–матерински провидя его будущую судьбу. Поначалу это была огромная кукла (мистер Додд за свои деньги желал получить побольше), однако время и, возможно, чрезмерная материнская забота исправили этот недостаток, и она довольно быстро сбавила в весе и лишилась некоторых не очень нужных частей тела. Потом, когда она упала под колеса фургона и по ней проехал целый обоз, она еще уменьшилась в размере, но больше всего пострадали у нее голова и плечи: румянец облупился и отслаивался толстыми пластами, так что бедняжку стало не узнать. Это продолжалось до тех пор, пока голова и плечи не оказались слишком малы даже для ее отощавшего тела, и никакие ухищрения малолетней модистки не могли скрыть это уродство – ни шаль, накрепко приколоченная гвоздиками, ни шляпка, которая никак не сидела на месте и все время сползала то на лоб, то на затылок. А в одно ужасное утро, после необдуманного купания, верх совсем отвалился, и прямо из позвоночника остались торчать два отвратительных железных стержня. Даже Мэри при всем своем богатом воображении не в силах была принять эти железки за голову. Попозже в тот же день перед кузницей Джека Роупера, что на Перекрестке, появилась заплаканная девчушка в передничке, таком же ярко–голубом, как и ее глаза, – она прижимала к груди свое обезображенное детище. Кузнец узнал ее и сразу все понял.
– А у тебя дома не найдется другой головы, завалящей какой‑нибудь? —сочувственно спросил он.
Мэри печально покачала головой. Детей у нее было много, но по отдельности рук, ног и прочего она не заводила.
– И совсем ничего подходящего нету? – участливо допытывался кузнец.
Глаза любящей мамаши наполнились слезами.
– Нет, ничего нету!
– А может, перевернуть ее вверх тормашками? – задумчиво продолжал Джек Роупер. Воображение истинного художника подсказало ему выход. – Из этих железок получатся отличные ноги. Смотри‑ка… – Он коснулся двух торчащих стержней и уже хотел было перевернуть куклу вверх ногами, но тут девочка испуганно, чисто по–женски ойкнула и поспешно удержала его бестактную руку.
– Вон как! —понимающе сказал Джек. —Тогда приходи завтра утром, и мы что‑нибудь придумаем.
Весь день он был задумчив, больше обычного злился на упрямых мулов, которых привели подковать, и даже кончил работу на час раньше, чтобы сходить к Большому Повороту и заглянуть в кузницу своего конкурента. А наутро полная надежды и тревоги мать семейства появилась на его пороге – и вскрикнула от восторга. Джек искусно приклепал к двум торчкам пустой чугунный шар, выломанный из перил какой‑то старой лестницы, и покрыл его красной огнеупорной краской. Румянец, конечно, получился несколько лихорадочный, и младенец все время норовил перекувырнуться, и ясно было, что другим куклам дорого обойдется соседство чугунной головы и жестких плеч, но ничто не могло омрачить радость Мэри при виде ее обновленного первенца. Даже совершенное отсутствие физиономии – не такой уж недостаток в семье, где черты лица столь непостоянны; зато всякий, кто мало–мальски знаком с законами эволюции, мог видеть, что дети Эмплака состоят в кровном родстве с круглоголовой Бедолагой. Мне кажется, на какое‑то время она даже стала любимицей Мэри. Приятно было посмотреть, как в летний день сидит она где‑нибудь на пеньке у дороги и, слегка покачиваясь, напевает заунывную колыбельную песню; остальные дети послушно расселись вокруг, а жесткая, бесчувственная голова Бедолаги крепко прижата к полному нежности сердечку. Не удивительно, что пчелы охотно подхватывали эту песню и сами сонно гудели ей в лад, а высоко над головой горный ветерок чуть покачивал густые макушки могучих сосен, и от этого (а может быть, и не от этого) солнечные зайчики вперемежку с тенями скользили по чугунному лицу, пока девочке, смотревшей на него со всей силой животворящей любви, не начинало казаться, что оно улыбается.
Остальные двое детей ничем особенно не отличались. Глориана была просто куском брезента с крыши фургона, скатанным в трубку и в двух местах перетянутым так, что получились шея и талия – жалкое подобие человека с грубо намалеванным чернилами лицом; ее смастерил отец, он же и окрестил ее, а Мэри произносила ее имя как два: Глори–Анна. И, наконец, Красавчик Джонни – подозревали, что он изображает некоего Джона Доремаса, молодого лавочника, который изредка угощал Мэри леденцами. Но Мэри никогда в этом не признавалась, и мы, люди тактичные, делали вид, что ничего не замечаем. Поначалу Красавчик Джонни был гипсовым бюстом – френологической моделью, которую для Мэри выпросили с витрины магазина в окружном городе; туловище она, очевидно, приделала сама. Не к добру она всегда наряжала эту куклу мальчиком, и из всего ее потомства он больше всех походил на человека. И правда, несмотря на то, что его лысую белую голову испещряли четкие надписи, он был совсем как живой. Иногда Мэри сажала его верхом где‑нибудь на ветке придорожного дерева, а потом забывала, и, говорят, завидев его, проезжие поспешно соскакивали с лошади, чтобы его рассмотреть, а возвращаясь в седло, задумчиво улыбались, и всем памятно, как Юба Билл, уступая настоятельной просьбе любопытных пассажиров, остановил почтовую карету и хмуро водворил Красавчика Джонни на козлы рядом с собой, а доехав до Большого Поворота, при всех вручил его Мэри, ужасно ее смутив, – никогда еще мы не видели, чтобы ее круглые загорелые щеки заливал такой яркий румянец. Может показаться странным, что, хотя ее все любили и все знали, какая она чадолюбивая мамаша, ей не надарили кучу настоящих, более приличных кукол, но очень скоро выяснилось, что восковые лица, закрывающиеся глаза и локоны из пакли вовсе ей не по душе, и она нарочно забывает дареных кукол в канавах или раздевает и наряжает в их платья своих несуразных любимцев. Вот почему строгий классический профиль Красавчика Джонни выглядывал из‑под модной девичьей соломенной шляпки, полностью скрывавшей его выдающиеся умственные способности, а на круглых головах близнецов Эмплака красовались дамские чепцы; известна даже попытка натянуть на чугунную голову Бедолаги парик из кудели. Куклы Мэри были ее собственным творением, и чем больше фантазии она в них вкладывала, тем больше к ним привязывалась. Возможно, кое–кому покажется странным, что при этом она то и дело забывала их в лесу или в канаве. Но Мэри полагалась на материнскую доброту Природы и вверяла своих детей Великой Матери так же свободно, как вверялась ей сама в своем сиротстве. И доверие это редко бывало обмануто. Крысы, мыши, улитки, дикие кошки, пантера и медведь никогда не трогали позабытых младенцев. Даже стихии относились к ним милостиво: один из деревянных размалеванных близнецов, погребенный под снегом на высоком холме, весной снова появился, как ни в чем не бывало, цел и невредим. Мы все тогда были пантеистами и свято верили Природе. А вот когда приходилось стать лицом к лицу с начатками цивилизации, тут Мэри было чего опасаться. Впрочем, когда коза Петси О Коннора решила попробовать, какова Бедолага на вкус, ей пришлось отступить, не досчитавшись трех передних зубов, а Томпсонов мул вышел из схватки с этим чугунноголовым чудищем, обломав копыто и растянув связки на задней ноге.
И все же то были райские денечки на дороге между Большим Поворотом и Рено, а потом пришли прогресс и процветание и – увы! —принесли с собой перемены. Начались разговоры, что Мэри, дескать, должна учиться, а мистер Эмплак, попечитель Даквилской школы (к счастью, он все еще не подозревал, что имя его поминают всуе), заявил, что бродячая жизнь Мэри – это позор для всего округа. Ведь она росла в невежестве, в ужасающем невежестве и знала лишь рыцарскую преданность, глубокую нежность, деликатность и отзывчивость грубых людей, ее окружавших, и свято верила лишь в Природу, безгранично милостивую к ней и ее детям. Конечно, не обошлось без горячих споров между холостыми парнями с дороги и немногочисленными семейными обитателями поселка, но прогресс и цивилизация, разумеется, взяли верх. Все решилось, когда в наших краях стали проводить железную дорогу. Роберту Фоуксу, назначенному десятником участка, дали понять, что его дочери непременно надо учиться. Но оставался еще роковой вопрос о ее семействе. С такой разноплеменной оравой ни одна школа на порог не пустит, а если ее детей просто–напросто выкинуть или предать торжественному сожжению, сердце Мэри будет разбито. Все спасла находчивость кузнеца Джека Роупера. Мэри разрешили взять с собой в школу одного ребенка, любого на выбор; остальных усыновят ее друзья, а она будет только навещать их каждую субботу вечером. Выбор был для нее жестоким испытанием; хорошо зная любовь Мэри к ее первенцу Бедолаге, мы ни за что не хотели ей мешать, но, когда она неожиданно выбрала Красавчика Джонни, даже самый неискушенный человек понял: вот они, первые проблески женского чутья, первая уступка правилам и приличиям нового для нее мира. Красавчик Джонни, бесспорно, выглядел пристойнее других, его шишковатый, расчерченный череп наводил на мысль о том, что он даже не чужд общему образованию. Приемные отцы ревностно исполняли свой долг. Даже годы спустя кузнец все еще, как святыню, хранил на самодельной полке у кровати чугунноголовую Бедолагу, и никто, кроме него и Мэри, так и не узнал о тайных волнующих свиданиях в первые дни разлуки. Однако о верности Мэри другим детям все же кое‑что стало известно. Рассказывали, как однажды субботним вечером, когда управляющий новой линией железной дороги сидел у себя в кабинете в Рено и вел деловую беседу с двумя членами правления, кто‑то осторожно постучал. И в дверях показалась полная нетерпения детская мордашка, голубые глаза и голубой фартук. К изумлению присутствующих, лицо управляющего неузнаваемо переменилось. Он ласково взял девочку за руку, подвел ее к своему столу, заваленному чертежами новой железнодорожной линии, выдвинул ящик и вынул оттуда большую кеглю, непонятно почему наряженную куклой. Оба джентльмена изумились еще больше, когда услышали странный разговор между управляющим и девочкой.
– Ей уже гораздо лучше, несмотря на скверную погоду, но я еще не рискую выпускать ее на улицу, – сказал управляющий, придирчиво оглядывая кеглю.
– Да, да! – живо откликнулась Мэри. – Вот и Красавчик Джонни по ночам ужасно кашляет. А Бедолага здорова. Я только что от нее.
– Вокруг много случаев скарлатины, – со сдержанной тревогой продолжал управляющий, – лишняя осторожность не помешает. Но завтра утром я все‑таки хочу прокатить ее по линии,
Глаза Мэри заблестели и наполнились слезами, как два голубых озерка. А потом – звук поцелуя, тихий смех, быстрый, пугливый взгляд в сторону любопытных незнакомцев, голубой фартук порхнул за дверь, и разговор оборвался. Она не забывала навестить ни одного из своих детей; лишь тряпичную малютку Глориану, которая обрела свой дом в лачуге Джима Картера на Перевале, слишком далеко, чтобы навещать ее ежедневно, Джим каждую субботу вечером привозил к Мэри, засунув спящую в переметную суму или галантно посадив впереди себя на луку седла. По воскресеньям Мэри устраивала торжественный смотр всем своим куклам, и всю следующую неделю воспоминание об этом скрашивало их разлуку.
Но настала такая суббота, а потом и воскресенье, когда Мэри не появилась, и на дороге узнали, что ее увезли в Сан–Франциско повидаться с теткой, только что приехавшей с Востока. Пустым и нерадостным было это воскресенье для наших парней, им очень не хватало привычной маленькой фигурки. Следующее воскресенье, а за ним и еще одно были и того хуже; а потом стало известно, что зловредная тетка полюбила Мэри и посылает ее в роскошную школу при женском монастыре в Санта–Клара, откуда, по слухам, девочки выходят уж до того благовоспитанные, что их не узнают даже собственные родители. Но мы‑то знали, что с нашей Мэри этого не случится, и письмо, которое пришло от нее в конце месяца, перед тем как ворота женского монастыря закрылись за голубым фартучком, утешило и успокоило наши истосковавшиеся сердца. В этом письме мы сразу узнали свою Мэри; она не обращалась ни к кому в отдельности, и, если бы не тетка, оно было бы сдано на почту незапечатанным и без адреса. Все письмо уместилось на одном листочке, который, не говоря ни слова, передал нам ее отец; однако, когда мы его прочли, нам все стало понятно, мы словно услыхали голос нашей далекой подружки:
«Домов во Фриско не счесть и женщин видимо–невидимо, а мулы и ослы неподкованные, и нигде ни одной кузницы не видать. Белок, кроликов, медведей и пантер тут вовсе и не знают, кругом одни улицы да воскресные школы. Джим Роупер, раз меня там нет, ты будь подобрее с Бедолагой и не сердись на нее, что у нее голова перевешивает, ты всегда сердишься, только это все неправда, меня даже зло берет. А у меня есть желтенькая канарейка и как поет, вы, верно, думаете, это овсянка, а это совсем даже не овсянка, я раньше таких не видала. Дорогой мистер Монтгомери, не держите Жулана Эмплака все время взаперти, ему это вредно. И не мажьте ему голову чернилами, а то вы все озоруете, знаю я вас! Красавчик Джонни, ты смотри слушайся приемного отца, а ты, Глори Анна, люби доброго Джимми Картера очень–очень, ведь он всегда катает тебя на лошади. Я каталась в коляске с одним офицером, который взаправду убивал индейцев. Скоро я вернусь домой, любящая вас, так что ведите себя хорошо, не балуйте».
Но приехала она только через три года, и письмо это было последним и единственным. Однако приемные отцы ее детей были верны своему слову, и, когда открылась новая линия железной дороги и они узнали, что Мэри вместе с отцом будет присутствовать на торжестве, они, не сговариваясь, все как один пришли на станцию, чтобы встретить свою старую подружку. Они выстроились вдоль платформы, бедняга Джек Роупер даже скособочился от тяжелого свертка, который был у него в левой руке. А потом из вагона выпорхнула юная особа, сияющая свежестью своих двенадцати лет, в ослепительном муслиновом платье, точно на картинке, хоть еще и коротеньком, в безупречных башмачках и перчатках, и подала белую ручку по очереди каждому из своих прежних друзей. Улыбка на этом лице, которого больше не касался загар, была самая очаровательная, ясные голубые глаза смотрели открыто и приветливо. И все же, когда она грациозно повернулась и ушла со своим отцом, лица у всех четверых приемных отцов были такие же красные и растерянные, как когда‑то у нее самой в тот день, когда Юба Билл при всех вручил ей забытого Красавчика Джонни.
– Неужели вы сдуру притащили с собой Бедолагу? – спросил Роупера Джек Монтгомери.
– Ну а как же! – ответил тот с принужденным смешком. – А вы?
Он уже заметил, что из кармана управляющего выглядывает кегля. Все четверо усмехнулись и молча разошлись.
Мэри, как и обещала, вернулась к ним, но пятеро детей так и не дождались своей матери.








