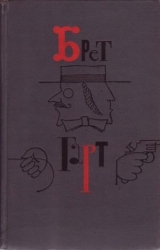
Текст книги "Брет Гарт. Том 5. Рассказы 1885-1897"
Автор книги: Фрэнсис Брет Гарт
Жанр:
Вестерны
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 37 страниц)
II
Молодой редактор смотрел на него с изумлением. Человек, с которым он только что говорил, отнюдь не произвел на него впечатления опасного субъекта, но если вспомнить, что рассказывал о нем сын, может, он и в самом деле способен убить.
– Послушайте, – поспешно сказал он, – сейчас его там нет. Почему бы вам не воспользоваться этим? Пойдите, помиритесь с вашей матерью и сестрами, чтобы они потом, когда он вернется, заступились за вас.
– Матери у меня нет; она умерла до того, как я сбежал. Моя сестренка Элмира совсем девочка, правда, с тех пор прошло четыре года, должно быть, она уже и выросла. А с братьями мы никогда особенно не ладили. Но вот я что думаю, может быть, вы сперва пойдете туда и пощупаете, как они там, а тогда уж и ввернете слово обо мне, так вот ненароком, как вы умеете, рассмешите их чем‑нибудь – ну, вы сами увидите, как к ним подойти, а я подожду здесь, возле дома, и вы просто кликнете меня. Понятно?
По–видимому, редактору теперь все было понятно. Как ни нелепо показалось бы ему такое предложение час тому назад, теперь он находил его вполне уместным, и оно даже пришлось ему по душе. Имя его было широко известно в округе, и вполне возможно, что его ходатайство увенчается успехом. Может быть, такая вера в него его спутника приятно щекотала его тщеславие; может быть, он поддался просто человеческому любопытству, и ему захотелось узнать, чем все это кончится; а может быть, этот беспомощный, рвущийся домой блудный сын внушал ему жалость, в которой он сам себе не хотел сознаться.
– Но вы должны мне хоть что‑то рассказать о себе, ну, что‑нибудь о вашей жизни, о ваших планах. Ведь они, конечно, будут расспрашивать.
– Нет, вряд ли. Но вы можете им сказать, что я человек обеспеченный, нажил себе кой–какой капитал в Австралии, не собираюсь им сесть на шею.
Редактор кивнул и, словно опасаясь, как бы здравый смысл не остудил его порыва, бегом бросился к дому.
Это был большой, внушительный дом, всем своим видом свидетельствовавший о благосостоянии Уилксов. Редактор решил повести атаку на эту крепость с самой ее слабой, податливой – женской – стороны, поэтому, когда на его стук дверь отворилась, он спросил, нельзя ли ему повидать мисс Элмиру Уилкс. Слуга–ирландец провел его в уютную гостиную, и в следующую минуту, шурша на ходу длинной широкой юбкой, в комнату стремительно вошла прехорошенькая девушка. Едва только она обратила на него пронзительный взгляд быстрых голубых глаз, редактор – неплохой знаток женщин – догадался, что она ждала кого‑то другого; еще взгляд – и он понял, что она отчаянная кокетка и никогда не упустит случая пококетничать. Это, во всяком случае, было ему на руку. Подстрекаемый ее лукавым взглядом и необычностью положения, он рассказал ей, как обстоит дело, в таком непринужденном и забавно–шутливом тоне, что вполне оправдал глубокую веру спутника в его обаяние. Но даже и при всей своей несколько циничной развязности он был как‑то озадачен тем, как отнеслась девушка к его рассказу. Он ожидал взрыва негодования или, может быть, даже сурового осуждения этого человека, который уж и ему самому начал казаться каким‑то сбившимся с пути, жалким отверженцем, но он был поражен полнейшей безучастностью, совершенно откровенным, невозмутимым, жестоким равнодушием, с каким она приняла известие о его возвращении. Выслушав до конца скорей самого рассказчика, чем его рассказ, она томным голосом позвала из соседней комнаты своих братьев.
– Вот этот джентльмен, мистер Грей из «Аргуса», встретился случайно с Джимом. Джим намерен явиться сюда и повидать отца.
Оба брата уставились на Грея, потом слегка пожали плечами с тем же полным отсутствием интереса или какого‑либо братского сочувствия и ничего не сказали.
– Минутку, – чуть–чуть горячась, сказал Грей. – Я не собираюсь выведывать ваши семейные тайны, но, может быть, вы все‑таки скажете мне, существует ли какая‑нибудь важная причина, почему ему нельзя сюда прийти? Ну, может быть, какой‑нибудь позорный поступок – непростительное поведение или, скажем, даже злоумышленная выходка – словом, нечто такое, что не допускает возможности его возвращения под родительский кров?
Все трое переглянулись с каким‑то скучливым недоумением, которое тут же сменилось рассеянной улыбкой.
– Нет–нет, – ответили они все сразу, в один голос. – Нет, но только…
– Ну что только? – нетерпеливо переспросил Грей.
– Папаша просто не переносит его.
– Хуже всякой отравы, – с улыбкой протянула Элмира.
Молодой редактор, чуть–чуть вспыхнув, поднялся с места..
– Послушайте, – сказала девушка, и ямки так и заиграли у нее на щеках – она наблюдала за ним с явным любопытством, словно подозревая в этом его интересе к ее брату какое‑то искусное притворство, новую манеру ухаживать. – Папаша только что пошел в загон к овцам и вернется не раньше, чем через час. Вы можете привести сюда вашего приятеля.
– А может быть, ему что‑нибудь надо? Может, он обнищал совсем… или что‑нибудь с ним случилось... – с опаской прибавил один из братьев.
Грей поспешил их уверить, что Джим вполне обеспеченный человек, и даже прибавил кой‑что от себя насчет капитала в Австралии. Это их, по–видимому, успокоило, но никакого интереса они не проявили.
– Подите позовите его, – сказала юная чародейка,, кокетливо вертясь около Грея и стреляя глазками, – да смотрите, приходите сами.
Грей секунду поколебался и затем вышел на темное крыльцо. Съежившаяся, намокшая фигура вышла из‑за деревьев. Это был Джим.
– Ваша сестра и братья зовут вас, – коротко и быстро сказал Грей, не желая вдаваться в подробности. – Он вернется не раньше, чем через час. Но я вам советую не терять времени, а постараться расположить к себе сестру.
Он уже хотел было отступить, чтобы тот вошел один, но Джим умоляюще вцепился в его руку, и Грей вынужден был вернуться вместе с ним. Он заметил, что Джим часто и тяжело дышит.
Те трое слегка повернулись к своему брату, но не выказали готовности пожать ему руку, и он не пытался этого сделать. Он сел боком на стул, не дожидаясь, чтобы ему предложили.
– Старый дом‑то сгорел! – сказал он, вытирая губы и проводя носовым платком по мокрым волосам.
Так как он ни к кому в частности не адресовался, то прошло несколько секунд, прежде чем старший брат вымолвил:
– Да.
– А Элмира выросла.
Опять никто не счел нужным ответить, а Элмира лукаво покосилась на молодого редактора, словно дожидаясь, что он прибавит: и похорошела.
– Ну как твои дела, ничего? – пытаясь поддержать разговор, спросил один из братьев.
– Да, ничего, – ответил Джим.
И опять наступила пауза.
Даже словоохотливый Грей сидел, словно зачарованный этим гнетущим молчанием, и чувствовал себя не в силах его нарушить.
– А старый колодец, так и остался стоять, – сказал Джим, снова вытирая губы.
– Это куда папаша тебя чуть не спихнул за то, что ты ему перечил, – ввернул младший брат.
Мистер Грей изумленно, но вместе с тем с чувством облегчения посмотрел на Джима, когда тот громко захохотал, похлопывая себя по коленкам.
– Да правда, как прошлое‑то вспоминается!
– И то старое ореховое дерево тоже стоит, – живо подхватила ясноглазая Элмира, —помнишь, как ты на него вскарабкался, когда на тебя собак спустили. Вмиг на самый верх залез!
Джим снова громко захохотал и затряс головой.
– Да, старый орех! Вот ведь и ты помнишь, Элмира! – с восхищением сказал он.
– А помнишь Делию Шорт? —продолжала Элмира, польщенная его восхищенным тоном и, может быть, втайне гордясь необыкновенным вниманием, с каким молодой редактор слушал эти приятные воспоминания. – Помнишь, как ты по ней с ума сходил; мы всегда считали, что это ты из‑за нее свихнулся, когда ты из дому бежал. Ты так за ней увивался, а она‑то, оказывается, уже в это время была тайно обвенчана с твоим приятелем Джо Стэси. Вот уж как тогда все потешались, чего только о вас не рассказывали! А ты‑то воображал, что она за тебя пойдет! Вот твой новый друг, – с лукавой улыбкой в сторону Грея, – который всегда всех в газете протаскивает, мог бы это так расписать!
Джим опять захохотал громче всех и потер себе губы. Грей только криво усмехнулся и подошел к окну.
– Вы говорили, ваш отец вернется через час? – сказал он, обернувшись к старшему брату.
– Да, если он только не зайдет к Уотсону.
– А где это? – вдруг заинтересовался Джим.
Грей с удивлением заметил, что у него как‑то сразу
изменился голос или, вернее, что он первый раз за все это время заговорил естественным тоном.
– Да тут близко, только мост перейти, – пояснил брат. – Если он туда зашел, он раньше десяти не вернется.
Джим поспешно схватил свой плащ, шляпу и, направляясь в переднюю, сказал на ходу:
– Я, пожалуй, пойду прогуляюсь немножко, пока он не пришел.
Никто из родных не пошевельнулся и не сделал попытки его удержать.
Грей тут же очутился рядом с ним.
– Я иду с вами, – сказал он.
– Нет, – с какой‑то странной настойчивостью произнес Джим. – Вы оставайтесь здесь, разговорите их, пусть себе посмеются. Ведь они все это для вас старались. Элмира только из‑за вас так развеселилась.
Видя, что его не уговорить, Грей мрачно вернулся в гостиную; но, проходя мимо окна в передней, он не без удивления увидел, как Джим, выйдя из дома, бросился бежать сломя голову куда‑то в темноту.
Может быть, его это несколько встревожило, а может быть, он все еще находился под впечатлением недавней уютной беседы, но он без всякого воодушевления отвечал на задорные попытки хорошенькой Элмиры втянуть его в разговор, и его очень скоро оставили одного у камина. Прошло каких‑нибудь десять минут, и он уже жалел, что пришел сюда; через полчаса он уже начал подумывать, не лучше ли ему уйти и как‑нибудь одному добраться до Ключей, а когда он обнаружил, что сидит уже целый час, а Джима все нет, ему стало не по себе, несмотря на полнейшее равнодушие хозяев дома.
Вдруг он услышал, как кто‑то затопал по крыльцу, затем из передней послышались невнятные восклицания и голоса обоих братьев.
– Что с вами, папаша? Что случилось? Где это вы так вымокли? Прямо будто из воды вылезли!
Дверь в гостиную распахнулась, и в комнату ворвались столбы пара и мокрая, словно дымящаяся фигура старика, которого Грей встретил на дороге, а за ним следом оба его сына.
Старик, по–видимому, был вне себя, но не оттого, что он пострадал, – он был вне себя от ярости. Крепкий, рослый, выше обоих своих сыновей, он сбросил с себя на ходу мокрый сюртук и жилет и подошел к камину. Не обращая ни малейшего внимания на присутствие постороннего человека, он круто повернулся лицом к сыновьям.
– Вылез из воды! Да! А мог бы и не вылезти. Форк из берегов вышел, Уотсона затопило, и мост снесло. Я в темноте ступил здесь на конец доски и полетел головой вниз, а тут глубина футов двадцать будет. Пытался выбраться, а течение против; два раза с головой под воду уходил и вот уже на третий раз чувствую, совсем тону, вдруг кто‑то меня сзади за шиворот схватил и плечом подпер – вот так и поплыл со мной к берегу! Я кое– как на ноги поднялся и говорю: «Я вашего лица не вижу и не знаю, кто вы такой, но вы, – говорю, – мужественный, благородный человек, за это могу поручиться», – и протягиваю ему руку. А он как схватит мою руку. «Ну вот, – говорит, – мы и квиты», – и тут же его и след простыл. И кто же вы думаете это был? – грозно уставившись им в лица и повышая голос чуть ли не до крика, продолжал старик. – Эта подлая собака, негодник– ваш братец Джим! Паршивец Джим, которого я пять лет назад вышвырнул из дому, приполз обратно, пробрался тайком, – подумать, через столько лет, – чтобы надсмеяться над сединами отца. А вы‑то, боже мой, вы тогда еще осмелились думать, что я слишком' жесток к нему.
На другой день с утра ярко светило солнце, когда молодой редактор остановил дилижанс в теперь уже совсем высохшей ложбине. Взбираясь на верхнее сиденье рядом с кучером, он почувствовал, как кто‑то схватил его за локоть из окна кареты. Он взглянул вниз и увидел Джима.
– А славно мы поболтали вчера вечерком, вспомнили прошлое, ведь правда? – оживленно заговорил блудный сын.
– Д–да, но… а куда же вы теперь направляетесь?
– Думаю обратно, в Австралию. Но приятно было вот так невзначай заглянуть еще раз в родное гнездо.
– Оно, конечно, – сказал редактор, ухватившись за окно и наполовину повиснув в воздухе, к явному нетерпению Юбы Билла, – но… скажите… в самом деле, вы– то сами, вы правда довольны?
Рука Джима стиснула локоть молодого редактора.
– Да! – бодро сказал он. Но лица его не было видно, он отвернулся.
Брет Гарт
Чу-Чу
Думаю, даже самый заядлый любитель лошадей, этих «полезных и благородных животных», не станет утверждать, что им свойственны такие качества, как доброта и отзывчивость, и к тому же безграничная преданность хозяину. Существа, которые не смотрят вам прямо в глаза, а только поглядывают искоса, со страхом и недоверием или примериваясь, куда бы получше вас лягнуть; существа, которые не умеют отвечать на ласку и чаще всего выражают свои чувства презрительным вздергиванием головы, – эти существа, вероятно, и могут быть названы «полезными» и «благородными», но вряд ли они делают жизнь веселее. Я мог бы пойти гораздо дальше и заявить, что из всех домашних любимцев, которых знает человечество, лошади одни (за исключением только, пожалуй, золотых рыбок) способны вызывать совершенно безответную страсть. Считаю эти предварительные замечания необходимыми для того, чтобы доказать, что моя безнадежная любовь к Чу-Чу не была какой-то индивидуальной аномалией. Спешу отметить, что вдобавок ко всем чертам характера, свойственным лошадиному роду в целом, Чу-Чу отличалась еще и строптивостью, присущей ее ветреному полу.
Я взял ее из грязи – она уныло месила ее своими ногами, привязанная к задку переселенческого фургона. Это была юная и необъезженная лошадка – она успела уже стряхнуть со своей спины всех в караване, кто ни пытался ее оседлать, и, хотя была вся покрыта пылью, все же видно было, что масти она удивительно красивой, а таких огромных блестящих глаз я в своей жизни никогда не видел. Последние служили ей, по-моему, исключи-тельно для украшения – она не смотрела, а принюхивалась, поводила ушами, даже приподнимала, словно пробуя что-то, тонкую переднюю ногу. Правда, в первую нашу встречу она бросила мне кокетливый взгляд – так мне по крайней мере показалось, – впрочем, поскольку ее хозяин почему-то в эту минуту крикнул: «Берегитесь!» – я не берусь этого утверждать. Знаю только, что в результате переговоров, полных значительных недомолвок, и после того, как значительная сумма денег перешла из одних рук в другие, я остался один на дороге, глядя вслед удаляющемуся фургону, – в руках у меня был конец тридцатифутовой риаты [5]5
Риата – длинная веревочная уздечка
[Закрыть] , к которой была привязана Чу-Чу.
Я слегка потянул за свой конец и нерешительно шагнул к ней. Тогда она с самым презрительным видом тронулась с места и, натянув повод до предела, закружила вокруг меня. Я стоял и с восхищением следил за ее свободными движениями, не думая о том, что надо бы поворачиваться вслед за нею, – и спохватился, лишь когда она обмотала вокруг меня почти всю риату. Никогда не забуду, как страшно она удивилась, обнаружив, что подошла ко мне, почти вплотную, – от удивления она чуть не сбила меня с ног. Она принялась изо всех сил тянуть повод, так что ее узкая морда и красиво изогнутая шея напряглись, словно струна, а потом вдруг успокоилась и снизошла до того, что покорно последовала за мной, – правда, шла она при этом как-то боком, то справа от меня, то слева. Но даже и тогда она то и дело вспоминала о моей отвратительной близости и снова начинала биться в истерике. При этом на меня она ни разу и не взглянула. Она смотрела на риату, пренебрежительно обнюхивала ее, своим изящным копытцем пробовала камешки, лежащие возле моих ног, увидав мои следы на влажном песке, словно Робинзон Крузо, с ужасом кидалась в сторону, но на меня не обращала ни малейшего внимания. Только остановится, задумчиво опустив голову и словно говоря: «Ну да, тут есть поблизости что-то странное, – не знаю, животное это, растение или ископаемое, – не пойму что-то, но съесть его нельзя, и мне оно противно и омерзительно».
Добравшись до своего дома на окраине, я решил, прежде чем отвести Чу-Чу в загон, зайти в комнаты и сообщить домашним о своем приобретении; я привязал ее к одинокому платану на перекрестке двух довольно людных улиц. Я пробыл в доме очень недолго, как вдруг услышал шум и крики и, выскочив на дорогу, увидел, что Чу-Чу своей риатой прочно прикрутила двух моих соседей к дереву, где они и стояли, подобно ранним христианским мученикам. Освободив их, я узнал, что, привлеченные красотой и изяществом Чу-Чу, они приблизились к ней, желая выразить ей свое восхищение, на что она ответила известным уже мне круговращением, приведшим к такому печальному исходу. Осторожно, стараясь держаться подальше от коварной риаты, отвел я ее к загону, где ворота были уже предусмотрительно растворены. Хотя ворота были настолько широки, что в них без труда прошел бы полк конницы, она притворилась, что не замечает этого, и, входя, сбила часть ограды. Поначалу она отказывалась войти в стойло, но, внимательно исследовав его копытами, с притворной покорностью потянула ноздрями, снизошла – не бросив на него ни единого взгляда – до овса, насыпанного в ясли, и была торжественно водворена на место. Все это время она решительно игнорировала мое присутствие. Я стоял, глядя на нее, как вдруг она перестала есть – задумчивость снова овладела ею.
«Нет, я не ошиблась, это мерзкое существо снова здесь», – казалось, подумала она и содрогнулась при этой мысли.
Тогда я решил рассказать о моем безответном чувстве к Чу-Чу одному из соседей, который считался большим знатоком лошадей, особенно той полудикой породы, к которой принадлежала Чу-Чу. Он поразил меня тем, что облокотился о стойло, где она, не обращая, как всегда, на нас никакого внимания, спокойно жевала овес, и осмелился погладить ее челочку, которая кокетливо вилась над прелестной белой звездой у нее на лбу.
– Понимаете, капитан, – сказал он, небрежно изогнувшись, – лошади – что твои женщины! Последнее это дело с ними робеть или мяться, тут нужна решительность, этакая небрежная фамильярность, спокойная, но твердая рука, чтоб она видела, кто здесь хозяин. Ну, вот, хотя бы так…
Мы так никогда и не узнали, как это случилось; но, когда я поднял своего соседа с порога, где он лежал среди щепок, отлетевших от перекладины стойла, весь обсыпанный овсом, каким-то таинственным образом попавшим ему даже в волосы и карманы, Чу-Чу стояла к нам задом, внимательно разглядывая свои передние ноги, в то время как задние ее ноги почему-то находились в соседнем стойле. В конюшне сосед толковал о возмещении убытков, а выйдя на свежий воздух, заговорил о физическом увечье. Но тут Чу-Чу каким-то чудом повернулась, и сосед поторопился удалиться, схватив свою шляпу с оторванными полями и так и не закончив начатой фразы.
Следующим моим посредником был Энрикес Сальтильо – молодой человек моего возраста и брат Консуэло Сальтильо, которую я обожал.
Мы твердо верили, что благодаря своему испанскому происхождению он сможет лучше понять нрав Чу-Чу (она-то на добрую половину была испанкой), и я даже смутно надеялся, что по языку и выговору она распознает в нем родную душу. Впрочем, тут было одно затруднение, ибо он предпочитал говорить на своем удивительном английском наречии, соединявшем кастильскую изысканность с тем, что представлялось ему настоящим калифорнийским жаргоном.
– Насчет этой кобылки я могу вас уверить, что она – заметьте это себе накрепко – совсем не мексиканский мустанг! О, нет! Свои сапоги вы можете смело ставить – и не проиграете! Она кастильских кровей – разразите меня громом, но поверьте мне! Я сам буду изучать и надзирать ее в разное время в стойле, я прослежу ее буйства и раскрою их причину. А если она взыграется, я приближусь к ней и усмирю ее. Будьте безмятежны, мой друг! Когда пройдет несколько дней, многое изменится, и она станет как другая. Доверьтесь дядюшке Энрикесу! Вы меня поняли? Все будет в лучшем виде, и гусь повиснет в небе!
На следующий день он спокойно «надзирал» ее, зажав сигарету между двумя пожелтевшими от никотина пальцами, – она выразительно чихнула, но, впрочем, прислушалась к испанской образности его речи с некоторым даже снисхождением. Однако, по-моему, она не удостоила его ни единым взглядом.
Напрасно он клялся ей, что она самая «дражайшая» и самая «крошечная» из всех его «дражайших крошек», напрасно называл ее своей «святой покровительницей», заверяя, что душа его ликует, когда он молится ей, она принимала все его комплименты, не отводя глаз от кормушки. Истощив свой запас ласкательных имен, он пополнил его несколькими шутливыми и смелыми находками, но она все стояла с низко опущенной головой, словно вдумываясь в его слова. Он провозгласил, что это уже достижение, если вспомнить о ее прежних выходках. Возможно, во мне заговорила ревность, но мне показалось, будто в эту минуту она думала: «Боже мой! Неужели их уже двое?»
– Мужайтесь, мой друг! Наберитесь терпения, – говорил он, медленно идя вместе со мной к выходу. – Эта кобылка молода, она еще не сформировалась как личность. Завтра, в более благоприятное время, я ее потрублю по холке (у меня есть все основания предполагать, что Энрикес хотел сказать «потреплю»), и тогда посмотрим. Это так же просто, как упасть с бревна. Немного сладких речей – на них-то ваш друг Энрикес такой мастер, – дватри шлепка по шее, и все становится на свои места. Вы встаете с правильной ноги! Гоп-ля! Но не будем предугадывать это событие: чем больше торопишься, тем меньше ускорения.
Эти его слова явно не расходились с делом – он стоял в двух шагах от порога и не торопился выходить из конюшни.
– Пошли! – сказал я.
– Простите, – отвечал он с изысканным поклоном, – я выйду после вас, ведь конюшня ваша.
– Да ну, идемте же! – воскликнул я нетерпеливо. К моему удивлению, он внезапно скрылся в конюшне.
Через мгновение он вновь появился на пороге.
– Пардон, но я сдержан! Клянусь богом, в эту самую минуту эта лошадь хватает меня своими зубами за фалды… Она желает, чтобы я остался! Мне кажется… – тут он опять пропал, – что… – он снова появился – … что наш эксперимент удачен! Она отвечает лаской. Она, клянусь богом, от меня без ума! Это любовь!.. – Тут Чу-Чу потянула сильнее, и он исчез. – Но… – он с торжеством возвратился, оставив у нее в зубах добрую половину своего костюма, – … но я буду жестокосердным!
На следующий же день мой доблестный друг, ничуть не смущаясь своей неудачей, явился ко мне в полном облачении объездчика, неся в руках мексиканское седло. Тяжеленные кожаные штаны с разрезами до колен, окаймленные литыми пуговицами, огромное плоское сомбреро и короткая бархатная куртка, стоящая колом от покрывавшей ее вышивки, казалось, пригибали его к земле, и все же меня гораздо больше занимало огромное седло и прочее снаряжение, предназначенное для моей изящной
Чу-Чу. Мне было совершенно ясно, что оно скроет прекрасные линии и изгибы ее стройного тела и что оно слишком тяжело для нее; понимал я также и то, что она будет изо всех сил сопротивляться. Однако, когда ее вывели из конюшни и ловко набросили на нее седло, она, к великому моему удивлению, оставалась совершенно безучастной.
Неужто та небольшая толика испанской крови, которая досталась ей в наследство от ее отдаленных родичей, обрадовалась этому могучему объятию? Она не оглянулась, не расширила ноздри. Но стоило Энрикесу потянуть подпругу, как случилось нечто странное. На наших глазах Чу-Чу раздула свое брюхо чуть ли не вдвое – чем больше он затягивал, тем больше она раздувалась. Мне стало стыдно за нее. Но Энрикес и глазом не моргнул. Он улыбнулся и спокойно погладил свои редкие усы.
– О, это всегда так! Ее бабушка вела себя точно так же! Даже когда седлаешь благородных кастильцев, они раздуваются, словно воздушный шар. Это у них такой фокус… Их маленькая игра… Поверьте мне… Но только зачем?
Я не отвечал, ибо в этот самый момент я с удивлением увидел, что седло медленно соскользнуло Чу-Чу на живот, а стан ее принял, словно по волшебству, свои прежние стройные очертания. Энрикес глянул, приподнял плечи, пожал ими и с улыбкой промолвил:
– Ну вот, видите!
Когда подпруга была наконец закреплена (неутомимый Энрикес подтянул ее еще разок-другой), мне показалось, что Чу-Чу втайне порадовалась этому, – известно ведь, что слабый пол любит тесную шнуровку. Она глубоко и, как мне показалось, удовлетворенно вздохнула, изогнула шею, очевидно, для того, чтобы полюбоваться своей фигурой. Энрикес при этом отшатнулся в сторону, – чтобы не помешать ей, несомненно. Затем наступил момент, которого я так страшился. Энрикес положил руку Чу-Чу на холку, внезапно приостановился, с подчеркнутой учтивостью снял шляпу и повел ею в направлении седла.
– Надеюсь, вы окажете мне честь быть первым… Я засмеялся и покачал головой.
– Понимаю, – сказал Энрикес глубокомысленно. – В два по часам вы должны быть на погребении тетушки, которая скончалась. Вы должны встретиться со своим маклером, который купил вам пятьдесят акций, вы должны увидеться с ним сию же минуту, а не то вы погибли. Вы освобождаетесь… внимание! Джентльмены, пока не поздно, заключайте пари! Оркестр уже играет! Алле, гоп! И быстрым движением отважный юноша вскочил в седло. К величайшему нашему удивлению, Чу-Чу не дрогнула. Гордо выпрямившись, Энрикес стоял в стременах, словно юный Дон Кихот, оседлавший своего сонливого Росинанта [6]6
Дон Кихот – герой романа испанского писателя Сервантеса (1547 – 1616) «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Имя Дон Кихота стало нарицательным для обозначения человека, чье благородство, великодушие и готовность на подвиги вступают в трагические противоречия с действительностью. Росинант – имя лошади Дон Кихота
[Закрыть], – крылья седла, краги, гигантские шпоры совершенно скрыли благородные пропорции Чу-Чу. Она закрыла глаза, казалось, она засыпает. Мы были страшно раздосадованы. Куда же это годится? Энрикес тихонько шевельнул поводьями. Чу-Чу медленно тронулась с места, затем остановилась, очевидно, погрузившись в размышления.
– Приблизьтесь к ней с той стороны. Я осторожно приблизился. Внезапно она взвилась в воздух и с силой опустилась на прямые, как палки, ноги. За этим последовала серия рывков по всему выгону – их даже прыжками нельзя было назвать, – скорее они напоминали движения ракеты. А то, что проделывал сейчас несчастный Энрикес, никак невозможно было назвать верховой ездой. Он появлялся то над головой у Чу-Чу, то где-то у хвоста, то у шеи, а то и просто в воздухе – где угодно, но только не в седле. Его напружившиеся ноги, правда, безошибочно находили стремена, послушно вторя резким скачкам лошади. К тому же сам всадник вместе со своим седлом и всей сбруей был таким несоразмерно громоздким по сравнению с Чу-Чу, что временами казалось, будто это он каким-то сверхъестественным усилием приподнимает ее в воздух и заставляет проделывать все эти фокусы. Они двигались прямо на меня – бешеный, взметающийся, рвущийся клубок, в котором изредка мелькали то копыта, то шпоры; и разобрать, где из них кто, было совершенно невозможно, как невозможно было отличить, когда прыгает Чу-Чу, а когда – Энрикес. Наконец Чу-Чу положила всему этому конец – она устремилась к стоящему на краю участка дубу, низко склонившему свои ветви над землей. Через несколько мгновений она показалась из-за дуба, но уже без Энрикеса в седле! Я нашел своего доблестного друга на дереве. Прочно вклинившись в развилину могучей ветви, он улыбался все с той же уверенностью в собственных силах, а во рту его торчала неизменная сигара. Увидев меня, он впервые за это утро вынул ее изо рта и, свесив вниз ноги и удобно устроившись на ветке, одним мягким, но решительным жестом отмел все мои тревоги и волнения.
– Будьте безмятежны, мой друг! Это не в счет! Я победил – вы наблюдали, – но почему? Я ни разу – ни одного разу – не уронил себя на землю! Натурально, она разочаровалась! Она желала меня повергнуть! Но я ее прибрал к рукам с молодых копыт. Ваш дядюшка Энри… – тут он с ангельской улыбкой подмигнул мне, – хитер, как муха. С ним шутки плохи. У него стеклянный взор! Поверьте мне!.. Итак, смотрите! Вот он я! Алле, гоп!
И он легко спрыгнул на землю. Чу-Чу, стоявшая неподалеку настороже, не смогла скрыть своего удивления. Она энергично взбрыкнула задними ногами и взвилась в воздух с такой силой, что стремена взлетели высоко над седлом, а затем поскакала в конюшню странными заячьими прыжками, предусмотрительно избавившись от седла, грохнув им о дверной косяк.
– Вы наблюдаете, – спокойно заметил Энрикес, – ей хотелось бы сделать это со мной. Но случай не представился, и она недовольна. Что вы на это скажете?
Спустя два дня он снова попытался объездить ее – результат был все тот же, и он принял его с тем же героическим благодушием. Так как мы по определенным соображениям не рвались упражняться на открытой посторонним взорам дороге, а удалить дерево из загона было невозможно, пришлось покориться неизбежному. На следующий день в седло сел я. Мне пришлось претерпеть все то же, что выпало на долю Энрикеса, с добавлением кое-каких личных ощущений: мне казалось, что меня швырнули из окна трехэтажного дома прямо на стоящую внизу конторскую табуретку, а для разнообразия выстрелили мною куда-то через забор. Обнаружив, что Чу-Чу не сопровождала меня в этом полете, я поднял глаза и увидел стоящего подле меня Энрикеса.
– Более чем когда-либо необходимо, чтобы мы проделали это снова, – сказал он торжественно, помогая мне подняться на ноги. – Мужайтесь, мой доблестный генерал… Бог и свобода – вот наш боевой клич! Снова в прорыв! В атаку, мой друг, в атаку! Идемте же, дон Стэнли! Вот так!
С этими словами он помог мне взгромоздиться в седло; и это немедленно возымело то же действие, что поворот пресловутого колышка на волшебного коня из арабских сказок: Чу-Чу взвилась в воздух. На этот раз она приземлилась у раскрытого окна кухни, и я с необычайной легкостью взлетел на буфет. Неутомимый Энрикес последовал за мной.
– Может быть, хватит? – спросил я робко.
– Вы делаете успехи! – ответил он радостно. – Вы не на земле, и это – самое главное! Нужно делать не одну, но тысячу попыток! Ха-ха! Идите и побеждайте! Никогда не умирайте и не говорите о смерти! Вперед! В атаку! Гоп-ля!
К счастью, на этот раз мне удалось сцепить колесики шпор у Чу-Чу под брюхом, и она не смогла выбросить меня из седла.
По-видимому, сделав несколько прыжков, она поняла это, после чего, к величайшему моему изумлению, внезапно легла на землю и спокойно перекатилась через меня. В результате шпоры мои расцепились – она же, не поднимаясь на ноги, выпрямилась, повернула свою прелестную голову и взглянула мне прямо в глаза. (Я все еще сидел в седле.) Я почувствовал, что краснею! Но тут рядом раздался голос Энрикеса:








