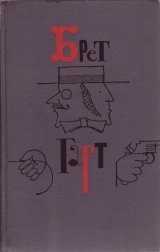
Текст книги "Брет Гарт. Том 4"
Автор книги: Фрэнсис Брет Гарт
Жанр:
Вестерны
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 39 страниц)
Он отвернулся, не говоря ни слова, но ясно показывая, что не желает больше ничего слышать.
– Я вот как-нибудь расскажу вам тут кое-что, – упрямо бубнил дядя Бен.
– Советую вам оставить эту тему и заняться уроком, – довольно резко сказал учитель.
– И то правильно, – поспешно согласился дядя Бен, словно весь прячась за румянцем смущения. – Уроки – это, братцы, первое дело, без них никуда.
И он снова сжал в пальцах перо и, старательно растопырив локти, пригнулся к столу. Но то ли учитель его слишком резко оборвал, то ли голова его все еще занята была темой прерванного разговора, только дело у него явно не шло. Он долго и тщательно чистил перо, подойдя к окну, поближе к свету, и время от времени принимался насвистывать с удручающей притворной веселостью. Один раз даже запел себе под нос, видимо, в связи с только что происшедшим разговором: «Во-от, та-ак… уроки, брат, первое де-ело»…
Этот неподобающе легкомысленный распев, видимо, пришелся ему очень по душе, ибо он и еще раз его повторил, озираясь при этом на учителя, который чопорно сидел у себя за столом, погруженный в свои занятия. В конце концов дядя Бен встал, аккуратной стопкой сложил свои книги рядом с неподвижным локтем учителя и, высоко, осторожно поднимая ноги, подошел к вешалке, на которой болтались его куртка и шляпа. Он уже было стал их надевать, но спохватился, вероятно, сочтя неприличным одеваться в школе, вышел на крыльцо и со словами: «Начисто забыл я, надо встретиться тут с одним парнем. До завтра», – исчез, негромко насвистывая.
Извечная лесная тишь снизошла на школу. В ней стало как-то особенно пусто и безжизненно. Легкое раскаяние коснулось сердца учителя. Но он напомнил себе, что от Руперта Филджи дядя Бен без всякий обиды, даже с удовольствием выслушивал прямую ругань и что он, учитель, руководствуется исключительно соображениями долга. Но тот, кто, руководствуясь исключительно соображениями долга, причиняет ближнему боль ради его же собственного блага, отнюдь не всегда обретает в награду душевный покой – потому, быть может, что благо неуловимо, а боль чересчур уж наглядна. Мистеру Форду стало не по себе – и он, естественно, хотя и незаслуженно, во всем обвинил дядю Бена. С какой стати ему обижаться, если учитель отказался выслушивать его жалкие выдумки! Вот награда за то, что в первый же день не поставил его на место. Это послужит ему. Форду, уроком.
Тем не менее он встал из-за стола и подошел к двери. Дядя Бен уже скрылся в подлеске, только голова и плечи маячили над кустами, покачиваясь на ходу, – должно быть, он все так же осторожно, высоко поднимал ноги, словно ступал по зыбкой, неверной почве.
А в школе по-прежнему царила тишина, и учитель медленно пошел между парт, машинально открывая ящики, проверяя, не забыто ли что-нибудь его учениками, и аккуратно складывая тетради и книги. На полу валялся букетик анютиных глазок, красиво перевязанный черной ниткой, – преданная Октавия Дин неизменно оставляла такой на парте Руперта, а этот презрительный Адонис столь же неизменно вышвыривал его вон. Подобрав грифельную доску, забытую под скамейкой, он заметил на обратной стороне нестертый рисунок. Мистер Форд сразу же узнал руку юного, но выдающегося карикатуриста Джонни Филджи. С воистину художественным размахом и глубиной, с изобилием подробностей и потраченного грифеля она изображала дядю Бена, который лежал на полу с тетрадью в руках, над ним тиранически возвышался Руперт Филджи, а в стороне в профиль, но с двумя глазами была представлена зрительницей Кресси Маккинстри. Смелый, реалистический прием написания имен персонажей на их ногах, – быть может, слегка увеличенных для этой цели, – не оставлял сомнений относительно личности каждого. Столь же смелой и не менее удачной была попытка изобразить краткий драматический диалог между действующими лицами посредством неких пузырей у их ртов, содержащих прочувствованные надписи: «Я вас люблу», «Слушать тошно!» и «Отстань!».
Учитель с удивлением взирал на такое неожиданное графическое свидетельство того, что посещения школы дядей Беном не только известны, но даже обсуждаются. Круглые детские глаза оказались зорче его собственных. Он снова обманут, как ни остерегался. Любовь, пусть даже вместо глаз у нее две точки, а платье – кособокий треугольник, дерзко проникла в мирные стены школы, и за ней по пятам на неправдоподобно больших ногах тянулись всякие осложнения и неприятности.
ГЛАВА V
На вырубке вокруг школы текла мирная, пасторальная жизнь, лишь изредка тревожимая пистолетными отзвуками пограничных споров Харрисонов – Маккинстри; но более деловая часть Индейцева Ключа была охвачена одной из тех лихорадок предпринимательства, которые часто свирепствуют в старательских поселках Калифорнии. Открытие прииска «Эврика» и прибытие первой кареты, положившее начало регулярному сообщению между Индейцевым Ключом и Биг-Блафом, – оба эти немаловажные события были торжественно отпразднованы в один и тот же день.
Чтобы воспеть должным образом этот великий час, не хватало слов даже красноречивому редактору туолумнской «Звезды», который безнадежно запутался в сложных метафорических ссылках на мифическую золотоносную реку Пактол, с каковой сравнивался промывной желоб «Эврики», и пришлось ему в конце концов препоручить восхваление почтовой линии Индейцев Ключ – Биг-Блаф достопочтенному Эбнеру Дину, члену законодательного собрания штата Калифорния от поселка Ангела. У достопочтенного мистера Дина не было правого глаза, который он потерял некогда в одной из драк, столь обычных во времена пионеров, но он и единственным своим невооруженным оком сумел разглядеть в туманной дали будущего столько, что хватило на три столбца в «Звезде».
«Не будет преувеличением, – с изящной укоризной утверждал он, – если мы скажем, что Индейцев Ключ через свою совершенную систему внутриконтинентальных перевозок, а также через свою водную артерию – Северный Ручей, сливающийся с рекой Сакраменто и вместе с ее водами затем достигающий безграничных просторов Тихого океана, поддерживает прямую связь не только с далеким Китаем, но и с еще более отдаленными рынками наших антиподов. Житель Индейцева Ключа, сев в девять часов в карету, в 2.40 прибывает в Биг-Блаф и может в этот же вечер доехать прямым сообщением до Сакраменто, откуда комфортабельные суда местной пароходной компании заблаговременно доставят его в Сан-Франциско, и он еще успеет назавтра в 3.30 отплыть на океанском лайнере в Иокогаму».
И хотя никто из жителей Индейцева Ключа покамест не воспользовался этой замечательной возможностью да и впредь как будто не собирался, все ощущали ее как небывалое благо, и даже учитель, поручивший Руперту Филджи прочесть газету перед классом – главным образом ради тренировки в произнесении многосложных прилагательных, – не остался вполне равнодушен. Джонни Филджи и Джимми Снайдер уловили только, что благодаря какому-то загадочному обстоятельству до Молуккских островов теперь рукой подать, и слушали, как завороженные, округлив глаза. Когда же в довершение торжества учитель объявил, что историческое событие будет отмечено прекращением занятий, в бревенчатой школе на лесной вырубке ликовали не меньше, чем в раззолоченном салуне на Главной улице.
И вот наступил достославный день, и из Биг-Блафа в двух новых дилижансах приехали специально приглашенные ораторы – всегда специально приглашаемые на такие торжества, но тем не менее только сегодня впервые в жизни осознавшие «выпавшую на их долю честь» и «всю значительность ныне свершающегося». После этого произвели салют, взорвав два шурфовых запала, грянул духовой оркестр, на площади был поднят новенький флаг, а затем совершилась церемония открытия нового прииска, во время которой знаменитый оратор в высоком цилиндре, черном фраке и при белом галстуке, похожий скорее на подгулявшего могильщика, чем на старателя, принял лопату из рук сияющего распорядителя похорон и раза три копнул землю. Позднее в гостинице снова взрывали запалы, играл оркестр и был сервирован легкий ужин. Но во всем – и в головокружительных прожектах, и в оглушительном смехе, которым их встречали, – торжествовал пьянящий дух бесстрашной молодости и непобедимых дерзаний. Это он создал Калифорнию, широко посеяв в пустыне семена смелой предприимчивости; это он давал силы сеятелю с улыбкой глядеть на чахлые или погибающие всходы, не отчаиваясь и не ропща, и с надеждой и мужеством обращать лицо свое к новым нивам. Что за беда, если у Индейцева Ключа постоянно были перед глазами заброшенные канавы и выработанные рудники прежних поселенцев? Что за беда, если красноречивый панегирист «Эврики» всего лишь несколько лет назад так же щедро тратил эпитеты и деньги на никчемную штольню, которая сейчас осыпалась на том берегу реки? Божественная забывчивость молодости не желала видеть в этом предостережения или принимала его как веселую шутку. Учитель, только что покинувший своих маленьких подопечных, в кругу которых он преждевременно повзрослел, испытывал что-то похожее на зависть, очутившись среди этих энтузиастов, в сущности, почти ровесников ему самому.
Всего памятнее празднество в Индейцевом Ключе оказалось для Джонни Филджи – и не только из-за восхитительно громыхавшего оркестра, хотя он и затесался на некоторое время между тромбоном и литаврами; и не только из-за оглушительных взрывов и пьянящего порохового запаха, исторгавших из глубины его детской души нечленораздельные вопли восторга, но также еще из-за одного происшествия, значительно обострившего его и без того острую наблюдательность.
Бессовестно покинутый на веранде «Эврики» старшим братом, который застенчиво оказывал знаки внимания прелестной хозяйке гостиницы, помогая ей в баре, юный Джонни предался созерцанию.
Шесть лошадей, новехонькая сбруя с розетками, длиннющий кнут кучера, и его огромные кожаные перчатки, и как он держит вожжи, и как чудесно пахнет лаком новая карета, и какой у преподобного Эбнера Дина золотой набалдашник на трости – все это улеглось в укромные углы его детской памяти, как в его оттопыренные карманы укладывались какие-то никому не нужные сокровища, которые он подбирал по дороге. Но когда у него на глазах из второй, всамделишной, кареты вышел вместе с прочими пассажирами незнакомый молодой человек, с небрежным видом поднялся на веранду и стал прохаживаться взад-вперед как ни в чем не бывало, Джонни захлебнулся от восторга, ибо сразу же понял, что перед ним – живой принц! Весь разодетый, в белоснежном полотняном костюме, на пальце бриллиантовое кольцо, из жилетного кармашка свисает золотая цепочка, а на голове, завитой и надушенной, лихо набекрень надета белая панама с широкой черной лентой, – никогда в своей жизни Джонни не видывал такого великолепия. Сказочный незнакомец был загадочнее Юбы Билла, величественнее преподобного Эбнера Дина – но зато не такой страшный, – красноречивее самого учителя и в тысячу раз красивее самой лучшей цветной картинки. Задень он Джонни на ходу – у того бы дух перехватило; заговори с ним – Джонни от избытка чувств был бы нем, как рыба. Судите же, сколь глубоко он был поражен, когда к этому верху совершенства вдруг подошел не кто иной, как дядя Бен, и, почти не выказав смущения, перекинулся парой непонятных фраз, а потом куда-то пошел с ним вместе! Стоит ли удивляться, что Джонни, в тот же миг позабыв о брате, лошадях и даже о предстоящем банкете и возможном угощении, не задумываясь, последовал за ними.
Те двое свернули в переулок, который оканчивался пустырем, – когда-то на нем тоже работали старатели, и он до сих пор был весь изрыт и перекопан. Прячась за старыми насыпями, Джонни бочком пробирался за ними следом, а попадаясь им на глаза, принимал всякий раз безразличный вид занятого человека, то ли направляющегося совсем в другую сторону, то ли ищущего что-то очень важное на земле. Так, возникая будто бы невзначай то справа от них, то слева, Джонни дошел вслед за ними до опушки леса. Теперь можно было подобраться к ним поближе.
Между тем, совершенно не замечая искусной слежки – хоть мальчишка уже раза два попадался им на дороге и, потупя глаза, шмыгал в сторону, – они продолжали свой секретный разговор. Джонни удалось разобрать только два слова: «доля» и «акции». Эти слова он слышал сегодня весь день, странно было только, что прекрасного незнакомца сейчас кротко расспрашивал об этом какой-то никудышный дядя Бен. Когда же после получаса ходьбы они вдруг очутились на спорном пограничном участке между владениями Харрисонов и Маккинстри, Джонни и вовсе перестал что-либо понимать. Поскольку ходить сюда строго-настрого запрещалось, Джонни, естественно, знал это место, как свои пять пальцев. Но что могло понадобиться здесь загадочному незнакомцу? Или дядя Бен привел его сюда, чтобы блеском его совершенств ослепить и парализовать обе сражающиеся стороны? А может, незнакомец – молодой шериф, или юный судья, или даже сын калифорнийского губернатора? А что если дядя Бен «сдуру» просто заблудился и не знает, куда идти? Вот сейчас бы Джонни в самый раз появиться перед ними, и все объяснить, и даже преувеличить грозящие им опасности, а кстати упомянуть вскользь о своем собственном близком знакомстве с этой ужасной местностью. К несчастью, пока Джонни, стоя позади дерева собирался с духом, прекрасный незнакомец повернул голову к дяде Бену и с изящным пренебрежением, которое так ему шло, произнес:
– Нет, я лично и по доллару за акр не стал бы покупать это ранчо. Разумеется, если вам непременно хочется швырять деньги на ветер, дело ваше.
По мнению пристрастного Джонни, дядя Бен принял эту заслуженную отповедь с подобающей покорностью, хотя и попытался ответить какую-то «дурь», которую возмущенный Джонни даже и слушать-то не стал. Не подойти ли и предупредить прекрасного незнакомца, что он понапрасну теряет свое драгоценное время на этого человека, который не умеет даже написать «ку-ри-ца» и которого учит грамоте его, Джонни, собственный брат?
Незнакомец продолжал:
– И потом, вы, конечно, понимаете, что купить титул на эту землю еще не все – вам так или иначе придется еще воевать за право владения с этими скваттерами. Будут перестреливаться уже не двое, а трое – только и всего.
Дурацкий ответ дяди Бена Джонни пропустил мимо ушей. Он слышал только то, что вещал великий ум.
А великий ум холодно продолжал:
– Ну, пошли теперь взглянем, что вы там намыли. У меня, знаете ли, времени довольно мало – уже и сейчас, поди, в поселке меня ищут. Вы ведь хотите, чтобы все по-прежнему оставалось в тайне? Удивительно, как это вам до сих пор удается. Далеко до вашей заявки? Ведь вы там живете, если не ошибаюсь?
Не будь маленький соглядатай так поглощен своим прекрасным незнакомцем, эта реплика, означающая, что заявка дяди Бена заслуживает внимания такого выдающегося лица, заставила бы его призадуматься; а так он просто решил, что дядя Бен что-то нахвастал. Джонни поспешил за ними и вскоре они подошли к дому дяди Бена.
Это была жалкая лачуга из досок и камней, наполовину врытая в песок и щебень на верху большой груды старых отвалов, оставшихся от заброшенного прииска. В поселке даже поговаривали, будто дядя Бен вдобавок к своей скудной старательской добыче еще перемывает понемножку породу из отвалов – презренное занятие, изобретенное китайцами и не достойное возвышенных устремлений белого человека. Приисковый кодекс чести гласил, что старатель может перебиваться самой мизерной ежедневной добычей, если только он питает надежду «напасть на жилу», а того, кто довольствуется небогатым, но верным выходом, клеймил позором. Подозрение такого рода бросало тень на его лачугу и отгораживало самого дядю Бена от людей, подобно тому, как полузасыпанная канава отгораживала его заявку от соседней.
Благоразумно остановившись на опушке, Джонни смотрел, как его божественное видение прошло через голый участок и, уподобившись простому смертному, вошло с дядей Беном в его лачугу. Тогда он сел на пень и стал дожидаться, пока оно покажется снова, – и дай-то бог, чтобы без провожатого! По прошествии получаса он отлучился ненадолго в смородину, но поспешил вернуться на свой наблюдательный пункт. Из лачуги не раздавалось ни шороха, ни звука. Прошло еще десять минут, и дверь распахнулась, но, к великому разочарованию Джонни, вышел один дядя Бен и не спеша зашагал к лесу. Сгорая от волнения, Джонни вынырнул из чащи прямо ему под ноги. Но тут возникло неожиданное затруднение, знакомое только детям. Как только серые маленькие глаза дяди Бена удивленно обратились к Джонни, мальчиком овладел всесильный дух детской застенчивости. Никакие силы не могли бы сорвать с его губ вопрос, который только что сам готов был с них слететь.
– А-а, Джонни! Ты что здесь делаешь? – ласково спросил дядя Бен.
– Ничего.
И после долгой паузы, во время которой он успел обойти вокруг дяди Бена, разглядывая его снизу вверх, как статую, он прибавил:
– Смородину ищу.
– Почему же ты не на банкете?
– Там Руперт, – быстро ответил Джонни.
Мысль о том, что он представлен на торжестве в лице своего брата, показалась ему вполне убедительной. Затем, в качестве естественной и приятной прелюдии к следующему вопросу, он перепрыгнул через пень и приготовился отвечать. Но дядю Бена, как видно, вполне удовлетворил ответ Джонни, он кивнул и пошел своим путем.
Когда он окончательно скрылся в зарослях, Джонни осторожно пошел к хижине. Не доходя значительного расстояния, он подобрал с земли камень, и запустил им в дверь, и тут же поспешно ретировался под защиту кустарника. Однако в дверях никто не появился, и Джонни трижды повторил свой маневр, каждый раз подбирая камень побольше и подходя ближе. В конце концов он храбро обошел вокруг хижины и спрыгнул в канаву, вырытую поблизости. Пройдя по ней шагов двести, он наткнулся на старую шахту, вход в которую был заколочен ветхими досками, словно для того, чтобы кто-нибудь, зазевавшись, туда не свалился. Тут вдруг на Джонни напал необъяснимый страх, и он убежал. И первым, кого он увидел, добравшись до гостиницы, был прекрасный незнакомец, не утративший ни одного из своих совершенств и как ни в чем не бывало отъезжающий в коляске уже с каким-то другим знакомым.
Тем временем мистер Форд, хоть и отдавший дань восторга историческому событию, постепенно прискучил утомительным празднованием. А так как его комната в гостинице «Эврика» содрогалась от звуков духового оркестра снаружи и ораторского красноречия внизу и вся пропахла порохом и шампанским, взрывавшимися со всех сторон, он решил уйти в школу и написать кое-какие письма в лесной тиши.
Разница была благодатна; шум отдаленного поселка долетал сюда лишь как мирный шелест ветра в верхушках деревьев. В школе на горе, где чистое дыхание сосен наполняло каждый уголок, изгоняя все следы присутствия человека, бурные торжества, происходившие внизу, казались неясным сном. Явь была здесь.
Учитель вынул из кармана несколько писем – одно из них было помято и зачитано почти до дыр. Он снова перечитал его, медленно и терпеливо, словно ожидая, что на него снизойдет вдохновение, а оно не снисходило. Раньше это письмо пробуждало в нем юношеский восторг, преображая его не по годам серьезное лицо. Но сегодня письмо не подействовало. Он сунул его обратно в карман с легким вздохом, который прозвучал так неуместно среди этой мирной тишины, что он не мог удержаться от смущенной улыбки, и уже в следующую минуту с самым серьезным видом занялся делами.
Некоторое время он писал, потом поднял голову. Какое-то неуловимое приятное ощущение подкрадывалось к нему, словно дрема, останавливая его перо. Это было почти физическое ощущение, оно не имело отношения ни к его переписке, ни к воспоминаниям и в то же время говорило что-то сердцу и уму. Может быть, его пьянит смолистый запах сосен? Кажется, он и прежде замечал, как странно он действует в час заката, когда от подлеска в воздух поднимается аромат свежести. Да, конечно, это запах. Он опустил глаза – на столе перед ним лежал его источник: букетик дикого калифорнийского мирта с бутоном розы в середине.
Ничего необычного в этом не было. Дети часто клали ему на стол свои приношения, не ища специального повода или случая. Он мог просто не заметить этот букетик во время занятий. Ему стало жалко бедные, всеми забытые, уже поникшие цветы. Он вспомнил, что мирт в детском фольклоре – вероятно, вслед за старинным преданием, связывающим это растение с Венерой, – символизирует любовь. Он даже объяснял детям, откуда у них могло взяться это поверье.
Он держал букетик в руке и вдруг почувствовал под пальцами что-то восхитительно шелковистое, пронзившее ему сердце непонятным восторгом. Веточки мирта оказались перевязаны не ниткой и не лентой, а длинной прядью мягких каштановых волос. Он размотал один волос и поднес его к свету. Длина, цвет, шелковистость, а всего определеннее какой-то необъяснимый инстинкт сказали ему, что это волос Кресси Маккинстри. И он поспешно положил волосок на стол, будто, держа его в руке, прикасался к ней самой.
Он дописал письмо. Потом глаза его и мысли возвратились к мирту. Букетик лежал на его столе и, значит, предназначался ему. В том, что веточки были обвязаны волосами, тоже содержался какой-то смысл, потому что его ученицы всегда располагали запасами ниток, тряпочек и лент, – учителю это было известно. Будь это какая-нибудь новая школьная мода, он знал бы о ней. Вторжение чего-то личного – вот что смущало учителя. Он представил себе волосы Кресси – они, безусловно, были очень красивы, несмотря на странности прически. Ему припомнилось, как однажды, когда она скакала на школьном дворе с Октавией Дин, они у нее упали и рассыпались по плечам, и он сам удивился, с какой отчетливостью сохранилась у него в памяти эта картина: как она закалывает их, стоя на крыльце, как округлы ее поднятые к затылку руки, как выгнута полная шея, запрокинуто румяное лицо и в белоснежных зубах закушена вот такая же каштановая прядь! Он начал следующее письмо.
Когда оно было написано, тень от сосновой ветки за окном, падавшая под отлогими лучами солнца на бумагу, переместилась на стену. Он отложил написанное, встал и, поколебавшись, запер миртовый букетик в ящик стола – с таким чувством, будто приобрел каким-то образом власть над будущими поступками и выдумками Кресси. Потом, сообразив, что дядя Бен, должно быть, тоже не придет в школу по случаю праздника, он решил не оставаться здесь дольше, а вернуться в гостиницу. Дядя Бен пришел ему на ум вовсе не по ассоциации – после знакомства с карикатурой Джонни Филджи он, как ни приглядывался, не обнаружил никаких признаков, подтверждающих намек малолетнего сатирика, и в конце концов выбросил все это из головы.
У себя в комнате учитель застал Руперта Филджи, который стоял, насупившись, у окна, между тем как его брат Джонни, пресытившись впечатлениями и яствами, крепко спал в единственном кресле. В их присутствии не было ничего необычного, – мистер Форд, жалея осиротевших мальчиков, часто приглашал их к себе смотреть книги и журналы.
– Ну, как дела? – спросил он бодро.
Руперт не ответил и даже не повернулся. Мистер Форд, вглядевшись, увидел знакомый блеск ярости в его красивых глазах, слегка затуманенных скупой слезой. Тогда, мягко положив ладонь ему на плечо, он спросил:
– В чем дело, Руперт?
– Ни в чем, – упрямо ответил мальчик, не отводя взгляда от окна.
– Может… может быть, миссис Трип (то была прекрасная хозяйка гостиницы) была с тобой нелюбезна? – шутливым тоном продолжал учитель.
Ответа не последовало.
– Знаешь ли, – все так же шутливо заметил мистер Форд, – все-таки ей приходится хоть немного сдерживаться на людях. А то пойдут разговоры.
Руперт хранил яростное молчание. Но на щеке, обращенной к учителю, глубже обозначилась ямочка (Руперт свои ямочки презирал, усматривая в них «девчонскую» черту). Однако в следующее мгновение он снова насупился.
– Мне хочется умереть, мистер Форд.
– Вот тебе на!
– Или… чего-нибудь делать.
– Это уже лучше. Что же, например?
– Работать, самому зарабатывать себе на жизнь. Чтобы не возиться больше дома с водой да с дровами, со стряпней и с постелями, как какому-нибудь китайцу. Не нянчиться с маленькими, а то одеваешь да раздеваешь целыми днями – девчонка я, что ли? Вот поглядите-ка на него. – Руперт показал пальцем на сладко спящего Джонни. – Видите? А что это значит? Это значит, я должен тащить его вот такого через весь поселок, а потом топить печку и чего-нибудь ему варить, а потом умыть его, раздеть, уложить в кровать, да еще убаюкать и одеяло подоткнуть. А отец в это время мотается по улицам с такими же дурнями, как он сам, и знай себе язык чешет: «прогресс», «светлое будущее Индейцева Ключа»… У нас дома, мистер Форд, прямо уж такое светлое будущее, дальше некуда. Много он думал о моем будущем?
Учитель, которому такие вспышки Руперта были не внове, улыбнулся – правда, одними губами – и утешил мальчика, как ему уже случалось не раз. Но он хотел узнать непосредственную причину сегодняшнего возмущения Руперта и роль, которую здесь сыграла несравненная миссис Трип.
– Мне казалось, обо всем этом мы уже с тобой договорились, Руп. Через несколько месяцев ты кончишь школу, и тогда я посоветую твоему отцу, куда тебя лучше определить, чтобы у тебя действительно было будущее. Терпение, старина; ты делаешь отличные успехи. И потом вспомни, у тебя же есть ученик – дядя Бен.
– Вот то-то и оно. Еще одно дитя малое, нянчиться с ним. Дома, что ли, дел не хватает?
– А по-моему, ты себе в Индейцевом Ключе другого занятия и не подберешь, – сказал мистер Форд.
– Ну да, – мрачно согласился Руперт, – но я мог бы уехать в Сакраменто. Юба Билл говорит, там берут мальчиков моих лет и на почту и в банк. А через год или два они уже все знают, и работают не хуже прочих, и получают не меньше. Да вот только сегодня был здесь один тип, не старше вас, мистер Форд, и необразованный совсем, а разодет весь, запонки, булавки, и все перед ним лебезят и кланяются, смотреть тошно.
Мистер Форд поднял брови.
– А-а, ты говоришь о том молодом человеке от «Бенема и К°», который разговаривал с миссис Трип?
Быстрый румянец гнева и стыда разлился по лицу Руперта.
– Может, и разговаривал. У такого хватит нахальства.
– И ты мечтаешь стать таким, как он?
– Нет, мистер Форд, понимаете, не таким. Вы ведь тоже не хуже него, правда? – объяснил Руперт с безжалостной наивностью. – Просто, если такая сорока могла добиться успеха, я-то почему не могу?
Разумеется, учитель тут же указал Руперту на нелогичность его рассуждений и на благодетельность терпения и труда, но учительские слова были приправлены изрядной толикой дружеского сочувствия и сопровождались ссылками на некоторые забавные эпизоды из его собственного детства, и на щеках Руперта снова заиграли ямочки. Не прошло и получаса, как вполне умиротворенный Руперт, покорясь судьбе, наклонился над спящим братом, чтобы взять его на руки и отправиться домой. Но сонный малыш превратился в инертную, бесформенную массу. Только дружными совместными усилиями им удалось пристроить Джонни на руках у Руперта – одна рука спящего свесилась через плечо брата, а еще не досмотренный сон раздувал румяные щеки, давил на веки и даже шевелил кудряшками над потным лбом. Учитель пожелал Руперту спокойной ночи, закрыл за ним дверь, и мальчик стал медленно спускаться со своей ношей по лестнице.
Но здесь провидение со свойственным ему безразличием к требованиям человеческой морали вознаградило Руперта, послав ему исполнение желаний, неразумных, но зато самых заветных. Внизу ему встретилась миссис Трип. Он увидел ее и покраснел от смущения; она увидела его с ношей и была тронута. Знала ли она при этом о чувствах Руперта и не льстили ли они ее самолюбию, не берусь судить. Голосом, от которого замерло его сердце, она воскликнула:
– Как? Руперт, ты уже уходишь?
– Да, мэм, из-за Джонни.
– Так давай я его возьму, пусть переночует у меня сегодня.
Искушение было велико, но у Руперта достало сил не поддаться ему.
– Бедняжка, как же он, должно быть, устал!
Она приблизила к Руперту свое красивое и еще свежее лицо и приложила губы к щеке Джонни. А потом подняла озорной взгляд на его брата, и сдвинув ему старую соломенную шляпу с потупленных глаз на затылок и откинув густые кудри, поцеловала прямо в лоб.
– Покойной ночи, милый мальчик.
Пошатнувшись, Руперт слепо шагнул вперед навстречу темноте за порогом. Но с тактичностью джентльмена он поспешил свернуть в ближайший проулок, словно для того, чтобы скрыть от грубых посторонних глаз полученное им посвящение. Путь, им избранный, был долог и труден, ночь темна и Джонни до смешного тяжел, но он упорно шел вперед, и поцелуй, казалось этому глупому мальчику, путеводной звездой горел у него во лбу.








