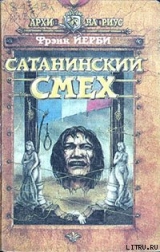
Текст книги "Сатанинский смех"
Автор книги: Фрэнк Йерби
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
А склонившись над рукой Симоны, граф даже не дал себе труда скрывать насмешку. Он с большим уважением отнесся бы к девице веселой профессии, чем к аристократке, вышедшей замуж за простолюдина.
– Итак, моя дорогая Симона, – пробормотал он так, чтобы никто, кроме нее, не мог бы его услышать, – мы с вами оказались одного поля ягодами.
Тем не менее Жан заметил, как она вся напряглась, и догадался, что он ей сказал. Теперь пришла очередь Жан Поля. Жерве направился к нему с протянутой правой рукой. По отношению к наследнику хозяина дома социальные различия можно было отбросить. Простое рукопожатие – это уже было снисхождением – должно было удовлетворить Жан Поля Марена.
Жан стоял, держа руки по швам. “Будь я проклят и пусть попаду в ад, прежде если пожму ему руку”.
Жерве остановился, рука его все еще была протянута. Его синие глаза превратились в льдинки.
– Я протягиваю вам руку, Марен, – произнес он.
– Вижу, господин граф, – ответил Жан.
– Жан! – закричала Тереза.
Жан осязаемо ощутил на себе взгляды всех присутствующих, пылающие, как угли, в гневном замешательстве. Одна Симона позволила себе высказать мимолетный намек на восхищение, но и он исчез, и Жан остался в одиночестве перед лицом семьи.
– Я все еще предлагаю вам свою руку, – произнес Жерве, и в улыбке его затаилась смерть.
– А я, – отозвался Жан, ощущая ярость из-за того, что голос его едва заметно дрогнул, – по-прежнему оставляю за собой право не подавать руки одному из губителей Франции. Или месье предпочитает, чтобы я пожал ему руку, а потом послал слуг за водой и полотенцем и вымыл руки в его присутствии?
Рука Жерве опустилась. Улыбка на лице так и застыла. Невольно Жан восхитился его выдержкой.
– Вы храбрый человек, господин философ, – произнес наконец Жерве. – Но именно поэтому, вы, вероятно, совершенно уверены, что я вряд ли стану рисковать расположением мадемуазель, вашей сестры, и не пошлю своих слуг, чтобы они просто избили вас до смерти палками, чего вы, безусловно, заслужили своими дурными манерами. Вы ведь на это рассчитываете?
– Я ни на что не рассчитываю, – ответил Жан, – разве что на свою правую руку – со шпагой, саблей или даже пистолетом – по выбору месье…
Жерве изумленно посмотрел на него. Затем откинул голову и весело рассмеялся.
– Ну, Марен, – с чувством сказал он, – вы фантастическая личность!
Произнеся это, он повернулся и отвесил величественный поклон присутствующим.
– Я предпочел бы забыть эту выходку, – улыбнулся он. – Молодость и, вероятно, слишком много вина. Возможно, мальчику нужно пустить кровь. Буду рад прислать в ваше распоряжение своего врача, месье Марен…
– Я сам устрою ему кровопускание, – загремел Анри Марен, – только не скальпелем, а плеткой! Жан, отправляйся в свою комнату и жди там моего решения! Немедленно, мальчишка!
Жан посмотрел на отца. Потом очень медленно улыбнулся.
– Фантастический, – пробормотал он. – Спасибо за слово, господин граф. Но я могу придумать кое-что получше. Ты, отец, человек не фантастический – ты просто нелеп. И не все на свете продается, как ты поймешь в один прекрасный день…
– Отправляйся в свою комнату! – взревел Анри Марен.
– Нет, – спокойно и весело заявил Жан, – я делаю только то, что хочу. И если ты еще когда-либо поднимешь на меня руку, я не посмотрю, что ты мой отец, о чем всегда бесконечно сожалею… Да, я легко это забуду…
И, оглядев всех, он разразился хохотом.
– Почему ты смеешься? – поинтересовался Бертран.
– У меня видения, – выговорил Жан сквозь смех. – Я наблюдаю комический танец, который в скором времени предстоит исполнить в воздухе господину графу, поддерживаемому только петлей на шее; вижу, как странно выглядит наш добрый аббат, лишенный своего духовного сана и пустых предрассудков; вижу Бертрана, у которого отнимут его дворянский титул и разграбят богатства; вижу Симону и тебя, моя бедная сестренка, будто вы варите свои дворянские грамоты, чтобы утолить голод…
Анри Марен уставился на сына.
– А я? – с трудом выговорил он.
Жан перестал смеяться.
– Ты же, мой бедный отец, избавишься от всех этих страданий. Потому что тебя уже просто не будет, чтобы вообще что-либо видеть…
– Безумец! – прошипел Жерве ла Муат.
– Вот именно, – улыбнулся Жан, – или, быть может, здравомыслящий, живущий в безумном мире. Кто знает?
И он направился к двери, оставляя за собой отзвуки смеха.
Остальные застыли на своих местах, глядя друг на друга. В смехе Жана было что-то жуткое. Нечто, как пришло вдруг на ум аббату Грегуару, сатанинское…
– О, Боже, – вслух произнес он, – этот мальчик одержимый!
При этих словах все обернулись к нему. Затем один за другим склонили головы, услышав эту магическую формулу, сорвавшуюся с уст старика.
И даже граф де Граверо испугался, прочтя в их глазах веру в пророчество.
2
Уже опять пошел дождь, когда Жан Поль покинул Виллу. Тем не менее он, запрокинув голову так, чтобы струйки воды стекали по лицу, улыбался. Погода соответствовала его настроению.
Он вышел на дорогу, берущую начало на берегу моря и вьющуюся до предгорий Приморских Альп, миновал дом Люсьены, не остановившись. Ему потребовался почти час, чтобы дойти до Сен-Жюля, поскольку деревня располагалась довольно высоко в отрогах Альп. Он прошел кривыми мощеными деревенскими улочками и наконец остановился перед нужным ему домом.
Дом был сложен из камня, как и все дома в Сен-Жюле; с крыши, крытой черепицей, потоки дождя выливались на улицу. Жан постучал. Дверь с легким щелчком приоткрылась. Потом она распахнулась настежь, на пороге стоял улыбающийся Пьер дю Пэн.
– Заходи, заходи! – смеясь, приветствовал он его. – Марианна! Посмотри на нашего прекрасного друга-философа. Он выглядит как галльский петух, которому отказали все куры, и у него, бедняги, поникло все его роскошное оперение!
Пьер обладал рыжей шевелюрой и глазами, которые казались попеременно голубыми и зелеными. Его простое лицо лишено было столь свойственного крестьянам выражения бессмысленной подавленности понурого животного. У него лицо, в тысячный раз поду-. мал Жан, святого и сатира одновременно. И в то же время смелое и умное лицо. Но с каким-то чуточку безумным выражением, как, впрочем, и мое. Мы живем в мире, приспособленном для умалишенных, может быть, поэтому мы оба выживем…
Он широко улыбнулся другу. Отец Пьера был зажиточным крестьянином, что было еще возможным во времена детства Пьера и случается даже сейчас в отдаленных районах Франции, обычно там, где исконные аристократы оставались верными земле и отказывались посвящать свою жизнь Версалю. Отец послал сына учиться на священника, в результате чего Пьер умел читать и писать не только по-французски, но и по-латыни и на древнегреческом. И его смышленость, и достигнутый им уровень мастерства немало способствовали ниспровержению прежних кумиров. Ибо среди авторов, которых он читал, были Руссо, Вольтер и Монтескье.
В итоге Пьер ушел из монастыря, решив, что Бог, допускающий, чтобы множество людей в самой богатой в Европе сельскохозяйственной стране голодало, обойдется без его услуг. Вскоре после этого он встретил Марианну, и это решило все проблемы…
Он перепробовал с дюжину профессий и в конце концов стал учеником типографа в Марселе. Там его и нашел Жан Поль Марен, которого отец послал в этот город заказать бланки накладных.
– Заходи, Жан, – сказала Марианна, – давай-ка я просушу твою одежду. Может, вина хочешь?
Это была одна из побед Жан Поля – он добился, чтобы жена друга называла его Жаном, а не месье или даже хозяином. Жан Поль гордился этим. Настанет день, когда не будет более сеньоров, господ, хозяев… придет такой день…
– Вина? – прогремел голос Пьера. – Конечно! В такой день мужчине необходимо вино. Особенно философу, – ведь что станется с философией, если ее вымочит дождь и продует мистраль?
– Заткнись! – набросился на него с шутливой яростью Жан.
– Ах, вот оно что, господин философ в дурном настроении! Это уже серьезно. Впрочем, все, что происходит с нашим философом, всегда серьезно и никогда ни к чему не ведет. Приготовил ли ты для меня заранее шелковую постель в Малом Трианоне, возможно, даже с австриячкой в ней?
– Ты, – ухмыльнулся Жан, – оскорбляешь мое обоняние. Да, Марианна, я и правда хочу вина.
– Будем сегодня работать? – спросил Пьер. – Хорошо было бы поработать. Я напечатаю все замечательные, смелые и блистательные мысли моего философа, который стремится уничтожить систему, обеспечивающую ему богатство и власть, ради блага жалких глупых бедняков. Когда придет революция, я стану принцем. Позволю господину философу служить в моих конюшнях. Заставлю его убирать конский навоз и запрещу ему появляться передо мной, потому что он будет оскорблять мое обоняние. Ca ira![4]4
Вперед! (фр.) Первая строка песни, которая в начале Великой французской революции стала боевой песней восставших.
[Закрыть]
– Ты пьян! – вырвалось у Марианны.
– Ну да! Быть пьяным замечательно, моя дорогая. Лучше быть пьяным от вина, чем от слов. Потому что я не из числа мечтателей, вроде моего друга-философа. Он не может понять, что создаешь новую аристократию, когда переворачиваешь мир… И она, эта новая аристократия, не обладая давним опытом старой, может оказаться еще более жестокой в подавлении народа…
– Ты в это веришь? – спросил Жан, глядя на друга.
– Я это знаю. Идея равенства для человеческого ума посторонняя мысль. Уравняй всех людей, мой Жан, и чего ты добьешься? Умные и безжалостные будут продираться наверх, и ты вновь получишь аристократию, буржуазию и простолюдинов – их, возможно, будут иначе называть, но по существу это будет то же самое всегда. И это будет тем нагляднее, чем больше будет перемен, – не смотри на меня так, mon vieux[5]5
Мой друг (фр.)
[Закрыть]. Это правда. Я в отчаянии оттого, что это правда. Я бесконечно сожалею, что это правда. Однако человек самое непристойное из всех животных, всегда алчное, жестокое и подлое…
– Но человечество дает философов, – улыбнулся Жан, – и поэтов…
– И художников, и шлюх, которые олицетворяют собой самое благородное из всего, что производит человечество. Потому что они смягчают боль в сердце мужчины лучше любого поэта, любого философа!
– Пьер! – возмутилась Марианна.
– Прости, – рассмеялся Пьер и ущипнул ее круглую щечку. – Хорошая жена даже лучше, потому что соединяет в себе и куртизанку, и кухарку, и друга.
– Трепло! – засмеялся Жан.
– Я не трепло. Если я и высказался без утайки, так это потому, что в моих словах все чистая правда. Суди сам, будет ли существовать какая-либо разница между настоящим крестьянином и внуком графа де Граверо, если вдруг внук графа станет крестьянином и будет потеть под солнцем? Будет ли в этом случае внук сколько-нибудь меньше крестьянином? Будет ли его голод менее острым, будут ли его раны менее болезненны? Жан, мой Жан, брат моего сердца – то, что ты делаешь, – это безумие, и лучше бросить это занятие…
– И что же я в таком случае должен делать? – спросил Жан.
– Сидеть на солнышке и пить вино. Заниматься любовью. Смеяться, но не так, как ты обычно смеешься, как сумасшедший дьявол. Чтобы смех вырывался из пуза, чтобы пузо было полно доброго смеха. Делай сыновей, много сыновей, и всегда отказывайся думать. Потому что это смертельная болезнь, от которой нельзя излечиться…
– Сумасшедший, – фыркнул Жан и протянул ноги поближе к огню, так что от его мокрых башмаков пошел пар.
Марианна возилась у очага, и Жан почувствовал восхитительный запах тушенного в вине кролика, исходивший из висевшего над огнем черного котла. Если бы Жан был чужим, ужин Пьера немедленно исчез бы в специально подготовленном потайном месте. Во-первых, потому, что крестьянин всегда должен выглядеть голодным, чтобы избежать алчных когтей бейлифов своего сеньора, а во-вторых, наличие кролика в котле означало бы, что Пьер браконьерствовал в охотничьих угодьях графа, а закон предписывал за это преступление смерть через повешение, хотя теперь этот закон редко применялся столь безжалостно.
Едва отведав кусочек мяса, Жан обнаружил, как ужасно он голоден. Природа наделила его весьма скромным аппетитом, но сегодня он в еде не отставал от Пьера. Было так хорошо сидеть у огня и вести полушутливый-полусерьезный разговор, но их ждала работа за полночь.
Пьер поцеловал на прощанье Марианну, и они зашагали по дороге, пока не добрались до развилки, откуда путь вел к Марселю. Здесь, в тени деревьев, Жан держал привязанных лошадей – дорога им предстояла слишком длинная, чтобы отправляться пешком.
Через два часа они оказались внутри самого большого из складов Марена, отодвигая ящики и рулоны шелка. Когда они все это передвинули, перед ними оказалась маленькая дверь. Жан Поль обнаружил эту дверь совершенно случайно год назад, когда его отец отправил морем в колонии такое количество товаров, что склад на время опустел. Дверь вела в маленькую комнату, которую Анри Марен в начале своей торговой карьеры использовал под контору, но по мере процветания фирмы он вынужден был перенести свои бухгалтерские книги в отдельный дом, и о маленькой комнате все забыли. Теперь в ней стоял печатный станок, который по частям притащил сюда Пьер и здесь собрал, кипы бумаги, стол для резания бумаги и хорошая дорогая наборная доска.
При свете одной-единственной свечи Пьер принялся за работу, читая с рукописных листков, принесенных Жан Полем.
– Дьявол тебя забери! – выругался он. – Когда ты научишься писать по-французски просто? У тебя отвратительный стиль. Кто может правильно написать такие слова?
– Ты можешь, – заметил Жан.
– И почерк твой становится со дня на день все хуже. Иди сюда, почти мне…
Жан стал читать ему по рукописи. Ему пришлось признать, что Пьер не зря критикует его почерк. Иногда он сам с трудом разбирал, что написал.
Наступила тишина, нарушаемая только скрипом винта, когда они его закручивали, прижимая пресс к листам бумаги. Они сменяли друг друга у рукоятки – один укладывал листы, а другой ходил вокруг станка, вращая рукоятку пресса. Это была тяжелая работа, поэтому они часто менялись, чтобы дать себе роздых.
Они закончили после полуночи, собрали отпечатанные листы и связали их в пачки. Потом выбрались из маленькой комнаты и вновь завалили дверь всеми теми тюками, которые раньше оттаскивали в сторону.
По городским улицам они шли пешком, потому что цокот конских копыт по камням мостовой мог привлечь внимание стражи. Они остановились у дверей булочной и спрятали пачки в таком месте, где булочник легко мог найти их. Утром при дневном свете каждая женщина, купившая хлеб, обнаружит, что он завернут в использованную типографскую бумагу. Тогда в домах бедняков соберется человек двадцать, а то и больше вокруг стряпчего или писаря, а иногда даже местного священника, которому платили мало, а служить ему приходилось много, и который всегда на стороне народа, и будут слушать жгучие слова, написанные Жан Полем Мареном.
Спустя несколько дней оборванный и замызганный листок попадет в руки властей. Будет большая суматоха, и многие титулованные головы будут встревоженно склоняться над своими бокалами с вином, но толку от этого не будет никакого, потому что полиция до сих пор не могла даже раскрыть механику распространения этих памфлетов, поскольку Жан Поль и Пьер редко использовали одну и ту же тактику. Одну неделю это были марсельские булочники, другую – бакалейщики, потом виноторговцы. И каждый раз люди начинали роптать…
В четыре часа ночи они прискакали в Сен-Жюль и поставили лошадей в конюшню. После этого Жан отправился пешком в сторону Виллы.
Но ему не суждено было туда добраться. Не прошел он и сотни ярдов от дома Пьера, как услышал мужской голос, изрыгавший проклятия, и удары кнута, сопровождающиеся криками боли.
Он побежал на этот шум и увидел, что происходит. Тележка дровосека загородила дорогу большой карете. Торопясь посторониться от скачущих лошадей, поскольку знать всегда мчится, как ветер, дровосек действовал слишком поспешно, его груз сместился, двухосная тележка почти опрокинулась, напрочь перегородив узкую улочку, зажатую между двумя рядами домов.
Жан разглядел все это с первого же взгляда. Ему не нужно было особенно задумываться, чтобы догадаться, что заставило дровосека ехать по улочкам Сен-Жюля в четыре часа ночи. Тот попросту крал дрова из леса своего сеньора, поскольку все леса, где крестьянам разрешалось заготавливать дрова для своих очагов, давно уже были вырублены и выжжены.
Но что привело Жан Поля Марена в ярость, так это то, как кучер кареты пытался справиться с возникшей ситуацией. Он слез со своего высокого облучка и поощрял конвульсивные попытки дровосека выправить тележку ругательствами и ударами кнута.
Жан сунул руку в карман и вытащил оттуда один из двух пистолетов, которые всегда носил с собой. Он быстро двинулся вперед, шагая бесшумно, пока не оказался совсем рядом, и тогда ударил кучера пистолетом по лицу с такой силой, что услышал, как разорвалась кожа у того на лице, и кучер упал в грязь. Он с ревом поднялся на ноги, но увидел у себя перед носом дуло пистолета.
Жан держал кучера под прицелом и отступал, пока не поравнялся с дверцей кареты. Он рывком распахнул ее и, не заглядывая внутрь, насмешливо произнес:
– Не будет ли господин так любезен, что выйдет из кареты?
Ответа не последовало. Жан заглянул внутрь и увидел, что карета пуста.
Он обернулся как раз вовремя, чтобы уклониться от удара одного из лакеев, стоявших на запятках. Жан Поль выхватил второй пистолет и направил его вверх.
– Слезайте, – скомандовал он, – все слезайте!
Лакеи графа де Граверо спустились с запяток.
“Ну что ж, – подумал Жан, – если я лишен удовольствия заставить графа де Граверо перекладывать дрова, остается удовольствоваться меньшим – заставить делать это его изнеженных лакеев”.
– А теперь, господа, – вежливо сказал он, – вы будете так любезны, что поднимете тележку нашего уважаемого друга, дровосека…
Лакеи уставились на него.
– Альтернатива, – засмеялся Жан, – вряд ли будет столь же приятной. Ибо, если вы откажетесь, вы не оставите мне другого выхода, как, к величайшему моему сожалению, вышибить вам мозги…
Два пистолета оказались достаточно убедительными доводами. Лакеи в своей роскошной одежде: шелковых брюках, вышитых ливреях, треуголках с плюмажами и кружевными воротниками поставили плечи под тележку и стали ее приподнимать. Она медленно встала на колеса. Но часть дров свалилась на землю.
– А теперь, – весело сказал Жан, – дрова!
Они подняли дрова и уложили их на тележку. Дровосек заторопился прочь, лицо его посерело от ужаса.
“Теперь мне следует еще раз отвлечь их, – подумал Жан, – не допустить, чтобы они ускакали и сообщили о происшедшем…”
Он неторопливо подошел к кучеру, который стоял, дрожа. Его роскошное одеяние было покрыто грязью и разорвано, лицо залито кровью от удара Жана.
– Лошади! – приказал Жан. – Распрячь лошадей!
– Но, – задрожал кучер, – мне это будет стоить жизни, господин разбойник! Мой господин ждет меня, а я уже на полчаса опоздал. Если я еще опоздаю…
Жан смотрел на кучера, но не видел его. В его груди рождалось нечто черное, бесформенное. Оно легло на его легкие, остановило дыхание, протянуло свои тонкие щупальца к сердцу.
– Где, – прошептал он, – твой господин ждет тебя?
– В доме той девицы с рыжими волосами… Пожалуйста, господин разбойник…
– Распрягай! – загремел голос Жана.
Кучер медленно распряг лошадей. Жан поднял левой рукой кнут, все еще направляя другой рукой пистолет на лакеев. Затем, выпрямившись, он хлестнул кнутом по крупам лошадей. Они сорвались с места, помчавшись галопом по узкой улице.
– Вы не будете идти за мной, – медленно произнес он. – С этой минуты убить любого человека, связанного с графом де Граверо, доставит мне удовольствие…
Он стал отступать от них вниз по улице. Оказавшись достаточно далеко, повернулся и пустился бежать. Путь его пролегал вниз по холму. Когда он добежал до дома, он даже не запыхался.
Дверь была не заперта. Люсьена знала, что после своих поездок в Марсель он никогда не возвращался раньше полудня следующего дня.
Под пеплом в потухшем очаге все еще тлели угли. Ему потребовалось немало времени, чтобы зажечь свечи, руки у него дрожали.
Он стоял, глядя на них. Они оба мирно спали. Он сделал шаг к постели. Второй. Остановился, наклонившись над ними, глаза его ничего не видели из-за обжигающих слез.
Когда он наконец выпрямился, слезы иссякли. Их сменила ярость по поводу собственной слабости. Теперь должно совершиться убийство. Он вытащил оба своих пистолета и очень тщательно прицелился.
Но на спуск не нажал. Не мог.
Лежа в мерцающем свете свечи, она выглядела так прелестно, рыжеватые волосы были в беспорядке разбросаны. При таком освещении она была слишком хороша. Растерянный, он смотрел, как играют свет и тени на ее лице, видел теплые, влажные, чуть раскрытые губы, ощутил совершенство ее тела, ее талии, изгиба бедра, мягких коленей и длинных, цвета слоновой кости и алебастра, ног…
Он отвернулся и, сам не зная, зачем он это делает, бросил полено в почти потухший огонь. От этого звука они сразу же проснулись.
– Я подумал, вы, быть может, хотите погреться, – спокойно сказал он, – хотя бы для того, чтобы привыкнуть к жаре. Я слышал, в аду очень жарко…
– Жан! – вскрикнула Люсьена.
Он улыбнулся ей.
– На тебя так приятно смотреть, – прошептал он. – Даже сейчас, когда меня должно бы мутить от одного вида… Очень жаль портить такую красоту…
– Марен, – сказал Жерве, вставая, – отпустите ее. Вы ведь, конечно, не будете…
– А я не джентльмен, месье, – засмеялся Жан. – У меня нет чести, вы помните? Вчера, месье, вы отказались сразиться со мной. Как ни странно, у вас есть такое право, господин граф. Вы можете отказаться драться на дуэли с человеком ниже вас по положению, и ваша честь не пострадает…
Он замолчал, все еще улыбаясь.
– Но если содрать с вас ваши роскошные одеяния, вы оказываетесь заурядным человеком. И неплохим экземпляром аристократа… Не волнуйтесь, господин Граверо. Моя честь не зависит от случайности рождения. Она запечатлена в моей душе. Ловите!
Он бросил на постель второй пистолет.
Жерве взял его в руку и с сожалением оглядел себя.
– В таком вот виде?
– Графа беспокоит, что он уйдет из этого мира таким же, каким пришел в него? – насмешливо спросил Жан. – Конечно, это не так импозантно, как быть одетым по французской моде, не так ли? Ладно, подожду, пока господин граф облачится соответственно…
– Жанно, Бога ради! – вырвалось у Люсьены.
– Опера, Комеди Франсез, – прошептал Жан Поль. – Однако ты плохо ведешь дела, любимая, иначе не стала бы платить авансом…
– Я готов, – сказал Жерве. – Хотя в такой ситуации…
– Мы оба, скорее всего, умрем, – улыбнулся Жан. – Это вас беспокоит, месье? Жаль. Вчера вы могли бы устроить все так, как вам было угодно… Вы готовы?
Он увидел, как расширились глаза у Люсьены. Но взгляд ее был устремлен мимо него.
– Хватайте его! – заревел граф де Граверо.
Жан обернулся. Кучер и трое лакеев ломились в дверь.
Жан вздохнул и поднял пистолет.
– Похоже, – с сожалением произнес он, – мне придется убить кое-кого из вас…
Люсьена услышала, как щелкнул курок в руке Жерве ла Муата. Она успела заметить, как он поднял пистолет, и в ту же секунду бросилась на него. Она опоздала. Но все-таки успела толкнуть его под руку и тем самым спасти Жану жизнь.
Выстрел прозвучал в маленькой комнате оглушительно.
Люсьена увидела грибовидный дымок и вспышку оранжевого огня. Жан Поль Марен дернулся, неожиданно обмяк и повалился на спину. Когда он уже оказался на полу, пистолет выпал у него из рук.
– Вы… вы застрелили его, – прошептала Люсьена. – Вы выстрелили ему в спину…
Жерве улыбнулся.
– А куда же еще, вы хотите, чтобы я стрелял… в пса? – сказал он.
Руки Люсьены взметнулись, и ее острые ногти едва не вцепились ему в глаза.
И тут Жерве ла Муат, граф де Граверо, которого обучали всем необходимым искусствам, в том числе и тому, как обращаться с женщинами из низких сословий, замахнулся и ударил ее так, что она отлетела к очагу.
– Пошли, – сказал он своим слугам, – лучше всего оставить их здесь… обоих…
Однако в дверях он обернулся и взглянул на Люсьену. Она привстала на одно колено, и отсвет вспыхнувшего огня окрасил ее тело золотистым сиянием. На нее стоило посмотреть.
“Никогда до конца своих дней, – подумал Жерве ла Муат, – не забуду я эту картину…”
Потом он вышел за дверь, неслышно прикрыв ее за собой.








