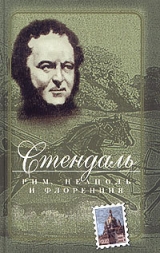
Текст книги "Рим, Неаполь и Флоренция"
Автор книги: Фредерик Стендаль
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Уязвленный в своей национальной чести читатель скажет, что я мономан, а моя навязчивая идея – восхищение Италией. Но я изменил бы себе, если бы не говорил того, что мне кажется правдой. Я шесть лет жил в этой стране, которую человек, одержимый национальной честью, никогда, может быть, и не видел. Я вынужден был сделать такое длинное предисловие, иначе никто не стерпел бы нижеследующего еретического утверждения: я и вправду полагаю, что тосканский крестьянин значительно умнее французского и что вообще итальянский крестьянин в гораздо большей мере наделен свыше способностью к сильному и глубокому чувству, иначе говоря, обладает бесконечно большей силой страстей.
Зато французскому крестьянину гораздо более свойственны добротаи тот здравый смысл, который так необходим в обычных жизненных обстоятельствах. Крестьянин из Бри, поместивший тысячу франков в какой-нибудь банк или отдавший их под залог, ощущает некоторую уверенность в будущем, обладая этим маленьким капиталом. Напротив, владение имуществом в тысячу франков, если это не земельная собственность, для итальянского крестьянина – источник величайшего беспокойства. Я исключаю Пьемонт, окрестности Милана и Тоскану, а в особенности Генуэзскую область, где земля не дает достаточно для пропитания и потому все занимаются торговлей. Даже не выезжая из нашей прекрасной Франции, люди, путешествовавшие на юге, знают, что доброта среди крестьян – редкость. Главная квартира доброты – Париж, а особенно царит она в окрестностях Парижа, на пятьдесят лье в окружности.
Сьена, 2 февраля.Какова была моя радость, когда, вернувшись сегодня утром во Флоренцию, я встретил в кафе одного из моих миланских друзей! Он спешит в Неаполь на открытие театра Сан-Карло, заново отстроенного Барбайей после пожара, случившегося два года назад. По-видимому, он опоздает. Он предлагает мне место в своей коляске. Эта мысль опрокидывает все мои разумные намерения, но я соглашаюсь. Ведь в конце концов я путешествую не для изучения Италии, а ради удовольствия. Кажется, самой главной причиной моего согласия было то, что этот друг говорит на миланском наречии: арабское произношение флорентинцев как-то иссушает мне сердце, а когда мы с моим другом беседуем delle nostre cose di Milan [267]267
О наших миланских делах ( итал.).
[Закрыть], в душе моей растекается безмятежная, спокойная радость. В полной искренности беседе нет и тени лжи, ни малейшего опасения показаться смешным. Я, может быть, виделся с этим миланцем не более десяти раз, а он мне представляется самым близким другом.
Мы задержались всего на десять минут в Сьене – осмотреть собор, о котором я не позволю себе говорить. Пишу в коляске. Мы едем медленно среди протянувшихся грядами невысоких холмов вулканического происхождения, покрытых виноградниками и низенькими оливковыми деревьями: все это в высшей степени неприглядно. Для разнообразия мы время от времени пересекаем небольшую равнину, где царит зловоние какого-нибудь нездорового источника. Ничто так не располагает к философствованию, как скука неинтересной дороги. «Хотел бы я, – сказал мне мой друг, – чтобы предложена была премия за рассуждения на тему: «Какое зло причинил Италии Наполеон?»
Ответ звучал бы так: «Он подвинул ее к цивилизации всего на два столетия, а мог бы подвинуть на десять».
Наполеон, со своей стороны, возразил бы: «Вы отвергли один из важнейших моих законов (регистрация гражданских актов, отвергнутая в 1806 году законодательным корпусом Милана); я был корсиканец, хорошо понимал итальянский характер, в котором совсем нет разгильдяйства, как во французском, вы испугали меня. Столько же из-за своей неуверенности, сколько из-за монархических причуд откладывал я все существенные улучшения до своего путешествия в Рим, которого мне так и не довелось совершить. Я должен был умереть, так и не увидав города цезарей и не пометив Капитолием декрета, достойного этого имени».
Ториньери, 3 февраля.Вчера мы ужинали в Буон-Конвенто. К счастью, коляску пришлось срочно чинить. Я оставил своего друга и отправился в лавчонку цирюльника (жертва, которую я приношу моему долгу путешественника). На свое счастье, застаю там одного молодого священника из округи, большого говоруна, который, видя, что я иностранец, во что бы то ни стало пожелал проявить гостеприимство и уступить мне свое место в кожаном кресле. Я согласился. Ничто не привязывает так, как благодеяния, и мне удалось, наговорив со своей стороны невесть сколько, добиться часовой задушевной беседы с этим священником. То, считаясь со своим духовным саном, он очень дурно отзывался о французах, то из-за своего немалого ума (конечно, по-флорентински рассудительного и точного) он до небес превозносил французскую администрацию, такую благоразумную, сильную, четкую, сеявшую в бедной Италии шестнадцатого века плоды цивилизации восемнадцатого. Благодаря наполеоновскому управлению Италия одним прыжком перескочила через три столетия усовершенствований. На островах Тихого океана, открытых недавно англичанами, где население вымирает от оспы, англичане вводят не простую прививку, это благодетельное изобретение, оклеветанное мракобесами 1756 года, а гораздо более совершенную вакцинацию. Такова же была наша роль в Италии.
Императорская администрация, во Франции часто являвшаяся гасительницей просвещения, в Италии притесняла только мракобесие. Отсюда огромная и справедливая разница в отношении народа к Наполеону во Франции и в Италии. Во Франции Наполеон закрывал центральные школы, извращал характер Политехнической школы [268]268
Политехническая школа– знаменитая по постановке дела и революционным традициям высшая техническая школа в Париже, основанная во время Французской революции. При Наполеоне в школе была введена военная дисциплина, учащиеся разделены на роты, помещены в казармы и пр. Фонтан, в качестве президента Законодательного корпуса и великого магистра университета, ввел в школе морально-религиозное преподавание. Это и вызвало насмешки Стендаля.
[Закрыть], пятнал народное просвещение и стараниями своего де Фонтана принижал юные души. Та доля здравого смысла и вольнодумства, которой г-н де Фонтан не осмелился лишить учреждения императорского университета, была бы огромным благодеянием для Италии. В местах, где господствует воображение, как в Болонье, Брешии, Реджо и др., многие молодые люди, понятия не имеющие, какое сопротивление вызывает в мире любое новое начинание, и набившие свои горячие головы неосуществимыми утопиями Руссо, громко порицали Наполеона, но в то же время не видели ясно и четко, чем же он предал страну и заслужил изгнание на Святую Елену. Напротив, во Флоренции, где люди видят перед собою только реальное, наполеоновская система блистала всеми своими достоинствами. Мы со священником коснулись почти всех отраслей управления. Мелочный гнет французской администрации давал себя чувствовать лишь в области косвенных налогов. Но, например, наш Гражданский кодекс, творение Трельяров, Мерленов, Камбасересов, непосредственно пришел на смену свирепым законам Карла V и Филиппа II.
Читатель и представить себе не может всех нелепостей, от которых мы излечили Италию. «Например, – сказал мне мой юный священник, – в 1796 году в долинах Апеннин, где два-три раза в месяц разражаются грозы, считалось нечестивым ставить на домах громоотводы: ведь это означало противиться воле божьей». (До этого додумались и английские методисты.) Между тем итальянец больше всего на свете любит архитектуру своего дома. После музыки архитектура сильнее других искусств волнует его сердце. Итальянец останавливается и четверть часа созерцает красивую дверь, которую мастерят в новом доме. Я могу судить, какое воздействие имеет эта страсть: в Виченце, например, зловредная глупость австрийского коменданта и полицейского комиссара не может уничтожить шедевры Палладио, не может помешать говорить о них. Именно из-за своей любви к архитектуре так возмущаются итальянцы, прибывающие в Париж, и так живо их восхищение Лондоном. «Где еще, – говорят они, – можно увидеть улицу, равную или подобную Риджент-стрит?»
Молодой священник рассказал мне, что Кóзимо I Медичи, этот роковой для Тосканы правитель, сломивший душевную силу своих подданных, скупал по любой цене и тотчас же сжигал все рукописи мемуарного или исторического содержания, где речь шла о его доме.
При ярком свете луны он показал мне издали развалины городов древней Этрурии, которые неизменно расположены на вершинах холмов. Умиротворяющая тишина этой прекрасной ночи, необыкновенно теплый ветер. В два часа ночи мы снова пустились в путь. Воображение мое устремилось за двадцать один век назад, и – должен сделать читателю это смехотворное признание – я полон негодования на римлян, которые без всякого иного основания, кроме своего свирепого мужества, разгромили эти этрусские республики, столь превосходившие их и своим искусством, и богатством, и умением быть счастливыми. (Этрурия была покорена в 280 году до рождества Христова, после четырехсот лет борьбы.) Все равно как если бы в Париж ворвались двадцать казачьих полков, разоряя город и опустошая его бульвары: ведь это несчастье даже для тех людей, которые родятся через десять столетий, ибо весь род человеческий и искусство быть счастливыми окажутся отброшены на шаг назад.
Вчера вечером в нашей гостинице «Серебряный лев» мы, ужиная в обществе семи – восьми путешественников из Флоренции, сделались предметом неоднократных проявлений изысканного внимания. В довершение удовольствия, испытанного нами в этот вечер, прислуживали нам за столом две девушки редкой красоты: одна блондинка, другая пикантная брюнетка, обе – дочки хозяина. Можно подумать, что Бронзино [269]269
Бронзино, Анджело ди Козимо (1502—1572) – знаменитый итальянский художник, находившийся под некоторым влиянием Микеланджело.
[Закрыть]именно с них рисовал женские фигуры своего знаменитого «Чистилища» [270]270
Тогда оно висело в Санта-Кроче, но с тех пор его перенесли во Флорентийскую картинную галерею, как картину, недостаточно пристойную для церкви. Священники правы. Однако же эта картина два столетия провисела в Санта-Кроче, никого не смущая. Приличия делают успехи, но это источник скуки. – ( Прим. авт.)
[Закрыть], столь презираемого учениками Давида; мне же оно очень нравится, как произведение глубоко тосканское. В Италии каждый город гордится своими красавицами не менее, чем своими великими поэтами. После того как наши сотрапезники налюбовались благородными чертами этих юных крестьянок, они затеяли оживленный спор, сравнивая флорентийских красавиц с миланскими. «Кого можно предпочесть, – сказал флорентинец, – госпожам Панч..., Корс..., Ненчи..., Моцц...?» «Госпожа Чентол... всех превосходит!» – вскричал неаполитанец. «Госпожа Флоренц... может быть, прекраснее госпожи Агост», – заявил один болонец. Не знаю почему, но излагать продолжение этого разговора по-французски представляется мне нескромным. Между тем речи наши были в высшей степени пристойны: мы говорили, словно скульпторы.
В продолжение всего ужина мы перебрасывались шуточками с прислуживавшими нам красавицами. И, как ни странно это для такого места, ни разу никто не сделал поползновения к каким-либо вольностям.
Часто они отвечали на поддразнивания путешественников старинными флорентийскими поговорками или стихами. Дочери зажиточного трактирщика здесь гораздо менее отделены от общества, чем во Франции: ведь в Италии никто никогда не пытался подражать манерам блестящего двора. Когда Фердинанд III появляется среди своих подданных, он производит не больше впечатления, чем произвело бы любое другое частное лицо, очень богатое и потому, может быть, особенно счастливое. Все свободно обсуждают степень его личного благополучия, красоту его жены и т. д. Никому и в голову не приходит подражать его манерам.
Аквапенденте, 4 февраля.Только что видел несколько картин старинной флорентийской школы. Признаюсь, что меня растрогала та верность природе, которую можно найти у Гирландайо и его современников, предшествовавших вторжению идеально-прекрасного в искусство. Это у меня причуда, та же, что внушила мне любовь к Месинджеру [271]271
Месинджер, Филипп (1584—1640) – английский драматург, младший современник Шекспира, автор ряда замечательных для своего времени драматических пьес.
[Закрыть], Форду [272]272
Форд, Джон (1583, ум. около 1640) – английский драматург, отличался несколько напыщенным стилем; значительно уступает Месинджеру, Джонсону и др.
[Закрыть]и другим старым английским драматургам, современникам Шекспира. Идеал же – это чудотворный бальзам, удваивающий силу гения, но губительный для слабых.
Вблизи Больсены, 5 февраля, во время длительного подъема в гору.Мой спутник задремал рядом со мной. Привожу в сокращенном виде анекдот, который он мне только что рассказал.
«Марко Ринони, миланский купец, года три назад выдал свою дочь Лаодинуза молодого человека по имени Теранца, тоже негоцианта, который в свое время был его подопечным. У Лаодины родилось двое детей; она была столь же добродетельна и благочестива, сколь и прекрасна. Как-то, когда мы проходили по Соборной площади, уж не помню кто указал мне на нее как на самую красивую из богатых купчих, еще верных старинной привычке проводить ежедневно несколько часов за своим прилавком. С тех пор я постоянно останавливался перед ее лавкой, и иногда сквозь кружевные шали и кисею, выставленные на витрине, мне удавалось видеть это ангельское лицо. Лаодина была невысока ростом: белокурые волосы, скромный взгляд; полное отсутствие румянца; выражение серьезное и вместе с тем нежное. С полгода назад муж ее заподозрил, что она любит Вальтерну, молодого купца, ее давнего знакомого. Ревнивец отказал Вальтерне от дома, нанял даже двух були, которые избили его палками, и наконец обратился к полиции, чтобы Вальтерне запретили проходить под окнами его дома. Восемнадцатого января – в четверг будет как раз три недели – Лаодина отправилась в театр Канобианы на представление «Поля и Виргинии». Поклонник ее сидел в партере и не спускал с нее глаз. Она же находилась в ложе первого ряда № 5. Лаодина казалась веселее обычного, но потом многие припоминали, что в одном месте пьесы она сказала: «Так кончают настоящие влюбленные».
Еще с утра Лаодина отправила детей к своей матери. Возвратившись около полуночи из театра домой, она дала мужу стакан agro di cedro (нечто вроде лимонада), куда подмешала немного опиума, и сама тоже выпила стакан, куда подмешан был яд. Супруги улеглись; видимо, когда муж уснул, Лаодина заперла его в спальне на ключ и впустила Вальтерну, своего любовника, в общую комнату их небольшой квартиры. Около двух часов ночи соседи услышали какой-то взрыв, но так как все оставалось спокойно, они снова заснули.
На следующее утро в десять часов шурин Теранцы, открывший лавку и удивленный тем, что хозяин не идет, поднял такой шум, что наконец разбудил его. Видя, что жены рядом с ним нет, Теранца вне себя от ревности выбил ногой запертую дверь спальни. Каков его ужас, когда он видит жену и ее любовника мертвыми, лежащими друг против друга! У них оказалось два пистолета: один с ударным капсюлем, другой кремневый; воспользовались они первым. Лаодина покончила с собой выстрелом в рот, однако нисколько не была обезображена. На шее у нее был портрет любовника, на пальцах подаренные им перстни. В левой руке она сжимала другой заряженный пистолет, которым ей не пришлось воспользоваться. Не сказав никому ни слова, Теранца запер дверь на ключ и отправился в полицию объявить о трагическом происшествии. Ревность его была всем известна. Его задержали и выпустили после того, как полицейские врачи установили самоубийство. Так как немцы читали «Вертера», они разрешили похоронить обоих любовников вместе на Campo scelerato (кладбище для самоубийц). Через два дня на их могиле был устроен концерт. Вероятно, будет опубликована их переписка. Из нее видно, что Лаодина никогда не изменяла клятве, данной мужу. Жестокий разлад между добродетелью и любовью заставил ее покончить с собой, а любовник не пожелал оставаться после нее в живых. Они приняли решение умереть еще 25 октября; различные события домашней жизни, между прочим, смерть отца Вальтерны, отсрочили катастрофу до 18 января. Во многих своих письмах Вальтерна пытается уговорить возлюбленную бежать с ним. В своих ответах она укоряет его за недостаток мужества. «Если мы скроемся, – пишет она, – то, не имея денег, неизбежно впадем в нищету, которая, может быть, принудит нас к постыдным деяниям; лучше уж смерть». Все восхищаются письмами Лаодины, и вся Ломбардия обсуждает подробности этого случая.
Веллетри, 6 февраля.В Риме мы провели всего три часа. Издали я видел купол святого Петра, но не пошел туда, так как обещал своему спутнику не делать этого. Если мне удалось увидеть Колизей, то потому, что дорога в Неаполь проходит поблизости от него. Коляска остановилась, и мы за десять минут обежали Колизей. Это, вероятно, одно из пяти-шести самых величественных зрелищ, которые мне представлялись за всю мою жизнь. В Рим мы въехали через знаменитую Порта-дель-Пополо. Но какие мы все же простаки: въезд почти во все другие крупные европейские города гораздо величественнее, а въезд в Париж через Триумфальную арку Звезды в тысячу раз примечательнее. Педанты, которым современный Рим давал возможность блеснуть своим знанием латыни, убедили нас в том, что Рим прекрасен: вот вам и весь секрет репутации вечного города. Нашей коляске пришлось остановиться на улице, по которой маршировали войска, проходящие на большой парад по случаю того, что военный, министр назначен архиепископом. Fabius, ubi es? [273]273
Фабий, где ты? ( лат.)
ФабийКунктатор – римский полководец времен пунических войн.
[Закрыть]На улицах Рима царит запах гнилой капусты. Через роскошные окна дворцов на Корсо видно внутреннее убожество. Оберегая чистоту нравов итальянского населения Рима, папа разрешает театральные представления лишь во время карнавала. Все остальное время года жители Рима довольствуются кукольным театром. Намереваются запретить женщинам выступать на сцене: вместо них играть будут кастраты. Обедали в Армеллино (на Корсо, улице великолепной, узкой и полной дворцов). Визируя наши паспорта, с нас взяли клятву, что мы никогда не служили Мюрату: так это слово написано в тексте клятвы. Какая грубость! Напоминает Капетавремен революции.
Выезжаем через ворота Сан-Джованни-ди-Латерано. Великолепный вид на Аппиеву дорогу, окаймленную рядами полуразрушенных памятников; восхитительное безлюдье римской Кампаньи: необычайное впечатление от развалин среди этой беспредельной тишины. Три часа необычайных переживаний. Как описать подобное чувство! К нему в значительной степени примешивалось благоговение. Чтобы не быть вынужденным разговаривать, я притворился дремлющим. Ехать одному доставило бы мне гораздо больше удовольствия. Римская Кампанья, пересеченная развалинами своих великих акведуков, для меня воплощение возвышеннейшей из трагедий. Это великолепная, совершенно невозделанная равнина. Я остановил коляску, чтобы прочесть несколько римских надписей. Мое страстное преклонение перед подлинно античными надписями несколько наивно и глуповато. Кажется, я преклонил бы колени, чтобы лучше насладиться чтением какой-нибудь надписи, подлинно начертанной римлянами там, где они, обращенные в бегство после Тразименской битвы [274]274
Тразименская битва, в которой римляне потерпели поражение от карфагенского полководца Ганнибала в 217 году до нашей эры.
[Закрыть], впервые остановились. В этой надписи я усмотрел бы величие, которое вдохновляло бы мои мечтания по меньшей мере неделю; я полюбил бы даже форму букв. Ничто не возмущает меня так, как современные надписи: обычно именно в них гнуснейшим образом проявляется все наше ничтожество, злоупотребляющее прилагательными в превосходной степени. Сегодня я размышлял о своих вчерашних переживаниях: проезд через Рим, особенно же вид Кампаньи, взбудоражил мне нервы. До последнего времени я полагал, что ненавижу аристократию; сердце мое искренне считало, что идет вровень с разумом. Банкир Р. сказал мне однажды: «Я замечаю в вас некоторый аристократизм». А я ведь готов был поклясться, что далек от этого на добрую тысячу лье. Теперь же я и вправду обнаруживаю в себе эту болезнь; пытаться исправиться было бы самообманом; и я с наслаждением предаюсь пороку.
Что же такое я? Не знаю. В один прекрасный день пробудился я на этой земле, связанный с каким-то телом, с каким-то характером, с какой-то судьбой. Стану ли я предаваться тщетной забаве, пытаясь изменить их и в то же время забывая жить? Вздор: я подчиняюсь их недостаткам. Я подчиняюсь своим аристократическим склонностям после того, как в течение двадцати лет с полнейшей искренностью витийствовал против всякой аристократии. Я обожаю римские носы, и, тем не менее, будучи французом, я подчиняюсь тому, что наделен свыше носом таким, какой свойствен вообще уроженцам Шампани. Что поделаешь! Римляне явились для человечества великим злом, роковой болезнью, которая задержала развитие цивилизации в мире: без них у нас во Франции уже, может быть, было бы такое же управление, как в Американских Соединенных Штатах. Они уничтожили счастливые республики Этрурии. Они явились к нам в Галлию и исковеркали жизнь наших предков. Нас ведь нельзя было назвать варварами: у нас как-никак была свобода. Римляне создали сложную машину, именуемую монархией, и все это лишь для того, чтобы подготовить гнусное царствование какого-нибудь Нерона, Калигулы и нелепые споры византийцев о несотворенномсвете с горы Фавор.
Несмотря на все эти обвинения, сердце мое – за римлян. Я не вижу ни этрусских республик, ни свободолюбивых обычаев галлов. Напротив, во всей человеческой истории я вижу жизнь и деятельность римского народа, а чтобы любить, надо видеть. Вот как объясню я свое пристрастие к остаткам римского величия, к развалинам, к надписям. Моя слабость идет еще дальше: в древнейших церквах я усматриваю копии античных храмов. Восторжествовавшие после длительных преследований христиане яростно разрушили храм Юпитера, но построили рядом церковь святого Павла [275]275
Например, знаменитая церковь Сан-Паоло-фуори-ле-Мура в Риме, сгоревшая в 1823 году, которую, говорят, попытаются восстановить, создав новый орден, знаки которого будут продаваться. – ( Прим. авт.)
[Закрыть]. При этом они использовали колонны только что разрушенного ими храма Юпитера, а так как у них не было никакого представления об искусствах, они, сами того не подозревая, подражали языческому канону.
Монахи и феодалы, которые теперь – худшая зараза, в свое время действовали отлично. Тогда ничто не делалось ради пустой теории, тогда повиновались необходимости. Нынешние привилегированные предлагают взрослому человеку пить молочко и ходить на помочах. Нет ничего нелепее, но все мы так начинали. Что до меня, то я считаю святого Франциска Ассизского [276]276
Франциск Ассизский(1182—1226) – один из самых видных деятелей христианства, проповедник бедности, основатель ордена нищенствующих монахов.
[Закрыть]подлинно великим человеком. Может быть, именно в силу этих убеждений, возникших у меня как-то бессознательно, я и чувствую некоторую склонность к соборам и древним церковным обрядам. Но мне нужно, чтобы они были действительно древними: как только речь заходит о св. Доминике [277]277
Св. Доминик(1170—1221) – основатель Доминиканского ордена, одной из главных целей которого была борьба с ересями, в частности с альбигойцами; доминиканцы играли первенствующую роль в инквизиции.
[Закрыть]и об инквизиции, я вижу разгром альбигойцев, «спасительные жестокости» Варфоломеевой ночи [278]278
Варфоломеева ночь, или Парижская кровавая свадьба. – 24 августа 1752 года по наущению Екатерины Медичи и ее сторонников в Париже было сразу убито свыше двух тысяч гугенотов, собравшихся на свадьбу своего вождя Генриха Наваррского и Маргариты Валуа, сестры Карла IX. Эти убийства послужили сигналом к избиению гугенотов во всей Франции.
[Закрыть]и по естественной ассоциации Нимские убийства [279]279
Нимские убийства.– Стендаль имеет в виду жестокий белый террор в Ниме в 1815 году, во время которого был зверски убит генерал Лагард.
[Закрыть]1815 года. Признаюсь, весь мой аристократизм улетучивается при виде гнусных Трестальонов и Трюфеми [280]280
Трестальон и Трюфеми– главари шаек, безнаказанно избивавших на юге Франции протестантов и лиц, связанных с революцией и с режимом Наполеона, в 1815 году.
[Закрыть].
Выехав из Альбано, мы увидели тотчас же за могилой Горациев и Куриациев прелестную долину – первый после Болоньи и нашей милой Ломбардии красивый пейзаж.
Необычное положение дворца Киджи; красивые деревья, вид на море; величавый пейзаж; итало-греческая архитектура.
7 февраля.В Террачине, в прекрасной гостинице [281]281
В Террачине, в прекрасной гостинице...– Встреча с Россини в Террачине является чистейшим вымыслом.
[Закрыть], построенной Пием VI, который умел править государством, нам предложили отужинать вместе с путешественниками, прибывшими из Неаполя. Среди семи-восьми человек я замечаю очень красивого молодого блондина, немного лысеющего, лет двадцати пяти – двадцати шести. Спрашиваю его о неаполитанских новостях, особенно музыкальных; ответы его точны, блестяще остроумны. Спрашиваю, есть ли у меня надежда еще увидеть в Неаполе «Отелло» Россини, – он отвечает улыбкой. Говорю ему, что, на мой взгляд, Россини – это надежда итальянской музыкальной школы, единственный человек, от природы наделенный гением, успех которого зиждется не на богатстве аккомпанемента, а на красоте самих голосовых партий. Тут я замечаю у своего собеседника некоторое смущение, спутники его улыбаются: оказывается, это сам Россини. К счастью и благодаря чистой случайности, я не упомянул ни о лености, присущей этому одаренному композитору, ни о его многочисленных заимствованиях у других.
Он сказал мне, что Неаполь требует не той музыки, что Рим, а Риму нужна не та, что Милану. Оплачивают композиторов очень плохо! Приходится носиться по всей Италии взад и вперед, а самая лучшая опера не приносит и двух тысяч франков. Он сказал мне, что «Отелло» удался ему лишь наполовину, что он едет в Рим писать «Золушку», а оттуда в Милан сочинять «Сороку-воровку» для Скáла.
Этот гениально одаренный бедняк живо заинтересовал меня. Нельзя сказать, чтобы он не был весел и в общем довольно счастлив. Но какая жалость, что в этой несчастной стране нет монарха, который дал бы ему пенсию в две тысячи экю и тем самым возможность писать музыку лишь тогда, когда наступит прилив вдохновения! Хватит ли духу укорять его за то, что он создает за каких-нибудь две недели целую оперу? Пишет он на плохом столе, в кухонном шуме трактира, скверными чернилами, которые ему приносят в старой банке от помады. Это, по-моему, самый светлый ум в Италии, о чем он, наверное, сам даже не подозревает, ибо в этой стране все еще царят педанты. Я выразил ему все свое восхищение перед «Italiana in Algeri» («Итальянка в Алжире») и спросил, что ему самому больше нравится – «Итальянка» или «Танкред», на что получил ответ: «Matrimonio segreto» («Тайный брак)». В этом есть своего рода изящная смелость, ибо «Тайный брак» здесь так же забыт, как в Париже трагедии Дюсиса. Почему он не предъявляет своих авторских прав тем труппам, которые исполняют его двадцать опер? Но тут он объяснил мне, что при царящей в Италии неурядице об этом думать нечего.
Мы оставались за чаем и после полуночи: это был самый приятный из вечеров, проведенных мною в Италии, это – веселость счастливого человека. Расстался я наконец с великим композитором, охваченный каким-то грустным чувством. Канова и он – вот все, чем обладает из-за нынешних своих правителей страна гениев. С горькой радостью повторяю про себя слова Фальстафа:
Капуя, 8 февраля.Спрашиваю, есть ли сегодня спектакль, и, услышав утвердительный ответ, бегу в театр. Я хорошо сделал: «Nozze di Campagna» («Сельская свадьба»), искусно написанная опера холодного Гульельми (сына великого композитора), разыграна и спета с огромным оживлением и слаженностью тремя-четырьмя беднягами, получающими по восьми франков за каждое выступление.
Примадонна, высокая, хорошо сложенная женщина, брюнетка, пикантная и disinvolta, поет и играет с большим талантом. Я забываю весь свой гнев против римского опошления, вновь обретаю счастье. Герой либретто, за которое стихотворцу было заплачено тридцать франков, – синьор, влюбленный в одну из своих подданных(здесь это слово – самое подходящее); девушка собирается выходить замуж за крестьянского парня, говорящего на неаполитанском наречии. Каждый раз, когда синьор является с объяснением в любви, возникает какая-нибудь помеха, и ему приходится скрываться. Искренняя, полная нежности и отчаяния ревность бедного крестьянина трогает зрителя. Все местные наречия естественны и как-то скорее доходят до сердца, чем литературные языки: ведь на неаполитанском мне и двух слов не понять. Два часа живейшего удовольствия – завязываю разговор с соседями, ярыми поклонниками Наполеона. Они говорят, что судьи уже переставали брать взятки: раньше из десяти грабителей подвергался наказанию один, и т. д., и т. п.
Опера кончилась в полночь, в час мы уже выехали. Австрийцы через каждую четверть мили поставили караулки с солдатами, приведя в ярость грабителей, которые помирают с голоду.
Неаполь, 9 февраля. [283]283
Неаполь, 9 февраля.– Пребывание Стендаля в Неаполе в феврале 1817 года не подтверждается никакими данными. Напротив, есть все основания думать, что с конца января и до начала апреля, когда он выехал в Гренобль, он находился в Милане.
[Закрыть]Въезд грандиозный: целый час спускаешься к морю по широкой дороге, прорезанной прямо в мягкой скале, на которой построен город. Прочность стен. Первое здание на пути – Альберго деи Повери. Оно производит гораздо более сильное впечатление, чем эта всеми расхваленная бонбоньерка, называемая в Риме Порта-дель-Пополо.
Вот и Палаццо деи Студи; за ним поворот налево – Толедская улица. Вот одна из главных целей моего путешествия – самая оживленная и веселая улица в мире. Поверят ли мне? Мы в течение пяти часов бегали по гостиницам: здесь сейчас, наверно, не менее двух-трех тысяч англичан. Наконец я нашел приют на седьмом этаже, но зато напротив Сан-Карло и с видом на Везувий и на море.
Сегодня вечером Сан-Карло закрыт. Мы устремляемся в Фьорентини. Это маленький театр в форме удлиненной подковы, превосходный в музыкальном отношении, почти как Лувуа. Здесь, как и в Риме, места нумерованные, первые ряды уже распроданы. Дают «Павла и Виргинию» – модную пьесу Гульельми. За двойную цену достаю билет во втором ряду. Зал блистательный: все ложи полны, и женщины там в своих самых роскошных туалетах. Ибо здесь не то, что в Милане, – здесь на все наводится лоск.
Увертюра исключительно сложная. В ней переплетаются тридцать или сорок мотивов, так что не имеешь времени ни разобраться в них, ни проникнуться ими: работа трудная, сухая и скучная. К подъему занавеса чувствуешь себя уже утомленным этой музыкой.
Перед нами Павел и Виргиния, их исполняют госпожи Шабран и Канóничи. Последняя с каким-то необычайным жеманством изображает Павла. Влюбленные заблудились, как и во французской опере. Дуэт, полный аффектированной грации. Появляется добрый Доминго; это знаменитый Казача, неаполитанский Потье [284]284
Потье(1775—1835) – французский комический актер бульварных театров.
[Закрыть]он говорит на народном жаргоне. Он огромный, что дает ему повод для довольно забавных lazzi [285]285
Шуток, выходок ( итал.).
[Закрыть]. Садясь и желая устроиться поудобнее, он пытается скрестить ноги – невозможно; усилие, которое он делает, опрокидывает его на соседа, и все валятся, как в романе Пиго-Лебрена. Актер этот фамильярно именуется Казачелло, и публика его обожает. Голос у него гнусавый, как у капуцина. Но в этом театре все поют в нос. Мне показалось, что он часто повторяется, и под конец он стал забавлять меня гораздо меньше.
Людей севера развеселить не так легко, как южан: взрыв смехадается им гораздо труднее. Доминго – Казачелло доводит Павла и Виргинию до дому. У Виргинии есть отец. Это превосходный первый бас Пеллегрини, неаполитанский Мартен: с французским актером его роднит холодность исполнения и гибкость голоса. Он всегда доставлял мне большое удовольствие в ариях, не требующих страстности. Это красавец в итальянском вкусе – с огромным носом и черной бородой. Говорят, он имеет большой успех у женщин. Я могу сказать только, что он весьма любезен.
Капитан корабля, тенор, – привлекательный мужчина, но холоден, как лед; он уроженец Венеции, где был супрефектом. У г-жи Шабран довольно красивый голос, но она еще более холодна, чем Канóничи и Пеллегрини, Г-жа Шабран куда хуже маленькой Фабр из Милана, худощавое лицо которой порою выражает нечто вроде чувства. Весь этот ансамбль вполне удовлетворяет великосветскую чернь: в нем ничто не коробит, но и вообще ничего нет для зрителя, ищущего изображения страстей.
Фьорентини – театр новый и красивый. Авансцена чрезмерно узка. Декорации жалкие, подобно музыке, которая, впрочем, имела большой успех: зачастую в зале возникала сосредоточенная тишина. Раза два-три при исполнении излюбленных публикой арий слышались со всех сторон «тс...». И все же музыка плачевная, какая-то одноцветная: словно холодный по натуре человек пытается проявить чувство. Нет ничего пошлее, но ведь глупцам нравится опера semi-seria [286]286
Полусерьезная ( итал.).
[Закрыть]: они понимают горе и не понимают комического. В неаполитанских фарсах, вроде того, что я видел в Капуе, человеческое сердце изображается гораздо более правдиво. Гульельми очень много аплодируют, и крики «браво», видимо, вполне, искренни, но, тем не менее, музыка эта неумолимо свидетельствует о том, что это потуги ума на гениальность. Впрочем, таков уж наш век. Почему бы Гульельми не приехать в Париж? Там бы он сразу прослыл великим человеком. Это воскресший Гретри [287]287
Это воскресший Гретри...– Сравнение, лестное для Гульельми. Гретри, Андре (1741—1813) – один из лучших французских композиторов в области оперы-буфф. Его оперы («Земира», «Ричард Львиное сердце» и т. д.) отличались естественностью, экспрессивностью и знанием театра.
[Закрыть], только в своей манере он все же не так разменивается на мелочи. Музыка его тоже несколько трачена молью, да простят мне это грубое, но живописное выражение. Иногда Гульельми, стянув без лишних церемоний у Россини десять – двенадцать тактов, умеет создать впечатление чего-то свежего. То же самое, как если бы Натуар [288]288
Натуáр, Шарль (1700—1777) – французский художник, представитель условного академического маньеризма, заботившийся прежде всего о внешней элегантности и красивости своих произведений.
[Закрыть]или Де Труа [289]289
Де Труа, Жан Франсуа (1679—1752) – французский художник, автор ряда исторических картин.
[Закрыть]позаимствовали одну из голов Гвидо.








