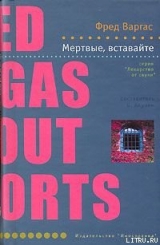
Текст книги "Мертвые, вставайте!"
Автор книги: Фред Варгас
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Фред Варгас
Мертвые, вставайте
Моему брату
1
– Что-то не так с нашим садом, Пьер, – сказала София.
Она открыла окно и оглядела клочок земли, где знала каждую травинку. От увиденного у нее по спине пробежал холодок.
Пьер завтракал и читал газету. Наверное, поэтому София все чаще смотрела в окно. Узнать, какая погода. Так нередко делают по утрам. Каждый раз, когда было пасмурно, она думала о Греции. Неподвижное созерцание постепенно заполнялось тоскливыми воспоминаниями, у которых порой был горький привкус. Потом все проходило. Но сегодня в саду что-то не так.
– Пьер, в саду дерево.
Она присела рядом.
– Посмотри на меня, Пьер.
Пьер поднял к жене усталое лицо. Привычным жестом, сохранившимся с той поры, когда она была певицей, София поправила шейный платок. Держать голос в тепле. Двадцать лет тому назад на каменных ступенях театра в Оранже Пьер возвел перед ней непоколебимую скалу любовных клятв и заверений. Прямо перед спектаклем.
София не дала хмурому любителю газет опустить голову.
– Что на тебя нашло, София?
– Я кое-что сказала.
– Да?
– Я сказала: «В саду дерево».
– Я слышал. Но ведь так и должно быть?
– В нашем саду растет дерево, которого не было вчера.
– Ну и что с того?
Софии было не по себе. Она не знала, в газете ли дело, в усталом взгляде или в дереве, но ясно, что что-то не так.
– Объясни мне, Пьер, как это дерево могло само появиться в саду.
Пьер пожал плечами. Ему совершенно безразлично.
– Что за важность! Деревья размножаются. Семя, росток, побег – и пожалуйста. В нашем климате так вырастают целые леса. Думаю, ты и без меня знаешь.
– Но это не побег. Это дерево! Молодое стройное деревце, с ветвями и всем прочим, выросло само по себе в метре от задней стены. И что ты об этом думаешь?
– Думаю, его посадил садовник.
– Садовник уехал на десять дней, и я ни о чем его не просила. Так что это не садовник.
– Мне все равно. Неужели ты полагаешь, что я стану переживать из-за стройного деревца у задней стены?
– Ты не хочешь встать и взглянуть на него? Сделай хотя бы это.
Пьер тяжело поднялся. Ему так и не дали насладиться газетой.
– Видишь?
– Вижу, конечно. Дерево.
– Вчера его там не было.
– Очень может быть.
– Так и есть. Что будем делать? Как ты думаешь?
– Что тут думать?
– Это дерево меня пугает.
Пьер засмеялся. Даже сделал ласковый, хоть и мимолетный жест.
– Правда, Пьер. Оно пугает меня.
– А меня – нет, – сказал он, усаживаясь обратно. – Визит этого деревца мне даже приятен. Давай просто оставим его в покое. А ты оставишь в покое меня. Может быть, кто-то ошибся садом, тем хуже для него.
– Но его посадили ночью, Пьер!
– Тем легче было перепутать сад. Или же это подарок. Тебе это в голову не пришло? Какой-нибудь поклонник тайно отметил твое пятидесятилетие. Поклонники способны на такие несуразные выходки, особенно поклонники-мыши, безвестные и упорные. Пойди взгляни, может, там и записка есть.
София задумалась. Мысль была не так уж глупа. Пьер подразделял поклонников на две большие категории. К первой относились поклонники-мыши – боязливые, нервные, безмолвные и неистребимые. Пьер знал одну мышку, за зиму перетаскавшую в резиновый сапог целый пакет риса. По зернышку. Поклонники-мыши именно таковы. Ко второй категории относились поклонники-носороги, по-своему столь же устрашающие, но шумные, громогласные и уверенные в себе. Эти две категории Пьер разбивал на множество подкатегорий. София хорошенько всего не помнила. Пьер презирал и поклонников, которые были до него, и тех, что появились позднее, то есть всех. Но насчет дерева он, возможно, прав. Может быть, но не наверняка. Она слышала, как Пьер сказал: «до-свиданья-до-вечера-не-беспокойся-об-этом», и осталась одна.
С деревом.
Она пошла и осмотрела его. С такой опаской, будто оно могло взорваться.
Ясно, никакой записки там не было. Только круг свежевскопанной земли у подножия дерева. Что за дерево? София несколько раз обошла вокруг него, хмурая и настороженная. Она склонна была думать, что это бук. Склонялась она и к тому, чтобы выдернуть его из земли, но, будучи немного суеверной, не решалась посягать на жизнь, пусть даже и растительную. В самом деле, мало кому понравится вырывать деревья, которые ничего вам не сделали.
Она потратила много времени на поиски книги о деревьях. Помимо оперы, мифологии и ослов, София не успела в чем-либо приобрести глубоких познаний. Бук? Нельзя быть уверенной, не видя листьев. Она просмотрела указатель, чтобы узнать, не может ли дерево называться «София такая-то». Подобные скрытые почести вполне в извращенном вкусе поклонника-мыши. Это ее успокоило бы. Нет, на «Софию» ничего не нашлось. А может, существует вид «Стелиос такой-то»? Это было бы не очень приятно. Стелиос не имел ничего общего ни с мышью, ни с носорогом. И он почитал деревья. После скалы клятв, возведенной Пьером на ступенях в Оранже, София думала, как ей бросить Сте-лиоса, и потому пела не так хорошо, как всегда. А этот безумный грек не придумал ничего лучше, чем броситься в Средиземное море. Его выловили почти бездыханным из воды, где он бултыхался как последний дурак. Подростками София и Стелиос обожали уходить из Дельф, бродить по тропинкам с ослами, козами, и все такое прочее. Они называли это «играть в древних греков». И этот идиот хотел утопиться. К счастью, при ней была скала чувств Пьера. Теперь Софии случалось искать на ощупь ее редкие обломки. Стелиос? Угроза? Мог ли это сделать Стелиос? Да, он на такое способен. Когда его все-таки выловили из Средиземного моря, он словно одурел и орал как безумный. Сердце Софии колотилось слишком быстро. Она сделала усилие, чтобы встать, выпить стакан воды, бросить взгляд в окно.
И тут же успокоилась. Что такое взбрело ей в голову? Она глубоко вздохнула. Эта ее манера городить ужасы на пустом месте! Почти наверняка это всего лишь бук, и ничего он не означает. Но как тот, кто его посадил, пробрался ночью в сад? София наскоро оделась, вышла, осмотрела замок в садовой решетке. Ничего примечательного. Но замок так прост, что его можно в два счета открыть отверткой, не оставив следов.
Стояла ранняя весна. Было сыро, и она зябла возле бука, глядя на него с вызовом. Бук. Бука! София оборвала себя. Она терпеть не могла, когда ее греческая душа расходилась, как сейчас, да еще два раза подряд за одно утро. Надо думать о том, что Пьеру на это дерево совершенно наплевать. А впрочем, почему ему наплевать? Разве нормально, что он до такой степени безразличен?
Софии не хотелось оставаться весь день наедине с деревом. Она взяла сумку и вышла. На улице какой-то молодой тип, лет тридцати или чуть старше, разглядывал сквозь решетку соседний дом. Дом – это громко сказано. Пьер говорил всегда «Гнилая лачуга». Он считал, что на их привилегированной улице с ухоженными домами эта пустующая уже много лет Гнилая лачуга производит гадкое впечатление. До сих пор София как-то не задумывалась о том, что с возрастом Пьер, похоже, поглупел. Теперь эта мысль закралась ей в голову. Вот и первое пагубное влияние дерева, подумала она не вполне искренне. Пьер даже велел надстроить стену между домами, чтобы получше отгородиться от Гнилой лачуги. Теперь ее видно лишь из окон третьего этажа. А вот молодой тип, напротив, глазел на фасад с провалившимися окнами с восхищением. Он был худ, черноволос и одет в черное, одна рука вся в массивных серебряных перстнях, лицо угловатое, лоб прижат к прутьям ржавой решетки.
Такой тип не понравился бы Пьеру. Пьер – сторонник умеренности и трезвости. А молодой тип был элегантен, одет строго и в то же время крикливо. Красивые руки вцепились в решетку. При виде его София несколько приободрилась. Поэтому, конечно, она у него и спросила, как, по его мнению, называется вон то дерево. Молодой тип оторвал лоб от решетки, оставившей следы ржавчины на его черных жестких волосах. Долго же, должно быть, он к ней прижимался. Не удивляясь и не задавая вопросов, он последовал за Софией, которая показала ему дерево, хорошо видное с улицы.
– Это бук, мадам, – сказал молодой тип.
– Вы уверены? Простите, но это очень важно. Молодой тип посмотрел еще раз. Своими темными, еще не потускневшими глазами.
– Никаких сомнений, мадам.
– Благодарю вас, месье. Вы очень любезны.
Она улыбнулась ему и ушла. Молодой тип тоже
тут же ушел, пиная носком ботинка камешек.
Значит, она права. Это бук. Просто бук.
Какая гадость.
2
Ну вот. Именно это и называется сидеть в дерьме. Давно ли? Да уже года два.
А на исходе двух лет – свет в конце туннеля. Марк ударил по камешку носком и отбросил его метров на шесть. На парижском тротуаре непросто найти камешек, чтобы пнуть ногой. Другое дело – в деревне. Но в деревне это ни к чему. Тогда как в Париже иногда очень нужен подходящий камешек, чтобы было по чему ударить. Иначе никак. И вот – краткий проблеск света в кромешном дерьме – час назад Марку повезло найти совершенно правильный камешек. Теперь он бил по нему ногой и шел следом.
Тот привел его, не без некоторых затруднений, на улицу Сен-Жак. Касаться камешка руками нельзя – только ногой. Итак, уже два года. Без работы, без денег, а теперь и без жены. И впереди ничего хорошего. Разве что эта лачуга. Он видел ее вчера утром. Пять этажей, считая чердак, садик, на безвестной улочке и в жалком состоянии. Всюду дыры, отопления нет, и туалет в саду, с деревянной щеколдой. Прищуриться – чудо. Открыть глаза – катастрофа. Зато владелец сдает ее за гроши, только нужно привести дом в порядок. С этой лачугой он бы выбрался из дерьма. Он поселил бы там и крестного. Чудной вопрос задала ему какая-то женщина неподалеку от лачуги. О чем она спрашивала? Ах да. Название дерева. Странно, что люди ничего не смыслят в деревьях, хотя не могут без них обойтись. Возможно, по сути они и правы. Он-то названия знал, а что толку, по правде говоря?
На улице Сен-Жак камешек сбился с пути. Камешкам не нравятся улицы, идущие в гору. Он упал в водосточный желоб, да еще прямо за Сорбонной. Привет тебе, Средневековье, и прощай. Привет вам, клирики, сеньоры и крестьяне. Привет. Марк сжал кулаки в карманах. Ни работы, ни денег, ни жены, ни Средневековья. Вот свинство. Марк ловко поддел камешек, и тот выскочил из желоба на тротуар. Есть прием, как заставить камешек катится вверх по мостовой. И Марк, кажется, знал его не хуже, чем Средние века. Главное, прекратить думать о Средних веках. Вот в деревне никогда не приходится решать, как вкатить камешек вверх по мостовой. Потому в деревне и не станешь пинать камешки, хотя их там тонны. Камешек Марка успешно перебрался через улицу Суфло и без особых проблем выкатился на узкую часть улицы Сен-Жак.
Два года. А на исходе двух лет единственное, что приходит в голову человеку, погрязшему в дерьме, – найти другого человека по уши в дерьме.
Ибо в тридцать пять лет вредно встречаться с теми, кто преуспел там, где ты все упустил, – это портит характер. Хотя поначалу даже отвлекает, будит мечтания, бодрит. Но потом начинает действовать на нервы и портит характер. Это хорошо известно. А Марк больше всего не хотел ожесточаться. Это скверно и рискованно, особенно для медиевиста. Сильным ударом он закинул камешек на Валь-де-Грас.
Был один человек, о котором он слышал, будто тот в дерьме. И по последним известиям, Матиас Деламар воистину давненько пребывал в дерьме. Марк любил его, даже очень. Но за эти два года они не виделись. Может быть, вместе с ним Марк сможет снять лачугу. Ибо в настоящий момент он в состоянии внести только треть этой самой грошовой платы. А ответ надо дать быстро.
Вздохнув, Марк подтолкнул камешек к дверце телефонной будки. Если с Матиасом получится, он наверняка уладит дело. Только вот была с Матиасом одна серьезная неувязка. Он ведь специалист по доисторической эпохе. А для Марка этим все сказано. Но разве сейчас время быть сектантом? Несмотря на разделявшую их чудовищную пропасть, они ладили. Даже странно. И думать надо об этой странности, а не об ошибке Матиаса, избравшего эту кошмарную эпоху охотников-собирателей с кремниевыми орудиями. Марк помнил номер его телефона. Ему ответили, что Матиас там больше не живет, и дали другой номер. Он решительно набрал и его. Матиас был дома. Заслышав его голос, Марк перевел дух. Если в среду в двадцать минут четвертого тип тридцати пяти лет сидит дома, это ощутимое подтверждение того, что он в первоклассном дерьме. Уже хорошая новость. А уж если он, не прося никаких объяснений, соглашается встретиться через полчаса в занюханной кафешке в Фобур-Сен-Жак, значит, он созрел, чтобы согласиться на что угодно.
Хотя…
3
Хотя… Из этого типа нельзя вить веревки. Матиас упрям и горд. Так же горд, как он сам? Возможно, еще хуже. Тип охотника-собирателя, который преследует зубра до полного изнеможения и скорее уйдет из племени, чем вернется ни с чем. Ну нет. Это портрет придурка, а Матиас гораздо тоньше. Но он мог не проронить ни слова за два дня, если жизнь опровергла одну из его идей. Может быть, у него слишком крутые идеи или же неукротимые желания. Сталкиваясь в коридорах факультета с этим молчуном, великим охотником-собирателем, затерявшимся в погоне за зубром, Марк, умевший языком плести узоры не хуже кружевницы и нередко утомлявший своих слушателей, частенько прикусывал язык, когда светловолосый верзила с синими глазами медленно стискивал свои большие руки, словно хотел сокрушить злую судьбу. Уж не нормандец ли он? Марк сообразил, что за четыре года, проведенные бок о бок, он не удосужился поинтересоваться его происхождением. Ну и ладно. Успеется.
В кафе делать было нечего, и Марк ждал. Пальцем он рисовал на столике скульптурные мотивы. Кисти у него худые и длинные. Ему очень нравилась их точная лепка и выступающие вены. Насчет всего остального у него были серьезные сомнения. Но стоит ли об этом думать? Только потому, что ему предстоит увидеть великого светловолосого охотника? И что с того? Конечно, он, Марк, среднего роста, худой, с угловатым лицом и телом, – не вполне идеальный парень для охоты на зубра. Его скорее послали бы лазить по деревьям, стряхивать плоды. Собиратель, так-то вот. Весь из себя утонченно-нервный. Ну и что? Тонкость тоже нужна. Деньги кончились. У него еще остались перстни, четыре больших серебряных перстня, два из них с золотыми нитями, броские и сложные, не то африканские, не то каролингские, унизывавшие пальцы его левой руки. Жена бросила его ради более широкоплечего типа, это уж точно. И наверняка еще худшего придурка. Однажды она это поймет, Марк очень на это рассчитывает. Но будет слишком поздно.
Быстрым движением Марк стер свой рисунок. Статуя ему не удалась. Вспышка раздражения. Без конца эти вспышки раздражения, бессильной ярости. Легче легкого рисовать карикатуры на Матиаса. А он сам? Кто он еще, как не упаднический медиевист, этакий щуплый элегантный брюнет, изящный и упорный искатель бесполезных вещей, продукт роскоши, потерпевший крушение в надеждах, в несбыточных мечтах цепляющийся за серебряные перстни, за видения тысячного года, за крестьян с тачками, которые умерли много веков назад, за забытый романский язык, на который, по-хорошему, всем наплевать, и за женщину, которая его бросила? Марк поднял голову. На другой стороне улицы был огромный гараж. Марк не любил гаражи. Они наводили на него тоску. Мимо этого длинного гаража крупными неспешными шагами продвигался охотник-собиратель. Марк улыбнулся. Все тот же блондин с непокорными густыми волосами, обутый в неизменные кожаные сандалии, которые Марк терпеть не мог, Матиас шел на встречу с ним. Как всегда, под одеждой он казался голым. Матиас почему-то всегда выглядел голым под одеждой. Свитер на голое тело, брюки прямо на бедрах, сандалии на босу ногу.
В любом случае, какими бы они ни были – один безыскусственный и грузноватый, другой утонченный и сухощавый, – сейчас они встретятся за столиком этого уродского кафе. Одно другому не помеха.
– Ты сбрил бороду? – спросил Марк. – Бросил наконец доисторическую эпоху?
– Не бросил, – сказал Матиас.
– И где ты ее изучаешь?
– В голове.
Марк кивнул. Ему сказали правду, Матиас по уши в дерьме.
– Что у тебя с руками?
Матиас покосился на свои черные ногти.
– Работал механиком в гараже. Выгнали. Сказали, что я ничего не смыслю в моторах. Я за неделю уделал целых три. Сложная штука эти моторы. Особенно когда ломаются.
– А теперь?
– Торгую всякой ерундой – плакатами на станции Шатле.
– Доходное место?
– Нет. Ну а ты?
– Я на нуле. Работал негром в издательстве.
– Средние века?
– Любовные романы в восемьдесят страниц. Мужчина вероломен, но опытен, женщина блистательна, но невинна. Потом они любят друг друга как безумные – скучища смертная. О том, как они расстаются, ничего не известно.
– Ясно… – сказал Матиас. – Ушел?
– Выгнали. Я изменял кое-какие фразы в гранках. От досады и раздражения. Они заметили… Ты женат? Подружка? Дети есть?
– Пусто, – сказал Матиас.
Они помолчали и посмотрели друг на друга.
– Сколько же нам лет? – спросил Матиас.
– Около тридцати пяти. Обычно это возраст мужчины.
– Да, говорят. Ты все еще влюблен в эти чертовы Средние века?
Марк кивнул.
– Все-таки досадно, – сказал Матиас. – Тут ты всегда был неразумным.
– Не надо об этом, Матиас, теперь не время. Где ты живешь?
– Снимаю комнату, из которой должен убраться через десять дней. Уже не могу с этими плакатами позволить себе двадцать квадратных метров. Качусь, так сказать, по наклонной плоскости.
Матиас стиснул руки.
– Сейчас я покажу тебе одну лачугу, – сказал Марк. – Если договоримся, вместе мы, возможно, преодолеем те тридцать тысяч лет, которые нас разделяют.
– И выберемся из дерьма?
– Понятия не имею. Ты идешь?
Матиас, равнодушный и даже скорее враждебный ко всему, что происходило позднее чем за десять тысяч лет до Рождества Христова, всегда делал непостижимое исключение для этого тощего медиевиста, вечно в черном и с серебряным поясом. По правде говоря, эту свою дружескую слабость он считал проявлением дурного вкуса. Но привязанность к Марку и уважение к его гибкому и отточенному уму вынуждали его мириться с возмутительным пристрастием друга к столь упадническим временам в человеческой истории. Несмотря на этот шокирующий недостаток, он был склонен доверять Марку и даже частенько позволял себе идти на поводу его нелепых фантазий разорившегося вельможи. Даже сегодня, когда было ясно, что обнищавший феодал напрочь выбит из седла и вынужден взять в руки страннический посох, словом, пребывает в таком же дерьме, как он сам, что, впрочем, доставляло ему удовольствие, – даже таким Марк не утратил своего захудалого изящества и победительного величия. Да, в глубине глаз скопилось немного горечи, а еще печаль от ударов и потрясений, без которых он, конечно, предпочел бы обойтись, – все это есть. Но осталось его обаяние, следы мечтаний: свои собственные Матиас порастерял в поездах метро на станции Шатле.
Да, похоже, Марк и не думал изменять своему Средневековью. Но все же Матиас пойдет с ним к лачуге, о которой тот рассказывал ему по пути. Свои объяснения он подкреплял, вертя в сером воздухе унизанными перстнями пальцами. Итак, полуразвалившаяся лачуга в пять этажей, считая чердак, и сад. Это Матиаса не пугало. Попытаться вместе набрать нужную сумму. Разжечь огонь в очаге. Поселить там старикана, крестного Марка. Что еще за старикан крестный? Ему некуда больше идти – либо сюда, либо в дом престарелых. Ах так, ну и ладно. Матиасу было плевать. Очертания станции Шатле постепенно заволакивались дымкой. Он шел по улицам вслед за Марком, удовлетворенный тем, что тот в дерьме, удовлетворенный прискорбной никчемностью безработного медиевиста, мишурным блеском его наряда, лачугой, где они, конечно, промерзнут до костей, ведь еще только март. Он был настолько удовлетворен, что, очутившись на одной из безвестных парижских улочек перед разбитой решеткой, за которой в высокой траве виднелась лачуга, оказался не способен объективно оценить обветшалость этого надела. Все вместе показалось ему самим совершенством. Он повернулся к Марку и пожал ему руку. Заметано. Вот только его заработков мелочного торговца не хватит. Марк, прислонившись к решетке, согласился. Оба вновь посерьезнели. Повисло долгое молчание. Они искали. Еще одного психа по уши в дерьме. Наконец Матиас назвал имя: Люсьен Девернуа. Марк воскликнул:
– Шутишь, Матиас! Девернуа? Ты что, забыл, чем занимается этот тип? Забыл, кто он?
– Да, – вздохнул Матиас. – Историк Первой мировой. Четырнадцатый – восемнадцатый годы.
– Ну вот! Сам видишь, ты дал маху… Знаю, мы на мели и не время цепляться к мелочам. Но все же у нас есть немного прошлого, чтобы мечтать о будущем. А что ты предлагаешь? Первую мировую? Историка Нового времени? А что потом? Ты хоть понимаешь, что говоришь?
– Да, – сказал Матиас, – но ведь парень далеко не дурак.
– Вроде бы нет. Тем не менее. И думать о нем нельзя. Всему есть предел, Матиас.
– Мне это так же неприятно, как тебе. Хотя по мне, что Средние века, что Новое время – почти одно и то же.
– Ты бы выбирал выражения.
– Да. Но я так понял, что Девернуа перебивается на крошечной зарплате и сидит в дерьме.
Марк прищурился.
– В дерьме? – переспросил он.
– Именно. Оставил преподавание в общей средней школе в Hop-Па-де-Кале. Жалкие полставки в частном христианском коллеже в Париже. Тоска, разочарование, писанина и одиночество.
– Выходит, он и впрямь в дерьме… Что же ты сразу не сказал?
Марк замер на несколько секунд. Он быстро размышлял.
– Раз так, это все меняет! – заговорил он. – Двигай, Матиас! Первая мировая, не Первая мировая – закроем на все глаза, будем мужественны и стойки. Постарайся разыскать его и убедить. Встречаемся здесь в семь часов, я приду вместе с владельцем. Сегодня вечером нужно все уладить. Шевелись, крутись и будь убедителен. Когда трое вляпались в дерьмо, им по силам и полная катастрофа.
Они махнули друг другу рукой и разошлись – Марк бегом, Матиас шагом.








