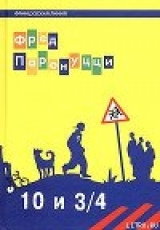
Текст книги "10 лет и 3/4"
Автор книги: Фред Паронуцци
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
– Я не слишком высокий, – пояснил он, вытирая лоб платком.
Мы, конечно, уже сами это заметили и дружески улыбнулись, показывая, что рост для нас значения не имеет, главное, что он хороший специалист по яйцам.
– Я получил карту вашего сына, – добавил он, – я все прочту, и мы назначим день операции. Вы, главное, не волнуйтесь, операция совершенно не сложная.
Меня быстро раздели, и все склонились над моим рогаликом, внимая докторским комментариям.
– Расслабься, цыпленочек, – сказал доктор ласково, – ты весь напрягся. Давай-ка расслабься…
Потом медицинская наука блеснула перед нами во всей своей мощи. Эмиль Раманоцоваминоа ответил на все наши вопросы, даже продемонстрировал схемы. Наконец он спросил, не беспокоит ли меня что-нибудь еще, и я спросил, не приходилось ли ему оперировать великого Жана-Клода Кили на предмет неопускания яичек.
Доктор смеялся так, что ему даже пришлось снять запотевшие очки и вытереть их платком. Его смех был настолько заразителен, что мы все захохотали вслед за ним, просто покатывались со смеху. Доктор Раманоцоваминоа содрогался всем телом, будто это был его первый и последний шанс посмеяться вволю и он хотел воспользоваться им сполна. Он придерживал обеими руками живот, словно старого друга, с которым хотел поделиться нахлынувшим весельем. На глазах выступили слезы, виднелись коренные зубы.
Это был лучшей комический номер в моей жизни.
Через некоторое время нам пришлось успокоиться, потому что другие пациенты тоже листали журналы на женские темы и им не терпелось поскорее зайти в кабинет и продемонстрировать свои мужские достоинства. Доктор проводил нас к выходу и пожал всем руки, включая меня.
– Да, ты крут, – сказал он.
На лестнице папа заметил, что он просто душка, этот доктор по интимной части, и что его слава вселяет оптимизм, но папе легко говорить, у него, прошу прощения, все причиндалы на месте.
Время было не позднее, и, чтобы утолить мои не по возрасту тяжкие печали, родители предложили немного развеяться. Мама вспомнила про канатную дорогу с тремя яйцевидными прозрачными кабинками, которые проносятся над рекой Изер.
– Кажется, наверху есть ресторан, мы можем поесть там мороженого, да и вид оттуда, должно быть, великолепный.
Папа сказал, что идея замечательная и, похоже, весь день у нас сегодня проходит под знаком яиц. Мы разглядывали витрины, и мама запала на женскую обувь.
– Вы не возражаете, если я загляну в магазин? – спросила она.
Вопросительная интонация была чистой условностью, мы с папой сразу поняли, что нашего мнения никто не спрашивает, и расположились на оранжевых пуфиках, перед которыми продавец вывалил половину магазина.
Глаза у мамы разбежались.
– Вон те, с бахромой, неплохие, – комментировала она, – но коричневые мне нравятся больше… А бежевые очень маркие и не ко всему подходят…
Ботиночный продавец смотрел в потолок, почесывая задницу, а я спросил у папы, когда же мы отправимся на канатную дорогу. Папа вздохнул и призвал маму побыстрее сделать свой выбор, потому что ребенок уже весь измаялся, да и он сам, честно говоря, тоже.
Мама ответила, что раз так, то, конечно, давайте немедленно покинем магазин и ничего не купим, в кои-то веки куда-то выбрались и вот теперь уходим с пустыми руками, люди жестоки и неблагодарны, но что поделаешь.
Выйдя на улицу, мы старались не встречаться с ней глазами: это была война.
– Так мы идем на канатную дорогу? – спросил папа.
Мама ответила, чтобы мы сами решали и поступали, как считаем нужным, а она никому не хочет быть в тягость.
Папа заметил, что при сложившихся обстоятельствах было бы разумнее вернуться домой, но я возмутился и потребовал обещанное мороженое.
Папа проворчал, что день выдался хреновый, хреновее некуда, и спросил у тетеньки в тапочках, которая выгуливала кудрявую собачку, где тут у них канатная дорога.
– А вон там, видите, где канаты ? – ответила тетенька в тапочках. – Вот туда и идите.
Она все время улыбалась, тыкала пальцем в горизонт и, судя по всему, была просто счастлива оказать нам услугу, а ее собака между тем писала на колеса проезжающих автомобилей.
Мы пересекли сквер, где детишки катались на санках, и зашли в квадратное строение. Папа купил у однорукого дядечки три билетика. Мы сели в кабинку. Напротив расположились три китайца: девочка и два мальчика. Таким образом, все места в кабинке оказались заняты. Мы поднялись наверх и поплыли над набережной. Кабинка качалась и скрипела, словно устала работать и просилась на пенсию, казалось, мы сейчас сорвемся и полетим в речку.
Я на всякий случай покрепче сжал ягодицы, потому что от тряски мне захотелось в туалет, но вместо этого меня вырвало, и пейзаж за окном стал неразличим. Папа посмотрел на меня такими глазами, будто не верил, что все это происходит на самом деле, а мама стала вытирать все платочками, бормоча, что это естественно, столько сегодня было волнений, бедный ребенок. В кабинке дико воняло. Остальные пассажиры прижались друг к другу и были счастливы, когда увеселительная поездка наконец завершилась.
В животе у меня было пусто, и я умял целую вазочку десерта с бумажным зонтиком. Солнце клонилось к закату. Я стал рассматривать схему гор, чтобы выбрать что-нибудь новенькое для своей коллекции названий. Особенно мне приглянулся пик Неборез.
Гренобль сверху выглядел просто восхитительно: маленькие красные домики, гирлянды огней и извилистые проспекты.
Сидя рядом за столиком, папа и мама держались за руки: война была окончена. Так мы наслаждались семейным счастьем и покоем, пока не почувствовали, что замерзли и немного проголодались.
Мы спустились пешочком, потому что я наелся груш со взбитыми сливками и отчаянно рыгал. На полпути нас обогнали три китайца: теперь они заняли среднюю кабинку – ради эстетики и гигиены. Увидев нас, они страшно обрадовались, что на этот раз мы не принимаем участия в их увеселительной поездке. Мальчики махали нам руками, а девочка щелкала фотоаппаратом, чтобы потом продемонстрировать друзьям, какие мы, французы, красивые.
Папа спросил, что бы мы хотели съесть, и я ответил, что пиццу. Честно говоря, на набережной Гренобля пицца в огромном почете, и найти там что-нибудь другое все равно невозможно.
Свет фонарей играл в потоках реки Изер. Мама заметила, что нужно выбрать пиццерию, где уже сидят люди: постоянная клиентура – верный признак качества. В «Пиноккио» и «Милано» клиентуры было с избытком, поэтому мы зашли в «Соле Мио».
Я заказал пиццу «Четыре сыра», мама – «Четыре времени года», а папа – «Спагетти болоньезе». Тесто в руках повара вертелось наподобие волчка, и он, видя мое восхищение, попробовал даже жонглировать им, но потерпел крах: пицца шлепнулась на пол.
Потом зашел усатый дядечка с розами под защитной пленкой. Папа купил одну розочку и вручил маме, которая густо покраснела. В романтическом угаре папа наклонился к ней, чтобы урвать поцелуй, опрокинув при этом графин с вином, и со скатерти вниз побежали веселые ручейки. «Ничего страшного, милый», – успокоила его мама, а на моих штанах образовалось большое винное пятно.
Ближе к концу ужина в ресторане зазвучало «Bella Ciao», и папа подхватил знакомую песню, желая окончательно очаровать супругу. Повар, задремавший было у камина, сразу проснулся и запел с папой дуэтом.
Клиентура пиццерии приветствовала певцов шквалом аплодисментов. Люди кричали: «Браво! Бис!», но представление на этом закончилось. Папе бесплатно подлили вина «от заведения», а розовые лепестки отделились от лишенного шипов стебля и опали.
– Ничего удивительного, – объяснила нам мама. – Я читала в «Мари Клер», что цветы иногда замораживают, как рыбу в панировке, для придания им товарного вида.
Папа расплатился, и мы немного прошлись по центральным улочками. Повсюду вертелись шампуры с мясом, золотистый картофель с шипением поджаривался в масле…
Тем временем окончательно стемнело. Мы выехали с подземной стоянки и рулили по набережной, вдоль которой выстроились сексапильные девицы. Мне захотелось прямо-таки каждую намазать кремом из того журнала.
– А что все эти тетеньки делают под фонарями? – поинтересовался я.
– Ждут автобуса, – нашлась мама. – Они задержались в офисе и спешат домой…
– Думаешь, я не знаю, что это шлюхи? – возмутился я. – Детей обманывать нехорошо!
Папа захихикал, а мама воскликнула, что мы катимся в пропасть, что молодежь в наше время стала страшно испорченная, а папа на это возразил, что такова жизнь и не надо драматизировать, а затем уставился на рыжую дамочку в прозрачном пластиковом плаще. Под плащом были видны сиськи, а из попки торчала веревочка. В результате мы едва не врезались в машину впереди нас, а мама заявила, что да, конечно, чего же ждать от мальчика, у которого отец такой озабоченный, прямо-таки сексуальный маньяк, – и опять началась война, и так до самого Южина…
* * *
Гренобльские шлюхи, если честно, были не первыми шлюхами в моей жизни.
В нашем в доме живет своя собственная отставная шлюха, мадам Гарсиа, она служит у нас консьержкой.
Шлюхи – древнейшая профессия. По-моему, это надо понимать так: когда человечество впервые столкнулось с проблемой безработицы, нашелся храбрец, который поднял руку и сказал: «Я, пожалуй, стану шлюхой, работа у меня будет такая…» И тогда остальные приободрились и тоже начали подыскивать себе работу. Шлюха у них уже была, поэтому один из них решил стать крупье, другой – тренером по серфингу, и пошло-поехало…
Шлюхи – воспитанные люди называют их «проститутками» – занимаются тем, что сдают внаем нижнюю часть тела: попку и все такое. Таким образом они зарабатывают себе на жизнь и удовлетворяют мужские прихоти. Получается, что нижняя часть существует как бы сама по себе, и этот принцип кажется мне вполне разумным.
Их услугами пользуются девственники, которые никогда не видели попку и все такое и вынуждены брать это внаем, потому что страдают из-за своего невежества, а еще те, у кого дома имеется собственная попка и все такое, но по каким-то причинам она перестала их устраивать, и те, кто повстречал попку своей мечты и все такое, но потом любовь прошла и теперь у них ностальгия…
Мадам Гарсиа промышляла в Париже, а потом приехала проветриться в нашу гористую местность и, поскольку срок годности у нее давно истек, решила заделаться консьержкой. И правильно сделала: увидишь ее поутру – с мусорным ведром в грубых красных лапах, самокруткой в зубах и в желтых бигудях – и не сразу поймешь, мужчина перед тобой или женщина, какая уж там попка и все такое.
А когда мадам Гарсиа, стоя на четвереньках, моет лестницу, кажется, что она вот-вот растечется, будто расплавленный сыр, и внизу, у велосипедного склада, образуется жирная лужа – братец Жерар пойдет за мопедом и увязнет. Он, кстати, утверждает, что мадам Гарсиа сучка не только в прямом, но и в переносном смысле, потому что однажды она нехорошо с нами обошлась, еще давно, когда мне было три года…
На Святого Фредерика братец Жерар подарил мне курицу, чтобы я мог есть яйца всмятку, богатые протеинами и микроэлементами, жизненно мне необходимыми. Из любви к зимним видам спорта мы назвали ее Мариэль Гуашель [14]14
Французская лыжница-слаломистка, олимпийская чемпионка.
[Закрыть] – она была девочкой, а не мальчиком, поэтому Жаном-Клодом Кили мы ее окрестить не могли. Проблема состояла в том, что наша квартира находится на пятом этаже и балкончик у нас крохотный, поэтому обустроить несушке достойный курятник не представлялось возможным. Тогда мы договорились с мадам Гарсиа, у которой есть маленький огороженный садик рядом со стоянкой, что Мариэль Гуашель пока поживет у нее. В качестве вознаграждения мы посулили ей часть куриного урожая – консьержке тоже не помешали бы яйца, при ее-то здоровье. Она, потаскуха такая, согласилась, и мы решили, что все отлично, у нас полнейшая дружба и международная солидарность…
Как-то в июле мы всем семейством отправились на выходные к ущелью Мадлен, посмотреть на велогонщиков «Тур де Франс». Мы поставили там палатку, и у меня даже есть фотография, на которой семейство Фалькоцци в полном составе – все загорелые, довольные, а на заднем плане, приподнявшись в седле, проезжает Эдди Меркc. Эта фотография в рамке стоит у меня на столе.
И вот воскресным вечером мы подъезжаем к дому, а навстречу нам несется консьержка, вся красная, кремовая маска расползлась, а навозная муха прилипла прямо к роже. Она взволнована, задыхается.
– Какое горе, – кудахчет она,– какое горе! Несушка-то ваша подохла, удар ее хватил, вмиг посинела и упала, и вонь стояла страшная, такая жара, пришлось мне ее закопать в саду, потому как соседи, сами понимаете, не постеснялись бы в выражениях. Вот здесь я ее похоронила, вот, посмотрите! – С этими словами она увлекает нас в дальний угол двора, где над свежим холмиком возвышается маленький кривенький крестик из веточек. Настоящая могила, прямо-таки человеческая.
Все это было очень трогательно. Мадам Гарсиа захлюпала носом, и мама принялась ее успокаивать: да ладно, ладно, эта курица все-таки в родстве с нами не состояла, спасибо, что отдали ей последние почести…
Потом разговор плавно перешел на велогонку, и мы все вместе вернулись к дому. Дверь консьержкиной комнаты была приоткрыта, и братец Жерар заметил, что на плите стоит кастрюлька. Он потихоньку прокрался в комнату, поднял крышку и обнаружил ощипанный труп Мариэль Гуашель, погибшей, как нам стало ясно, насильственной смертью.
Братец Жерар завопил, все сбежались, папа смерил мадам Гарсиа взглядом, нахмурил брови, та залилась краской, заорала: «Да как вы смеете меня обвинять, на каком основании, это вам так не пройдет, и не думайте, ишь, раскричались, сами-то вы кто, даже ведь не французы, а так, инородцы, вон отсюда!»
В ту пору я был еще не слишком развитой личностью, но смекнул, что Мариэль Гуашель мы больше не увидим, затрясся в коляске и заревел. Снова поднялся шум, папа потребовал от консьержки объяснений – дело-то явно нечисто, а та вместо ответа хлопнула дверью…
И с тех пор консьержка моет ступени до четвертого этажа включительно, а свою лестничную площадку мы убираем сами, по очереди с соседом, мсье Крампоном, только папе об этом не рассказываем, а не то он всем покажет, как минимум на словах.
Вот потому-то братец Жерар и говорит, что мадам Гарсиа – сучка не только в прямом, но и в переносном смысле.
* * *
А потом мы с мамой снова поехали в Гренобль заниматься моими мужскими достоинствами, в университетскую клинику, где доктор Раманоцоваминоа был в свое время интерном. Клиника оказалась огромной, целая фабрика.
Медсестра Жозефина специально не носила лифчика, чтобы больные быстрее шли на поправку, и всякий раз, когда она входила в нашу палату, дядечка на соседней койке как бы невзначай ронял свой журнал про грузовики, чтобы она нагнулась и подняла. Заглядывая сверху в вырез ее халатика, он испытывал величайшее эстетическое наслаждение и, активно жестикулируя, призывал меня разделить свою бурную радость.
Присев на краешек моего матраса, Жозефина убеждала меня, что я очаровательный юноша, что мои большие карие глаза и маленький ротик в форме сердечка – залог будущего успеха у девушек (вот вспомнишь мои слова через несколько лет!). Ее комплименты неизменно вгоняли меня в краску.
Жозефина проявляла столь живой интерес к моим сердечным делам, что я даже поделился с ней своим секретом: рассказал, что собираюсь жениться на цирковой барышне, но на пути нашей любви немало препятствий, ведь я даже не знаю, где она теперь, моя суженая.
Жозефина сочувственно охала и в качестве утешения щекотала мне шейку. Я покатывался со смеху, она тоже хохотала вместе со мной, и было видно, как трясутся под халатиком ее сиськи, а мсье Рауль на соседней койке делал круглые глаза и прятался за своим журналом про грузовики.
– Думаешь, трусики она тоже не носит? – спрашивал мсье Рауль после ее ухода. – Руку даю на отсечение, что под халатиком она совершенно без ничего, вертихвостка… Ты не мог бы подглядеть, тебе это проще…
Я уже знал, как обстоят дела на самом деле, но отмалчивался, всем своим видом показывая, что я нахожусь здесь в медицинских целях и трусы лечащего персонала меня не интересуют.
Вечером заехала мама, привезла комиксы Гастона Лагаффа и сообщила, что с анализами почти покончено и операция уже не за горами.
Настроение у меня было классное, потому как я на законном основании прогуливал школу, да еще и наслаждался видом Жозефининых титек.
* * *
В четверг меня на каталке отвезли в операционную. В мерцающем зеленом свете блестели хирургические инструменты. Мама держала меня за руку. Рауль в своем кресле на колесиках мчался следом за мной, презрев запреты медиков.
– Удачи тебе, пацан, – изо всей мочи вопил он за дверью. – Если ты не успеешь на «Шляпу-котелок и кожаные сапожки» [15]15
Знаменитый английский телесериал, снятый в 60-е годы.
[Закрыть], я тебе потом перескажу. Не переживай!
В операционной я сразу узнал своего доктора, да и мудрено было не узнать: росту метр с кепкой, маска болотного цвета и чепчик для бигудей.
– Расслабься, цыпленочек, – сказал он и залез на табурет, чтобы достичь моего полового уровня.
Какая-то тетка в мокром халате поверх волосатых подмышек надела на меня респиратор, как у пилота в сверхзвуковом самолете.
– Ты умеешь считать наоборот? – спросила она.
Да за кого она меня принимает? Я что, похож на умственно отсталого? Или ей уже доложили, что я однажды схватил банан по математике? Мама перепугалась, пошла в школу, но наша училка, мамзель Петаз, стала ее успокаивать: и на старуху, мол, бывает проруха. Дети есть дети, вот разве что Азиз Будуду у меня ровно идет, так ведь он же араб, они эту самую математику изобрели, это вроде как наследственное…
– Естественно, умею, – ответил я тетке. – Но вообще-то математике я предпочитаю литературу, особенно Фризон-Роша…
– Хорошо-хорошо, – перебила она меня. Мои откровения ее не слишком взволновали. – Сосчитай мне, пожалуйста, от двадцати до нуля.
Она мне не особо нравилась, коза волосатая, но я все-таки начал считать наоборот и вскоре уплыл в четвертое измерение.
Вот черт!..
* * *
Первая живая вещь, которую я увидел, когда очнулся, была мама. Я чувствовал себя так, будто во второй раз родился и все начинается сначала, потому что в первый раз вышла промашка, а теперь представился шанс все исправить, если, конечно, постараться. Потом я заметил, что с соседней койки, сверкая дырявыми зубами, мне улыбается Рауль.
– «Шляпа-котелок» была скучная, – заверил он меня, – мадам Пил почти не показывали. Так что ты не много потерял…
Я лежал на спине, как лабораторная лягушка в кабинете биологии, мои тестикулы были перевязаны, будто рыбный рулет в школьной столовой.
– Доктор сказал, что операция прошла прекрасно, цыпленочек, – успокоила меня мама. – К концу недели тебя выпишут. Ты держался молодцом. Я горжусь тобой.
– Да, пацан, ты крут, круче только яйца, – воскликнул Рауль.
От собственной остроты он пришел в такой восторг, что закашлялся от смеха и посинел, нам даже показалось, что он перестал дышать и вообще не понимает, где находится. Мама постучала ему по спине, но без особого успеха, пришлось срочно вызвать сестер, которые трясли его изо всех сил, пока не привели в чувство. Рауль побелел обратно, только нос остался синим.
– Наш дальнобойщик дал сбой! – пошутила Жозефина.
Вечером в палату зашел папа с огромным свертком: я заслужил приз за скоростной спуск яичек.
– Ну, как тут мой мужичок? – спросил он.
Он изо всех сил сжал меня своими бицепсами, и я так обрадовался, что сразу же разорвал упаковку и обнаружил огромный грузовик с пультом управления, у него была лесенка, которая раздвигалась сама собой и делала «бжик», а позади сидели пожарники.
Это был лучший подарок на свете, и папа мне тоже достался лучший на свете.
– Шикарный драндулет! – одобрил Рауль.
Потом пришел доктор Раманоцоваминоа и поинтересовался:
– Как дела, цыпленочек?
Он привел с собой троих интернов по интимной части и детально им все объяснил.
– Тут мы имеем банальное тестикулярное смещение, – начал он.
Интерны важно закивали. Видим. Знаем. Читали. Банальное, говорите, смещение? Согласны. Справимся с таким не хуже вашего.
Я стоял на полусогнутых ногах, как всадник с голым задом, а доктор Раманоцоваминоа прощупывал мне нижнюю часть живота.
– Расслабься, цыпленочек, – попросил он. – Расслабься… Все в порядке, опустились. Ходишь нормально? Можешь ходить? Газы отходят? Это хорошо. Должны быть газы… Стул уже был, цыпленочек?
– Да нет, все больше табуретки.
– Вот ведь остряк, – воскликнул доктор. – Так держать, парень!
Интерны понимающе захихикали: мол, да, прикольный пацан этот Фалькоцци со своими шуточками и прочими штучками! Вот повеселил-то!
– Ну ладно, молодые люди, – подытожил доктор, – все это, конечно, весело, но нас там пациенты ждут.
Напоследок он еще раз с гордостью взглянул на плоды своих трудов, чтобы потом, на пенсии, стоя у музыкального киоска в окружении парковых голубей, вспоминать мои яички.
– Они у тебя стали как новенькие, цыпленочек, ты теперь все можешь, будешь любить женщин, заведешь детей. Все волнения позади…
– И на Монблан смогу подняться? – спросил я.
– И даже выше, например, на Килиманджаро – туда ты тоже сможешь забраться, если захочешь.
– А в цирке работать смогу?
– Да сколько угодно. Почему именно в цирке? Смешной ты парень! И на катамаране кататься, и по канату ходить, все что захочешь!
Мне было приятно это слушать, а то я боялся, что из-за своих яичек не смогу крутить любовь с цирковой барышней и взбираться на отвесные склоны.
* * *
На следующее утро мы с Раулем устроили гонки от окна до двери, и моя пожарная машина всякий раз опережала его кресло на колесиках.
Рауль весь взмок от натуги и кричал, что спринтерская дистанция – для педиков, а вот в марафонской гонке он бы мне показал!
Я повязал для приличия полотенце на манер набедренной повязки, а Рауль напялил обе наши мочалки-перчатки, чтобы руки не соскальзывали, и мы отправились в коридор. Медсестры разносили лекарства в другом конце коридора, и мы беспрепятственно расположились на старте.
– Начинаем на счет «три», – скомандовал Рауль. – Отсюда и до той урны. Только, чур, не жухать, не позорь семью, парень! Я тридцать пять лет колесил по дорогам и не позволю желторотому юнцу себя обойти!
Когда мы тронулись, кресло Рауля сперва забуксовало, и на линолеуме остались каучуковые отметины. Поначалу моя машина вырвалась вперед, но потом Рауль запыхтел, как морской лев, и заработал всеми своими мышцами. Его усеянные татуировками руки, будто два мощных поршня, понесли его вперед, и гонка вступила в решающую фазу.
Рауль и пожарная машина стремительно неслись к финишу. И тут какой-то пожилой дядечка, на животе у которого висел мешочек, чтобы справлять нужду, вышел в коридор поразмять ноги и в последнюю секунду оказался прямо на пути у гонщиков.
«Чертов бордель!» – заорал Рауль, но старикан, вероятно, был глуховат, и столкновения избежать не удалось: он очутился в объятиях Рауля, и финишную черту оба пересекли уже в парном разряде, с пожарной лестницей наперевес. Потом они на полном ходу врезались в автомат с газированными напитками, а дальше поднялся такой гвалт, что ничего было не разобрать.
Нам, конечно, здорово влетело, потому что старичок прямо с финиша угодил в интенсивную терапию, где доставил массу хлопот медперсоналу, а Рауль в процессе гонки лишился коронок, и гипс у него съехал, но он не скрывал своего торжества:
– Я фыиграл! – кричал он. – Я ваш вшех шделал, шознайща, парень, я пришел перфым!
А ближе к вечеру меня навестила мама. Вместе с ней пришли Жожо, Азиз и Ноэль и принесли мне свежий выпуск «Пифа» и пластмассовый тесак из слоновой кости.
Мама их, наверное, просветила насчет моего внешнего вида, поскольку они почти не хихикали и старались говорить на посторонние темы. Мы даже обсудили умножение на девять, но Жожо все-таки не сдержался и спросил, с какой это стати у меня после операции на головном мозге перевязаны яйца.
Я знал, что Жожо непременно выдаст что-нибудь подобное, но как ответить, не нашелся.
– Фот што я тебе шкажу, парень, – вступился за меня Рауль. – Шелофек – шущештво шагадошное, и фще у него фнутри вшаимошвяжано… Кто жнает, где он, этот щертоф голофной можг, может, в этих шамых яйцах…
* * *
Если бы я не был влюблен в цирковую барышню, то непременно влюбился бы в Мириам.
Мириам знает названия всего, что встречается в природе, будь то лунь полевой или тритон перепончатый, жаба-повитуха или венерин башмачок… Еще она здорово разбирается в звериных какашках – это, конечно, не слишком женское хобби, но весьма поучительное. Когда мы гуляем с ней по лесу, она делится со мной наблюдениями типа: «Вот видишь, там куницына лепешка с вишневыми косточками», а потом показывает мне в грязи следы косули, маленькие такие сердечки…
Пьеро и Бернадетта, родители Мириам, работают фермерами. У них на ферме живут тридцать семь коров в платьях орехового цвета и с подведенными глазами, будто они собрались на танцы. Нет, правда, они чем-то напоминают балерин, эти телки, особенно когда пасутся высоко-высоко и, нависая над отвесными склонами, любуются горным пейзажем.
(Когда я в первый раз заявился к ним в хлев, в красных резиновых сапожках и сине-бело-красной шапочке, у коров со страху начались желудочные колики – они приняли меня за нового ветеринара, а ведь я еще даже начальную школу не закончил…)
Работа у Пьеро и Бернадетты довольно-таки странная, трудиться им приходится без выходных: молочные продукты из коров выходят безостановочно, даже на Новый год, поэтому трусцой им бегать некогда, в смысле Пьеро и Бернадетте. Из парного молока получается какао, а остатки идут на производство сыра «бофор», который особенно хорош под красное вино, мой папа вам это охотно подтвердит.
Дойка коров – сложный технологический процесс: надо подождать, пока они вернутся с лугов и друг за дружкой протиснутся в хлев, а потом следует по сигналу привязать их за шеи к кормушке и зафиксировать хвосты специально предусмотренной веревкой, чтобы невзначай не схлопотать по носу, а дальше уже можно передвигаться с тележкой от одной коровы к другой.
Правда, иногда на входе случается потасовка. Какая-нибудь телка вздумает, например, передвигаться задом наперед (желая, между прочим, завладеть мужским, то есть бычьим, вниманием), а подруги ее страшно при этом бесятся, возмущаются, брыкаются. И справиться с ними в такую минуту непросто. Пьеро зычным голосом призывает коров к порядку, а они в знак протеста устремляются в обратном направлении, попутно пачкая стены коровьей неожиданностью. И все приходится начинать по новой…
Мы с Мириам любим навещать ее дядюшку Робера в Аннюи [16]16
Горное селение неподалеку от Южина.
[Закрыть]. Оттуда видны весь массив Монблана и пирамида Шарвен [17]17
Отдельно расположенная гора, имеющая четко выраженную пирамидальную форму. Высота – 2409 метров.
[Закрыть]. Красные пики [18]18
Горный массив в районе Шамони.
[Закрыть] напоминают мужичка, гордо выпятившего мускулы. Мы любуемся пейзажем, и я рассказываю Мириам про Вертикальные склоны [19]19
Горный массив в верхней Савойе, максимальная высота 3754 метра.
[Закрыть], и про Акулью вышку [20]20
Высокогорный приют, расположенный на высоте 2687 метров.
[Закрыть], и про Ледяное море [21]21
Ледник, расположенный в массиве Монблана на высоте 1909 метров.
[Закрыть], которое похоже на измятую бумажную скатерть, и в гармонии с природой мы чувствуем себя совершенно счастливыми.
После обеда дядюшка Робер засыпает, уткнувшись носом в клеенку. Он подкладывает руку под голову, сдвигает берет на затылок и храпит так сильно, что волоски у него в ноздрях начинают шевелиться, будто карликовый лес, сотрясаемый мощным ураганом, а тетушка Жанна тем временем стряпает на полдник пирог с черникой и взбитыми сливками.
У дядюшки Робера живет шаролезский бык по имени Помпон, похожий на савойского гиппопотама. Глаза у него красные, а мускулы на шее раздуты, как у советского штангиста. Завидев на тропинке телок, бык принимается реветь и пускать слюни, держа наготове свою розовую торпеду. Он трется ноздрями о провода у забора, и остается только надеяться, что короткого замыкания в этот момент не случится…
Иногда Мириам делится со мной своими маленькими тайнами. Однажды ей сильно влетело от родителей. В отместку она решила покончить с собой и залпом опустошила тюбик детского шампуня, но самоубийство прошло незамеченным – такая досада… А в три года ее отдали в детский сад, и там она увидела руки воспитательницы, руки, не копавшие землю. Она и не думала, что у взрослого человека могут быть такие изящные, нежные, тонкие руки…
Однажды в воскресенье, прошлым летом, в страшную грозу, мы сидели под навесом альпийской хижины и любовались вспышками молний. Вот загорелась гигантская буква «3» – Зорро, а вон большая «Ц» – ФалькоЦЦи. Жирные дождевые капли, сползая по скату крыши, брызгали нам в глаза. Потом молния пронзила гору, и на смену крупным каплям пришли мелкие капельки.
Мириам стиснула в ладони мои пальцы, и я почувствовал, что сердце у меня в груди бешено заколотилось – то ли из-за грозы, то ли из-за того, что Мириам крепко сжимала мою руку, не могу вам точно сказать…
* * *
А потом к нам в Южин вернулась цирковая труппа «Чингисхан», а вслед за нею – сладкая мука любви.
Мы смотрели представление, и я чуть не рехнулся от счастья, когда на арену под звон цимбал вылетела моя любимая.
– Ни тебе попы, ни сисек – что за телка? – прокомментировал Жожо, и я готов был разорвать его на части.
– Гимнастка должна быть легкой и воздушной, – объяснил я ему. – Это у твоей мамы жопа как у слона. Ее, ясное дело, в цирк не позовут.
Я старался быть как можно грубее, чтобы поставить его на место, но Жожо ничуть не обиделся.
– Жопа как у слона, – загоготал он, тряся головой, – это ты здорово выразился, вот черт!
После представления я долго куковал у забора, пока ожидание не стало нестерпимым: у меня не было сил удерживать в себе столько эмоций сразу. Я протиснулся между прутьями с твердым намерением отыскать свою возлюбленную и сказать ей: «Я здесь. Поцелуй же меня в губы! Где твой отец? Я буду просить у него твоей руки. Кстати, сколько бы ты хотела детей? (…) А я – не меньше четырех, и крестным мы позовем доктора Раманоцоваминоа…»
Пробираясь между кибитками, я узнал укротителя тигров, воздушного гимнаста в огромных трусах и дядечку с микрофоном, который, сидя у окна, макал в голубоватую жидкость ватный тампончик, чтобы смыть грим.
Неподалеку от зверинца кто-то ссорился.
– Будешь так нажираться, тебе и нос-то накладной не понадобится, Жоржик ты мой бедненький!
– Это она мне будет говорить! Я ж не слепой, я сразу приметил, что у тебя там с Рыжим, шлюха ты моя!
Я встал на цыпочки (на мне были кеды «Стэн Смит», предусмотрительно надраенные мочалкой для мытья посуды) и за шторкой в оранжевый горошек увидел цирковую барышню. Рядом с ней, у холодильника, сидел несчастный Жоржик. Пот лил с него градом, смывая с лица разноцветный грим в направлении шеи. В дрожащей руке он держал бутылку виски, расплескивая ее содержимое во все стороны.








