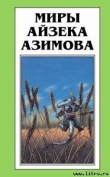Текст книги "Неясный профиль"
Автор книги: Франсуаза Саган
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Из чистого садизма Луи пустился в пространные подробности, одна другой хуже, так что нам пришлось заткнуть уши. Остановились мы у пруда в лесу. Братья стали пускать камешки рикошетом.
– Жозе говорила тебе, какой номер выкинул Юлиус А. Крам? – спросил Дидье.
– Нет, – сказала я, – я даже не вспомнила об этом.
Луи, наклонившись с камешком в руке, повернул голову и посмотрел на меня.
– Что за номер?
– Юлиус решил финансировать журнал, где работает Жозе, – объявил Дидье. – Эта молодая женщина, которая только что видела, как телилась корова, будет вершить судьбы современной живописи и скульптуры.
– Вот оно что, – протянул Луи.
Он взмахнул рукой, и камешек проскакал пять или шесть раз по гладкой поверхности пруда и исчез.
– Неплохо, – сказал он, довольный собой. – Это большая ответственность, да?
Он смотрел на меня, и внезапно мои столь заманчивые новые обязанности показались мне пустыми и даже опасными. Почему я решила, что имею право судить произведения других? Я сошла с ума. Взгляд Луи заставил меня понять, что я сошла с ума.
– Дидье все представляет не так, – сказала я. – На самом деле я не буду критиковать в полном смысле слова. Я буду только писать о том, что меня восхищает, что мне нравится.
– Но ты ведь не обезумела от этого, – вздохнул Луи. – Ты отдаешь себе отчет, что и за слова, и за молчание, впрочем, платить тебе будет тоже Юлиус А. Крам?
– Дюкро, – поправила я.
– Через Дюкро, – возразил Луи. – Ты не можешь на это согласиться.
Я посмотрела на него, на Дидье, который опустил глаза – видимо, был не рад, что затронул эту тему, – и занервничала. Как тогда, в баре «Пон-Руаяль», я видела в Луи врага, судью, пуританина, я не видела в нем больше моего дорогого возлюбленного.
– Но я делаю это уже три месяца, – сказала я. – У меня, может быть, нет опыта, но этим я зарабатываю на жизнь, а кроме того, работа меня увлекает. Мне нет дела до того, кто платит, Дюкро или Юлиус.
– А мне есть, – сказал Луи.
Он поднял новый камешек. Лицо его стало жестким. На миг у меня возникла глупая мыслишка, что он кинет этот камень мне в лицо.
– Все думают, что я любовница Юлиуса, – начала я. – Во всяком случае, все думают, что он меня содержит.
– Это тоже должно измениться, – перебил Луи, – и очень скоро.
Что он хочет изменить, в конце концов? Париж – город не святой, а в этой среде вообще живут только уловками и видимостью. Но я принадлежала Луи, ему одному, и он это знал. Он хочет, чтобы я не восхищалась никем, кроме него? Чтобы я отказалась от одиночных прогулок по музеям, выставкам, улицам города? Он что, не может понять, что какие-то голубые тона на полотне, какие-то формы умиляют меня больше, чем новорожденный теленок? Как под его взглядом я чувствовала в себе больше жизни, правды, так и под взглядом художника воспринимала природу ярче и глубже. Что же, я дегенератка, синий чулок, дама с претензиями? Ну и пусть, в конце концов, мне не восемнадцать лет, и я не ищу Пигмалиона, будь он даже ветеринаром. Я пережевывала эти мрачные мысли, глядя на дорогу и не видя ее, когда Луи накрыл мою руку своей.
– Не нервничай, – сказал он, – всему свое время.
И он улыбнулся мне, а я ему, и в эту минуту я поклялась навсегда остаться с ним и посвятить себя исключительно заботам о крупном рогатом скоте. Перемена моего настроения, видимо, была ощутимой, потому что Дидье, до сих пор не раскрывавший рта, вдруг вздохнул рядом со мной и засвистел «Жизнь в розовом свете». Вечером, ночью, решила я, если у нас будет время, если наши тела с их стремлением к наслаждению и страхом разъединения оставят нам его, мы все это обсудим. Но я уже знала, лицемерно и сладострастно, что мы оба не дадим ничему вторгнуться между нами и что единственными словами, которые мы скажем друг другу, будут слова любви.
– Я не могу лететь в Лондон, – сказала я. – Я не могу завтра уехать.
– Послушайте, – сказал Юлиус, – распродажа в Сотби в пятницу, субботу и понедельник, и поскольку Дюкро считает, что ехать нужно именно вам…
Мы сидели на террасе у «Александра», и к нам только что присоединилась Ирен Дебу.
– Вы не любите Лондон? – спросила она. – Но это прекрасный город, а распродажи у Сотби безумно интересны. Возьмите с собой Дидье, если боитесь там заскучать.
Я упиралась. Завтра должен был приехать Луи, и вряд ли он обрадуется, узнав, что надо лететь в Лондон. Вот уже пять дней мы каждый вечер говорили по телефону о нашей квартире на улице Бургонь, о пластинках, которые будем слушать в темной комнате, где разобьем наконец лагерь на целых два дня. Ему не нужны ни самолеты, ни гостиницы, ни картины, ему нужна только я.
– Не понимаю вас, – сказала Ирен Дебу.
– Вот именно, – ответила я быстро.
Она покраснела от злости. В последнее время я гораздо реже виделась с ней и ей подобными. Мы допоздна засиживались в редакции, все еще в радостном возбуждении, а потом я возвращалась домой. Мы ужинали вдвоем с псом, и сразу же после телефонного звонка Луи я засыпала мертвым сном. Юлиус часто приезжал обедать в маленький ресторанчик недалеко от редакции. Казалось, он был увлечен нашими планами не меньше нас, он даже возил с собой в машине, как примерный ученик, альбомы и книги по искусству, которые ему рекомендовал Дюкро. Он настоял, чтобы я пользовалась одной из малолитражек его конторы, так что нам с собакой стало легче добираться.
Но в тот день меня приперли к стене. Надо было твердо отказаться от лондонских планов и объяснить причины. Присутствие мадам Дебу не только не стесняло меня – наоборот, облегчало дело. Она превратит мою любовь в анекдот, низведет ее до уровня случайной связи, разве что немного досадной, поскольку из-за нее я пренебрегаю профессиональным долгом – но не более того. Навесив на меня ярлык «легкомыслие», она облегчит мне исповедь.
– Дидье Дале тем более не может ехать, – сказала я. – Мы ждем его брата Луи, который приезжает в Париж на два дня.
Юлиус бровью не повел, зато Ирен Дебу вздрогнула, посмотрела мне прямо в лицо, потом строго уставилась на Юлиуса.
– Луи Дале? – спросила она. – Что все это значит, Юлиус? Вы в курсе дела?
Воцарилось молчание, которое Юлиус, казалось, не спешил нарушить. Он разглядывал свои руки.
– Юлиус совсем не в курсе, – с усилием выговорила я. – Я недавно познакомилась с Луи Дале. Он подарил мне собаку, вы же знаете. Короче, он приезжает на уик-энд в Париж, и я не могу ехать в Лондон.
Ирен Дебу издала скрипучий смех.
– Это бессмыслица, – сказала она, – бессмыслица.
– Дорогая Ирен, – начал Юлиус, – если вы позволите, я бы обсудил все это с Жозе попозже. Я думаю, не нужно…
Она перебила его:
– Я тоже так думаю. Вы даже можете обсудить все это сейчас, если хотите. Я ухожу.
Она поднялась и вышла так быстро, что Юлиус едва успел встать со стула.
– Какая муха ее укусила? – удивилась я.
– А такая, – ответил Юлиус, – что она думала, как и я, впрочем, что ваша работа увлекает вас, что именно в ней вы обрели душевное равновесие, и она несколько разочарована, видя, с какой легкостью вы пренебрегаете ею ради малознакомого мужчины. В конце концов, Ирен, при всей ее резкости, очень любит вас, и она не знает, как быстро вы увлекаетесь.
– О ком вы? – сказала я.
– Все о том же Луи Дале, – сказал Юлиус спокойно, – о нем или о пианисте в Нассау.
Я покраснела. Я чувствовала, что краснею.
– Откуда вы знаете? – спросила я. – А если знаете, как смеете говорить мне об этом? Вы что, следите за мной?
– Я говорил вам, что вы меня интересуете.
Глаза его были полуприкрыты за стеклами очков, на меня он не смотрел. Я почувствовала ужас перед ним, перед собой. Я встала так быстро, что собака вскочила и неистово залаяла.
– Я ухожу, – сказала я, – мне невыносимо думать, что… что вы…
Я заикалась от гнева, от смущения. Юлиус благодушно махнул рукой.
– Успокойтесь, – сказал он, – все это случайности. Я заеду за вами в семь, как договорились.
Но я уже убежала. Большими шагами я пересекла проспект и влезла в машину вместе с собакой. И только когда поворачивала ключ зажигания, я вспомнила, что сижу в «его машине». Впрочем, это было уже неважно. Рискуя разбить эту драгоценную машину, я промчалась по проспекту, пересекла мост и добралась домой на предельной скорости. Я села на кровать, в висках у меня стучало, а пес положил мне голову на колени в знак симпатии. Я не знала, что с собой делать.
Через пять минут в дверь позвонил Юлиус. Он сел напротив меня и посмотрел в окно. А ведь если подумать, мы никогда не смотрели друг другу в лицо. Когда я вспоминала о нем, то всегда представляла его в профиль. У этого человека не было ни жестов, ни взглядов. И именно этот человек видел меня в заточении у Алана, видел в слезах в нью-йоркской гостинице, знал об увлечении пляжным пианистом, именно он хранил обо мне несколько ярких, даже мелодраматических воспоминаний, я же не знала о нем ничего или почти ничего. Только один раз он говорил мне о своих чувствах, да и то из глубины гамака, откуда видны были только его волосы. Силы были неравны.
– Я знаю, что вы предпочли бы побыть одна, – сказал Юлиус, – но я хочу вам кое-что объяснить.
Я не ответила. Я смотрела на него и в самом деле хотела, чтобы он ушел. Впервые я видела в нем врага. Смешно, конечно, но единственное, что меня заботило: не расскажет ли он Луи о пианисте? Я понимала, что это детская реакция, не имеющая никакой связи с данной ситуацией, но перестать думать об этом не могла. Разумеется, это был только случай, но я боялась, как бы Луи не подумал, что сам он тоже случай; я знала: он довольно неуравновешен и может так подумать.
– В сущности, – сказал Юлиус, – ведь это из-за пианиста вы сердитесь на меня, но видел вас тогда не я, а мадемуазель Баро. В конце концов, вы свободны.
– Вы это называете свободой?
– Я всегда вам это говорил, Жозе, и вы всегда делали что хотели. Тот факт, что мне интересны вы и ваша жизнь, – одно, а чувства, которые я могу испытывать к вам, – совсем другое. Вы думаете, что любите Луи, или действительно любите, – поправился он, взглянув на выражение моего лица, – я нахожу это вполне нормальным. Но вы не можете помешать мне думать о вас и каким-то образом о вас заботиться. Это право и долг друга.
Он говорил спокойным, уверенным тоном. И в самом деле, в чем, собственно, я могла его упрекнуть?
– В конце концов, – продолжал он, – когда я познакомился с вами, вам было плохо, и в дальнейшем я, кажется, всегда старался лишь помочь вам. Возможно, я сделал ошибку, открыто высказав вам в Нассау свои чувства, но я чувствовал себя таким усталым и одиноким, а кроме того, на следующий день я принес свои извинения.
Да, этот маленький могущественный человек действительно был совершенно одинок, а я, в своем недавно обретенном счастье, вела себя с претензией и жестокостью выскочки. Я не доверяла ему. А ведь я всегда считала недоверие постыдным чувством. Он все смотрел куда-то позади меня, и, повинуясь внезапному порыву, я встала и положила руку ему на рукав. В конце концов, он, может быть, любил меня, может быть, страдал, и ничего не мог с этим поделать.
– Юлиус, – сказала я, – я прошу у вас прощения, искренне прошу. Я очень признательна вам за все, что вы для меня сделали. Просто мне казалось, что за мной следят, что я в ловушке, и… А «Даймлер»? – спросила я вдруг.
– «Даймлер»? – переспросил Юлиус.
– «Даймлер» под моими окнами?
Он смотрел на меня в полном недоумении. Надо думать, в Париже есть и другие «Даймлеры», а я даже не знала, какого цвета тот, что видел Луи. И потом, я терпеть не могу подробности. Я предпочла остаться в рамках дружбы, привязанности, чем пускаться в изучение хитростей парижского сыска. В который уже раз, избегая узнать подлинное содержание происходящего, я ушла в заботу о форме.
– Не будем больше говорить об этом, – сказала я. – Хотите что-нибудь выпить?
Он улыбнулся.
– Да, и на этот раз чего-нибудь покрепче.
Он достал из кармана маленькую коробочку и вынул две таблетки.
– Вы продолжаете принимать все эти лекарства? – спросила я.
– Как и большинство городских жителей, – ответил он.
– Это транквилизатор? Вы представить себе не можете, до какой степени меня пугает эта привычка.
Это была правда. Я не понимала, как можно так упорствовать в стремлении сгладить и заглушить любые удары судьбы. Мне казалось, это похоже на непрерывное поражение – будто отгораживаешь себя занавесом от тревог, несчастий, скуки, и занавес этот – как белый флаг, как символ капитуляции, унизительной капитуляции без боя.
– Когда вы будете в моем возрасте, – сказал Юлиус улыбаясь, – вам тоже покажется невыносимым сдаваться на милость…
Он подыскивал слово.
– На милость самого себя, – сказала я с некоторой иронией.
Он закрыл глаза и кивнул в знак согласия, а мне больше не хотелось улыбаться. Быть может, настанет день, когда и мне решительно придется заткнуть глотку голодной стае моих желаний, крикливым птицам моих страхов и сожалений. Быть может, тогда и я смогу выносить себя только как черно-белый отпечаток без цвета и граней. Да-да, я буду кататься на велосипеде, не выходя из ванной, и глотать таблетки, чтобы усыпить чувства. Сильные ноги и бессильное сердце, умиротворенное лицо и мертвая душа. Я представила все это, не веря себе, потому что между мной и этим кошмаром был Луи. Так что я выпила виски с Юлиусом, и мы, смеясь, вспомнили бегство оскорбленной мадам Дебу.
– Кончится тем, что она вцепится мне в глотку, – весело сказала я. – Она страшно не любит, когда ей не воздают должного почтения.
Я и не представляла, как близка к истине.
Наступало лето. До июня осталось несколько дней. Люксембургский сад был приветлив, полон голосистой детворы, бойких игроков в шары и старушек, оживших с наступлением тепла. Мы с Луи сидели на скамейке. Нам нужно было серьезно поговорить. В самом деле, стоило нам остаться наедине, как его рука или моя инстинктивно тянулась к волосам или лицу другого, и такое блаженство охватывало нас, что хотелось чуть ли не мурлыкать, а все, что не относилось к проявлениям нежности, откладывалось на потом. Мы жили в счастливом молчании, обмениваясь незаконченными фразами, доверив подлинный диалог нашим телам. Однако в тот день Луи, видимо, решил поставить точки над «и».
– Я подумал, – сказал он. – Прежде всего, я должен тебе кое в чем признаться. Кроме благородного презрения, которое вызывает у меня высшее общество, я оставил Париж, потому что играл. Я картежник.
– Прекрасно, – сказала я, – я тоже.
– Это не утешает. Я сбежал, чтобы окончательно не промотать наше с Дидье наследство. Стал ветеринаром, потому что люблю животных, и потом, всегда приятно помочь тому, кто не может пожаловаться. Но я не хочу заставлять тебя жить в деревне, а без тебя жить не хочу тоже.
– Если ты настаиваешь, я поеду в деревню, – сказала я.
– Я знаю, но я знаю и то, что ты любишь свой журнал. Я же прекрасно могу работать где-нибудь около Парижа. Я знаю нескольких конезаводчиков, займусь лошадьми и больше не буду от тебя уезжать.
Я почувствовала облегчение. Я не говорила Луи, что моя работа, по крайней мере, мысль, что я ею занимаюсь, наполняла меня странным желанием, никогда ранее не испытанным, – быть хоть на что-то годной. И потом, забавно было, что Луи игрок, что этот спокойный, уравновешенный человек, каким он был со дня нашего знакомства, тоже не без греха. Конечно, в тех словах, которые он говорил ночью, в его поведении влюбленного раскрывалось воображение и какое-то безумство нежности, которые успокаивали меня. Я знала, что ночь, как и алкоголь, – великий разоблачитель. Но то, что он сам сознался и в своей сложности, и в своей слабости, означало, что он доверяет мне, что он снял стражу, что мы одержали большую победу, доступную лишь счастливым влюбленным, которая велит им сложить оружие.
– Мы будем жить недалеко от Парижа, – сказал Луи, – и, если захочешь, у нас будет ребенок или двое.
Впервые за мою бурную жизнь такая возможность показалась мне желанной. Я буду жить в доме вместе с Луи, собакой и ребенком. Я стану лучшим в Париже искусствоведом. В саду мы будем разводить чистокровных лошадей. Таков будет хеппи-энд жизни, полной бурь, погони и бегства. Наконец-то я сменю роль: перестану быть дичью, преследуемой исступленным охотником, а стану тенистой дубравой, куда придут укрыться, насытиться и утолить жажду те, кого я люблю: мой спутник, мой ребенок, мои звери. Я больше не буду идти от разрушения к разрушению, от разрыва к разрыву, я буду солнечной поляной, рекой, куда придут мои близкие, чтобы вдоволь испить молока человеческой нежности. И мне показалось, что это последнее приключение опаснее прочих, потому что впервые я не могла представить себе конца.
– Это ужасно, – сказала я, – но мне кажется, что я никогда не смогу подумать ни о ком, кроме тебя.
– Я тоже. Именно поэтому мы должны быть очень осторожны, особенно ты.
– Ты снова о Юлиусе?
– Да, – ответил он без улыбки. – Этот человек любит только одно на свете – обладание. Поза бескорыстия, которую он принял по отношению к тебе, пугает меня. Я бы меньше беспокоился, если бы он как-то проявлял свои намерения. Но я не хочу говорить с тобой об этом, не мне раскрывать тебе глаза. Просто я хочу, чтобы в тот день, когда это произойдет, ты пришла ко мне.
– Жаловаться?
– Нет, искать утешения. Всегда невесело, когда у тебя раскрываются глаза. Ты будешь злиться на того, кто тебя натолкнет на это, и мне не хочется, чтобы это был я.
Все это показалось мне слишком неопределенным и маловероятным. В моей эйфории Юлиус представлялся мне скорее добрым дядюшкой, нежели тираном. Я рассеянно улыбнулась и встала. К шести мне надо было в редакцию – обсудить с Дюкро макет обложки. Луи проводил меня и уехал. Он ужинал с Дидье.
Я немного опоздала и вошла на цыпочках. В кабинете, смежном с моим, Дюкро разговаривал по телефону, и я не хотела ему мешать. Дверь была открыта. Я села за свой стол. Прошло некоторое время, прежде чем я поняла, что речь идет обо мне.
– …я в щекотливом положении, – говорил Дюкро. – Когда вы попросили взять ее на работу, у меня не было причин для отказа. В конце концов, человеку нужна была работа, а мне из-за денежных затруднений не хватало сотрудников. А поскольку вы предложили платить ей сами… Да нет, ничего не изменилось, но я думал, она в курсе дела. Вот уже два месяца, с тех пор, как вы решили – из-за нее – помочь журналу выплыть, я наблюдаю за ней, она ничего не знает… Мне неизвестны ваши планы… Я знаю, меня это не касается, но, если в один прекрасный день она все поймет, я буду выглядеть человеком без чести и совести, каковым не являюсь. Это похоже на западню…
Дюкро замолчал, потому что я стояла на пороге и в ужасе смотрела на него. Он тихо положил трубку, указал на кресло против себя, и я машинально села. Мы не сводили друг с друга глаз.
– Добавить нечего, я полагаю, – сказал Дюкро.
Он был еще бледнее и серее обычного.
– Нет, – отозвалась я, – кажется, я все поняла.
– Намерения мсье Крама показались мне добрыми, и я в самом деле думал, что вы в курсе дела. Затруднения начались два месяца назад, когда он попросил побольше занять вас, посылать в поездки… В общем, я не очень понимал, в чем дело, пока вы не познакомили меня с Луи Дале.
Мне было трудно дышать, было стыдно за себя, за него, за Юлиуса, и с особенной горечью и отчаянием я думала об умной, чуткой и образованной молодой женщине, какой вообразила себя среди этих пыльных стен.
– Так вот что это было, – вздохнула я, – иначе было бы слишком хорошо.
– Знаете, – сказал Дюкро, – это ничего не меняет. Я готов позвонить мсье Краму и отказаться от нового журнала, а вы останетесь с нами.
Я улыбнулась, вернее, попыталась улыбнуться, но мне это стоило усилий.
– Это было бы слишком глупо, – ответила я. – Я должна уйти, но не думаю, что Юлиус окажется настолько мелочным, чтобы мстить за это вам.
Секунду длилось молчание, и мы смотрели друг на друга с какой-то нежностью.
– Мое предложение остается в силе, – сказал он, – и если вам когда-нибудь понадобится друг… Простите меня, Жозе, я считал вас прихотью…
– Так и есть, – спокойно подтвердила я, – во всяком случае, было. Я вам позвоню.
И я быстро вышла, потому что у меня щипало глаза. Я огляделась: кабинет-труженик, бумаги, репродукции, пишущие машинки – какая убедительная декорация для поддержания иллюзий – и вышла. Я зашла не в первое кафе, где собиралась наша дружная компания, а в следующее. Я вся была как натянутая струна, мне хотелось только одного – узнать, разоблачить, неважно, что именно. Обратиться к Юлиусу я не могла. Он превратит это предательство, эту покупку меня в знак внимания со стороны благородного человека, в подарок молодой потерянной женщине. Я знала только одного человека, который ненавидел меня настолько, чтобы быть откровенным, – это была беспощадная мадам Дебу. Я позвонила ей, и каким-то чудом она оказалась дома.
– Я жду вас, – сказала она.
Она не добавила «не сходя с места», но в такси, которое везло меня к ней, я представила, с каким ликованием она сейчас поправляет прическу, готовясь к этой встрече.
Я сидела у нее в гостиной, погода была прекрасная, я была совершенно спокойна.
– Не станете же вы утверждать, что вы всего этого не знали?
– Я ничего не стану утверждать, – ответила я, – потому что вы мне не поверите.
– Разумеется. Еще бы, вы не знали, что невозможно найти жилье на улице Бургонь за сорок пять тысяч старых франков в месяц? Вы не знали, что портные – в частности, мой – не одевают бесплатно незнакомых женщин? Вы не знали, что этого места в журнале добиваются полсотни молодых искусствоведов куда образованнее вас?
– Я должна была это знать, вы правы.
– Юлиус очень терпелив, и эта жалкая игра могла длиться очень долго, каковы бы ни были ваши капризы. Юлиус никогда не умел отказываться ни от чего. Но должна вам сказать, что его друзьям, особенно мне, невыносимо было видеть его в услужении у какой-то…
– У какой? – спросила я.
– Скажем, в услужении у вас.
– Прекрасно.
Я рассмеялась, что несколько вывело ее из равновесия. Ненависть, презрение, недоверие – все это било через край и делало ее почти забавной.
– Но чего же, по-вашему, хотел Юлиус? – спросила я.
– Чего хочет Юлиус, хотите вы сказать! Он сказал мне об этом с самого начала: он хотел дать вам интересную, приятную жизнь и оставить вам время для кое-каких глупостей, которые так или иначе приведут вас к нему. Не думайте, что вы так легко отделаетесь. Наше знакомство еще не кончилось, моя дорогая Жозе.
– Думаю, что кончилось, – сказала я. – Видите ли, я решила жить с Луи Дале и на следующей неделе уезжаю в деревню.
– А когда он вам надоест, вы вернетесь, Юлиус будет здесь, и вы будете очень рады встретиться с ним снова. Ваши комедии его забавляют, ваша мнимая наивность смешит, но не злоупотребляйте этим.
– Если я правильно поняла, он тоже меня презирает.
– Отнюдь. Он говорит, что в глубине души вы честны и в конце концов уступите.
Я встала, улыбаясь на этот раз без всякого усилия.
– Не думаю. Видите ли, вы ослеплены презрением: есть нечто, о чем вы и не подозреваете, – мне смертельно скучно с вами, с вами и вашими махинациями. Махинации Юлиуса оскорбляют меня, потому что я к нему хорошо отношусь, но вы, по правде сказать…
Удар попал в цель. Слово «скука» было для нее самым невыносимым и безжалостным, а моя невозмутимость напугала ее больше, чем возможный гнев.
– Я постепенно уплачу и Юлиусу, и портному, – сказала я. – Я сама поговорю с бывшей свекровью и как можно скорее улажу дело с алиментами, обойдясь без Юлиуса.
Она остановила меня у дверей; вид у нее был встревоженный.
– Что вы скажете Юлиусу?
– Ничего, – отрезала я. – Мы с ним больше не увидимся.
Я широко шагала по улице и напевала. Что-то вроде радостной злости бурлило во мне. Довольно, я покончила с ложью, недомолвками и жалкими уловками. Для развлечения этих людишек меня потихоньку купили. Как они, должно быть, потешались над моим независимым видом и моими похождениями. Здорово же они меня надули. Я была в отчаянии, но в то же время чувствовала облегчение: я наконец знала, на каком я свете. Они надели на меня красивый золотой ошейник, но цепь оборвана, так что теперь все хорошо.
Укладывая свои пожитки, кстати весьма скудные, потому что я взяла с собой только несколько платьев, которые у меня были раньше, я с иронией думала о том, что самоуважение – решительно не мой удел. Из-за слепоты и легкомыслия я позволила Юлиусу выставить себя на посмешище перед его друзьями и, наверное, перед ним самим. И за это была обижена на него, потому что если он меня любил, вопреки своему презрению, то не должен был допускать, чтобы другие меня осуждали. Благодарным взглядом я окинула свою квартиру, где понемногу излечилась от Алана, где узнала Луи – свое призрачное, но теплое убежище. Я взяла собаку на поводок, и мы спокойно спустились по лестнице. Хозяйка, еще одна ставленница Юлиуса А. Крама, сочла за лучшее не показываться. Я сняла номер в маленькой гостинице. Я лежала на кровати – пес был у меня в ногах, чемодан – на полу, – смотрела, как на полгода моей жизни и умершую дружбу опускается вечер.
Лето прошло в доме Луи, ликующее и нежное. Он никак не комментировал мой рассказ. Просто стал еще нежнее и внимательнее ко мне, чем раньше. Часто приезжал Дидье. Мы вместе искали дом в окрестностях Парижа и наконец нашли недалеко от Версаля. Мы были счастливы, и тот моральный надлом, усталость и грусть, которые сопровождали мое бегство, к концу месяца рассеялись. Я не писала Юлиусу и не отвечала на его письма, впрочем, я их и не читала. Ни с кем из их кружка я не виделась, мы встречались с друзьями Луи, с моими старыми друзьями, и я чувствовала, что спасена. Я избежала опасности, может быть, не имеющей конкретного выражения, но именно поэтому казавшейся теперь в тысячу раз более страшной, чем те, которые подстерегали меня до сих пор: я едва не стала воспринимать себя всерьез, едва не разделила жизнь с людьми, которых не люблю, едва не отдалась скуке, назвав ее другим именем. Жизнь возвращалась ко мне, она возвращалась ко мне вдвойне, потому что в августе я почувствовала, что жду от Луи ребенка. Мы решили крестить их вместе, ребенка и собаку – ведь у нее все еще не было имени.
Мы только что устроились, а через несколько дней, в Париже, переходя под дождем авеню де ла Гранд Арме, я встретила Юлиуса. «Даймлер» выехал из-за поворота. Я сразу же узнала его и остановилась. Юлиус вылез из машины и подошел ко мне. Он похудел.
– Жозе, – сказал он, – наконец-то! Я был уверен, что вы вернетесь.
Я смотрела на него, на этого упрямого человечка. Мне показалось, что я впервые смотрю ему в лицо. Все те же голубые глаза, поблескивающие за стеклами очков, тот же темно-синий костюмчик, те же безжизненные руки. С огромным усилием я вспомнила, что именно этот человек так долго был для меня символом поддержки. Теперь он казался мне каким-то чужаком, маньяком – образ тусклый и в то же время пугающий.
– Вы все еще сердитесь? Ведь с этим покончено, не так ли?
– Да, Юлиус, – сказала я, – с этим покончено.
– Я думаю, вы поняли, что все это делалось для вашего же блага. Возможно, я был несколько неловок.
Он улыбался, очевидно, весьма довольный собой. А у меня снова возникло то же ощущение, что и первый раз, в «Салина» – что передо мной какой-то незнакомый и совершенно непонятный механизм. Я не могла припомнить ни одного хотя бы краткого диалога между нами, я помнила только его монолог на пляже, тот единственный раз, когда он показал мне более или менее понятное лицо, и только это воспоминание заставляло меня в нерешительности стоять перед ним вместо того, чтобы убежать.
– Я получал о вас известия все лето, – добавил он. – Я знаю Солонь так же хорошо, как и вы.
– Опять ваши частные сыщики…
Он улыбнулся.
– Вы ведь не думаете, что я перестал заботиться о вас?
Гнев вдруг охватил меня, и я услышала собственные слова прежде, чем решила их произнести.
– А ваши частные сыщики уже доложили вам, что я жду ребенка?
На миг он застыл в растерянности, затем снова овладел собой.
– Но это очень хорошая новость, Жозе. Мы прекрасно воспитаем этого ребенка.
– Это ребенок Луи, – сказала я. – В будущем месяце мы поженимся.
И тут, к моему удивлению, к моему величайшему ужасу, его лицо исказилось, глаза наполнились слезами, он яростно затопал ногами и замахал руками.
– Это неправда, – вопил он, – это неправда, это невозможно!
Я смотрела на него, оцепенев, как вдруг позади него появился шофер и схватил его за плечи как раз в тот момент, когда он хотел меня ударить. Стали собираться люди.
– Это мой ребенок, – вскрикивал Юлиус, – и вы тоже, вы тоже моя!
– Мсье Крам, – говорил шофер, оттаскивая его назад, – мсье Крам…
– Оставьте меня, – кричал Юлиус, – оставьте меня! Это невозможно, говорю вам, этот ребенок мой!
Шофер утащил его, а я внезапно очнулась от столбняка, повернулась и бросилась в первое попавшееся кафе. Я долго сидела там, стуча зубами и пытаясь овладеть собой. Я не решалась выйти, мне казалось, я снова увижу Юлиуса на том же месте, увижу, как он задыхается и топает ногами, а на глазах у него эти ужасные слезы ярости, разочарования и, может быть, любви. Я позвонила Дидье, он заехал за мной и проводил домой.
Через два месяца я узнала о смерти Юлиуса А. Крама. По-видимому, он скончался от сердечного приступа вследствие злоупотребления тонизирующими средствами, транквилизаторами и другими лекарствами-уловками. Мы прошли по жизни друг друга, неизменно параллельным курсом и неизменно чуждые друг другу. Мы видели друг друга только в профиль и никогда друг друга не любили. Он мечтал лишь владеть мной, а я – убежать от него, вот и все; если вдуматься, история довольно жалкая. И все-таки я знаю, что, когда время все расставит по местам, в моей хрупкой памяти я увижу только прядь светлых волос, виднеющуюся над гамаком, и услышу голос, неуверенный и усталый: «…с тех пор, как я познакомился с вами, мне не бывает скучно».
notes
Примечания
1
Debout( фр.) – стоя. – Примеч. пер.
2
Честная игра ( англ.).