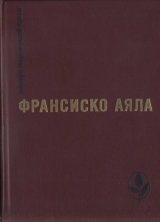
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Франсиско Аяла
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
Полярная Звезда
© Перевод Н. Трауберг
Однажды утром он вышел из дому, чтобы отдохнуть от резкого света любви (он, как и все, был очарован кинозвездой) в зеленом свете парка, целительном свете, который хранят сады на этот самый случай.
Подойдя к аллее, он чуть не утопил свои чувства в излучине серой асфальтовой реки, извилистой и неизменной.
Остановила его лавина велосипедов и летящих по воздуху волос. Перед ним замелькали розовые девичьи ноги – одна, другая, одна, другая – и победоносные бюсты под тесными свитерами. Резиновые кольца шин стерли его порыв, а легкая цветочная стая никеля, плоти, ветра, словно вентилятор, сдула с него печаль.
Через мгновение все это исчезло.
I
Он откинулся в кресле, прислонившись головой к карте мира – мечте, вписанной в чертеж. Стол перерезала наискосок стая открытых книг, больших и малых (трепетнокрылые чайки, слетевшие с географической сини сквозь сетку меридианов, подобную спицам зонта). Книги повествовали о путешествиях – арктических и африканских, древних и новых, на самолете и в лодке.
За окнами проплывали облака, словно кто-то неспешно расстилал одеяла. Бродячие аэростаты, долгие белые крики, затерявшиеся в вышине.
Пониже царил индустриальный пейзаж: фарфоровые изоляторы, белые птицы с лиловой электрической шейкой, сидели на каждом столбе, за прутьями проводов, а фабрики, отряхивая со стекол отблески заката, пускали вдогонку за облаками тускло-черный дым.
Тем временем книги на столе – скорее духом своим, чем буквами, – навевали мысли о льдах, о скалах, о моторных лодках.
На шкафу одинокой звездой сонно кивал старинный глобус в круглой клетке небесных сфер.
…Он стал набрасывать на листе алые линии. Перо неспешно выпускало кровь из перерезанных жил, а бумага, испещренная штрихами, становилась похожей на план каких-то дорог или самых разных линий метрополитена.
Несказанная радость овладевала им, рука отражала зыбкость мыслей, мечущихся и мерцающих, которые не удалось остановить и на мгновенье.
Вдруг он застыл, подняв перо, словно красноклювый петух, намеревающийся клюнуть тень жука на стене.
Столько времени проплавав в море ускользающих мыслей, он наконец поймал одну, поставил на якорь, и она дышала запахом далей, водорослей, улыбок.
Он вздрогнул, вернувшись в настоящее. Сегодня, теперь, сейчас, была премьера ее новой ленты. Перед глазами, так близко, что контуры расплывались, не попадая в фокус, возникли плакаты, рекламы, светящиеся буквы. Его Звезда – скандинавская, полярная – должна была снова явить свои приключения, позы и взоры.
Молот радости застучал в его груди, а в комнате воцарилась та полная пустота, которая бывает в дни свиданий.
Он посмотрел на часы. Всегда спокойные и точные, сегодня они ошибались, пульс их участился. Пришлось поминутно сверять время по огромным часам суток, чья ускользающая скорость сильно мешала ему.
Он взглянул снова. И еще раз. (Как идилллически прекрасны и взгляд его, и часы!) Секунды мурашками щекотали душу, он часто моргал.
Море на карте затопило алые страны; книги, тихо позвякивая, отряхали крылышки.
Он нарисовал улитку, пружину, несущуюся вдаль. Левая рука, до той поры лежавшая недвижно, как пресс-папье, ожила и, жадно шевеля всеми суставами пальцев, потянулась к другому краю стола, а потом предалась несказанному наслаждению, ощупывая пленку – срезанный завиток, изогнутый кусочек целлулоида, испещренный по краю дырочками, словно телеграмма.
Он встал (у кресла, ломило спину; пленка подрагивала, как струйка крови) и подошел к окну, чтобы посмотреть на просвет крупный план Звезды, упиваясь оттенками едва заметной, микроскопической улыбки.
Кадрик выпал из рук и, кружась, опустился на пол. (В глазах неподвижно застыл индустриальный пейзаж.)
Как радовался он в дни премьер, в дни новой встречи!
Он вынул из бумажника билет, зеленый прямоугольник, купленный накануне, подержал в дрожащих пальцах (такой-то ряд, такое-то место) и снова положил в карман.
II
Медленно, окольными путями, он приближался к афишам. Двухцветные киноафиши тревожили его, как ширма. Кроме того, они грубо предвещали – нет, искажали облик Звезды, и этого вынести он не мог.
Зато светящиеся рекламы, синие и серебристые, воссоздавали ее движения, ее неповторимость и радость. Вспыхивали они внезапно, как ее улыбка, исчезали нежданно, как она сама.
Прежде чем войти, он подождал, как обычно, чтобы погасили свет, а по экрану пронесся международный ветер надписей. Так бросался он в море любви, куда неслись реки с запада и востока, с севера и с юга.
Яхты – легкие перья – четко чертили штрихи над стаями лодок. Кружили юркие миноносцы с номером, прикованным к борту. На крейсер шли матросы; снежный пейзаж напоминал о женских плечах. (Вихрем пронеслась пара конькобежцев, руки сплетены, ноги – врозь.)
Хроника кончилась, дали свет.
Заскользили заглавия ленты, где играла его Звезда.
Когда окно экрана озарила заря и Утренняя Звезда воссияла в одеждах света, влюбленный содрогнулся от счастья до самых своих глубин, ему сдавило грудь, а душу затопило трудное чувство нездешнего и недостижимого.
О Полярная Звезда кинематографа, немыслимая краса, как ты далека и как много твоих изображений! Твоя немая песнь в бесчисленных залах влечет к берегам экрана восторженный прибой джазовых звуков, а голубые отблески глаз, нежно глядящих то вправо, то влево, завораживают влюбленную душу. Герой наш себя не помнил, стараясь поймать острие разящего взгляда, а поймав, растворялся в блаженном небытии.
Лента скользила полоской спрессованных чувств, трепетавших в такт его пульсу.
Как и следовало ожидать, бледно замелькали эпизоды погони. Испуганное лицо Звезды тонуло в пучине экрана или пропадало, словно слабый след, между створками разных планов, легкими белыми крыльями смыкавшимися за ее спиной.
Едва миновала нелепая опасность, возникла другая, непредвиденная: что-то случилось в будке. То ли подвел проектор, то ли киномеханик, этот коварный мифологический персонаж, но ровно трепещущая лента резко дрогнула – раз, другой, – а с нею вместе и сердце влюбленного. Фильм сбился с ритма, Звезда переломилась надвое и перевернулась ногами вверх, головою вниз, словно в страшном сне. Прекрасное лицо, озаренное улыбкой, замаячило у самой земли.
…Проектор одумался, и все встало на свои места.
Очарование вернулось в блеске мельчайших деталей.
Взоры влюбленного пылали страстью, словно петухи перед боем, когда Звезда (наконец, наконец!) осталась одна в своем будуаре.
Она зажгла свет, а он, в смятенье, увидел, что она раздевается, обещая тем самым осуществить его заветную мечту.
Вода в ванне дрожала трепетно и нежно, в такт его чувствам. Часы от волнения остановились, а потом понеслись вскачь, потому что Звезда снимала одно одеяние за другим.
Засияла заря ее плеч с электрическим отблеском, и, морскою сиреной у берегов зеркального моря, она подняла холодные, беспомощные руки. Бледные змеи ног, как его карта, были испещрены сеткою синих линий…
Вот и все.
Звезда подняла взор, по-видимому, смутилась и бесследно исчезла, повинуясь велению сюжета.
Влюбленный остался ни с чем, раздосадованный и беспокойный, словно двери спальни закрыли перед ним завесой ледяной воды.
III
Следующий день – день мелких ошибок, сто раз начатый заново, – он провел отрешенно, погрузившись в себя, и потому его мысли и действия были медленны, как рыбки аквариума.
Он вглядывался в какие-то ничтожные предметы и с трудом, не сразу, отрывался от них.
Когда настал час, он, сам того не желая, почти машинально, вышел из дома и долго шел куда-то.
Окраина подарила ему предвечерний свет. Большие дома не поддавались тревоге, они стояли прочно. Незастроенные участки щеголяли спортивными поясами оград, а новенькие тротуары чертили план красивых будущих кварталов.
Чем дальше он шел, тем холоднее все казалось, переходя от белого к серому. Дома стали четче и богаче, проталины гаражей уступали место особнякам. (Но сердце города, пронзенное проводами, было еще далеко.)
Реклама какой-то фирмы привлекла его внимание, он обернулся и не заметил ничего необычного в сочетании трех цветов. Однако с этой минуты она повторялась на каждом углу.
…Водопад соблазнительно-влажной музыки обрушился на него; рядом стоял большой шатер из белой парусины. Он подошел поближе. Сразу за входом танцевали по двое солдаты и матросы, высоко поднимая руки, а внизу позвякивали шпоры и птичьей стаей мелькали обшлага брюк. Музыка текла и текла, словно поток.
Влекомый любовью, он прошел мимо. Все так же, ничего не решая заранее, оказался в фойе кинотеатра, перед афишей, и поразился тому, как искажен привычный жест Звезды.
Толпа, валившая в зал, унесла с собою и его.
Внутри, в зале, влюбленный принялся листать альбом своих чувств, придирчиво проверяя вчерашние открытия. Он отмечал мельчайшие движенья сердца, уместившиеся между предвкушением радости и восторгом подтвердившейся догадки.
Когда настал нужный миг, он понял смысл сцены, столь несчастливо прерванной накануне. Все встало на свои места, хотя оказалось мимолетным и незначительным.
Здесь и сейчас он мог положиться лишь на ту недолговечную верность, которой и не бывает нигде, кроме кино. Однако сцена раздеванья вызвала в нем такие же пылкие чувства, слегка окрашенные злостью.
Не в силах сдержаться, он встал и вышел из зала, преследуемый шепотками.
До́ма выступали из мрака лишь оправа глобуса да край стола – остальное утонуло во мгле, но комната видела, как белым призраком возник он на пороге и, нервно шаря по стене, стал искать выключатель.
Лампочка, словно свежий плод, возникла в привычном воздухе будней, а он, нерешительно и несмело, добрался до кресла, держась за стол, как за спасательный круг, тяжело опустился на сиденье и принялся приводить свою скорбь в порядок, крутя и терзая случайный листок бумаги.
Наконец он резко развернул листок и вознесся духом. Вот оно, внезапное озарение отвергнутых влюбленных!..
Шкатулка, где он хранил кадры из ее фильмов, со скрипом явилась на свет и щедро преподнесла ему горсти прозрачных стружек, вороха дрожащих завитков.
Он поднес к ним зажженную спичку, и хищное пламя мгновенно охватило эту коллекцию воспоминаний. Груда целлулоида превратилась в цепкий, незабываемый запах.
Однако память не отмылась, прилипла к сердцу пленкой жира, резиновой перчаткой. Оставалось одно: перекрутить ленту задом наперед, неумолимо избавляясь от чувств, вызванных каждым кадром.
Но он на это не решился. Ему претили те неизбежные ошибки, которые возникают, когда мы пытаемся победно смотреть на прошлое, ибо настоящее принесло нам лишь позор.
Он и пытаться не стал.
…Ах, если бы у него сохранился хотя бы один ее портрет, просто для утешенья!
Он сжег все – все как есть, – постыдно спеша, чтобы обогнать раскаяние.
IV
Он боялся, что в нужный миг тормоза воли откажут. Внутри себя он ощущал еще кого-то, словно там затаился пленник, и его страшило, как бы тот не совершил чего-нибудь непоправимого или хотя бы неприличного.
Но выхода не находил.
Каждый день его болезненно удивляло, что девицы, которых он случайно встречал, совсем непохожи на Звезду, небесную и хрупкую, словно ангел.
Однако в этот день он удивился особенно сильно, совсем потерялся, даже руки его не слушались.
Он решил покончить с собой – так продолжаться не могло – и, не дожидаясь совета, направился к мосту.
Город дарил ему на прощанье кинематографические пейзажи, кадр за кадром (что могло быть лучше?), но они чуть – чуть дрожали, трепетали едва заметно.
Никогда еще не был он в таком покорном мире. Краски гасли, трогая сердце, – одни темнели, другие светлели, оставляя лишь белое с черным, шахматную доску вечности. Ветер сгонял с дерев нежные звуки и спящих птиц, распускал волосы плакальщиц-крон, подгонял кораблики листьев в тихих лужах.
А он ощущал одно измерение тела – его поверхность. О радость мира, которым ты овладел!
Он подходил все ближе к гребням волн. На мосту он низко нагнулся и подумал, что упадет, как растрепанный том с этажерки.
Потом он закрыл глаза (черная бездна, исчерченная молниями), протянул руки – антенны страха – и бросился вниз.
Тотчас же он с удивлением понял, что плавает в воздухе, который ласково подхватил его. Бог кинематографа снимал его падение замедленной съемкой.
Он спускался мягко, до липкой сладости нежно, освобождаясь в беззвучном танце от неуклюжих движений, пока не поплыл с той мерностью, с какою плывет под водою рыба.
Прямо. Наклонно. Параллельно земле. Ноги врозь. Руки – в стороны, Как у пловца.
Опустившись вниз, он разбился, словно фарфоровая кукла. Последнюю мысль и последний взгляд он обратил к Звезде. Она говорила с ним, она была близко. Ангел – восковой манекен, не видимый никому другому, – наконец снизошел к нему.
Небесное созданье промокнуло его подпись белым платочком и ясной улыбкой.
Вот и все.
Из книги «УЗУРПАТОРЫ»

Немощный
© Перевод Н. Матяш
«Руй Перес уже возвращается», – выдохнули пересохшие губы короля, и веки его снова бессильно опустились на расширенные зрачки. Из рощи, пробившись сквозь неумолчный шум водяной мельницы, донесся едва различимый и вскоре захлебнувшийся в воде звук охотничьего рога. Он ждал – вот захлюпала грязь под копытами лошадей, раздался топот подков, приглушенный опавшей листвой, и наконец зацокали копыта по вымощенному камнями двору.
Недвижный, бессильно откинувшись, вытянув руки и ноги, с бесконечным терпением король ждал. Там, внизу, – суматоха конюшен, скрип дверей и засовов, неясный, раздраженный шум перебранки и наконец на лестнице – все ближе и ближе – шаги егеря. И как только тот предстал перед королем, спросил дон Энрике[20]20
Энрике III (1379–1406) – сын Хуана I и Леонор Арагонской, король Кастилии (1390–1406), за свою болезненность получивший прозвище Немощный, в советской историографии часто переводимое как Слабый.
[Закрыть]:
– Ответь мне, Руй Перес, что случилось с моей рыжей кобылой, почему она пришла прихрамывая?
Егерь спокойно притворил дверь королевских покоев, молча вытянул перед ложем своего господина добычу – прекрасную цаплю. Бросив потом трофей на скамью, он сказал:
– Сеньор, не стоит волноваться. Заноза попала в переднюю левую ногу, но коновал уже лечит ее. Как же скоро узнал мой господин, что его любимая кобыла прихрамывает!
– Руй Перес, проклятый! Целый день все скакать и скакать. Для чего?
Слабая вспышка ярости подбросила короля на его походной кровати; локтем иссохшей руки опершись на соломенный матрас, он выпрямил спину и приподнялся, но тут же вынужден был отказаться от усилия – голова его снова упала в подголовье.
И тогда заворочалась в своем углу кормилица Эстефания Гонсалес, не шевелившаяся весь день, и поспешила к королю. Ее проворные руки поправили складки ворсистого одеяла и влажные волосы, сбившиеся на пылающий лоб больного. Он жалостно улыбнулся: «Старенькая моя, безумная матушка Эстефания!» И затих, а кормилица безмолвно вернулась на свое место. Чтобы чувствовать себя увереннее, королю было достаточно ее присутствия, немого присутствия Эстефании, чье молоко вскормило его худосочное детство. Присутствие кормилицы как будто возвращало ему жизненные соки, которыми с каждым глотком молока двадцать один год назад плотно сбитое тело женщины питало тельце новорожденного. Увы! Кто в те времена мог вообразить, что произойдет всего лишь через несколько лет? При дворе так никогда и не узнали причину проклятия, но в одно и то же время, с разницей в несколько дней, злая лихорадка разрушила кости короля-ребенка, навсегда подточила его здоровье, а кормилица состарилась раньше времени: та, что была свежей и привлекательной, быстро утратила свою горделивую осанку и разум, руки и ноги ее ослабли, а речи стали бессмысленными… Говорят, будто, увидев мать в таком бедствии, другой ее сын – настоящий, кровный, тот Энрике Гонсалес, что вырос на задворках замка, защищенный от издевательств окружающих гневом короля, всегда готового использовать свою власть, дабы прикрыть беззащитность молочного брата, – говорят, будто этот несчастный Энрике Гонсалес, увидев мать впавшей в слабоумие, рассмеялся с радостью, редко в нем наблюдаемой, словно хотел дать понять, что теперь, в потемках безумия, он снова обрел мать, воссоединился с нею после того, как столько времени чувствовал себя отринутым, лишенным по праву принадлежащей ему пищи, обреченным на забвение и обойденным ради наследника престола. Королевский же первенец, напротив, часами рыдал в своей постели, накрыв голову покрывалом, задыхаясь от горя, что кормилица покидала его, теряла свой облик именно тогда, когда особенно он в ней нуждался… Но надо было покоряться, и скоро он утешился. Конечно, погруженная в свое безумие, Эстефания не только не была прежней, но даже отдаленно не напоминала собственную тень: она не вела хозяйство, не развлекала его своими прибаутками, как раньше; но по крайности была здесь, рядом с Немощным, молча и недвижно составляя ему компанию. И только по временам, когда она разражалась нечеловеческими воплями, приходилось силой вытаскивать ее из королевских покоев и запирать в башне. Но бывало это нечасто, раз от разу все реже и реже, и даже казалось, что болезнь отступала…
И снова уселась престарелая кормилица на своей скамеечке подле окна, а Руй Перес тяжело опустился на скамью, сдвинув в сторону принесенную королю цаплю. Вытянув усталые ноги и помолчав, заметил он дону Энрике:
– Сеньор, сегодня узнал я новость, опечалившую меня: Алонсо Гомес со всеми своими людьми перешел на службу к епископу дону Ильдефонсо.
– Что? Кто сказал тебе? Доподлинно ли это известно? Король слишком хорошо знал, что известие верно; многажды за минувшие месяцы тревожился он по поводу затянувшегося отсутствия своего скрытного и коварного вассала и если никогда не задавал вопросов, то потому лишь, что боялся услышать правду. Но в отчаянии он пытался еще развеять подозрения, искал опоры в сомнении.
– Верно ли известие? – еле слышно переспросил он. Но тут же, не дождавшись ответа, губы его горько скривились: – Помоги мне, Боже: еще одно предательство!
Но егерь не дал ему укрыться за облегчающими душу стенаниями:
– Сеньор, Алонсо Гомесу вот уже три года не платят содержанье.
– Но ведь и тебе, и тебе, Руй Перес, не платят твоих денег, а ты еще не покинул меня.
– Сеньор, если король оставляет своих подданных, как может ожидать он, что они не покинут его?
Ничего не возразил дон Энрике, только прерывистое дыхание слышалось в тишине залы. Он прикрыл глаза, и спасительное прибежище сна было уже близко, когда суровый, негромкий голос егеря снова настиг его:
– Нет, пока жив Руй Перес, не будут брошены на произвол судьбы королевские соколы. Нужно только, чтобы сам король не бросил нас…
Чуть спустя услышал дон Энрике, как закрывалась дверь за спиной королевского егеря, шаги его затерялись внизу лестницы – и больше ничего. Прошло немного времени, и снова задремал король – чудилось ему в дреме, что он слышит шум кузнечного молота, терпкий запах подпаленной кости, – и тут собака вылезла из-под кровати, стала лизать лежавшую поверх простыни руку. Вздрогнув от прикосновения влажного собачьего носа, рука короля медленно шевельнулась, чтобы погладить голову животного, но не могла нащупать ее в воздухе: собака уже отошла обнюхать брошенную на скамью цаплю.
– О горе мне! Эта болезнь вошла в меня так же прочно, как гончая впивается в кабана, и я не в силах вырвать ее из моего тела… И как же мучительно болеть зимой на землях Бургоса, – вполголоса пожаловался дон Энрике. – Все безжизненно, мертво, погребено и навсегда забыто. И я, несчастный, я, король Кастилии, должен догорать на этой постели, свидетельнице моих мук?… – И помолчав, дрожащим голосом он сказал, теперь уже обращаясь к Эстефании: – Кормилица, может быть, мне пойдет на пользу встать, ненадолго переменить положение? – И тут же, нетерпеливо: – Ну же, отвечай! Я никогда не поверю до конца, что ты не понимаешь моих слов, недвижная, как каменное изваяние, коварное изваяние, которое только глядит молча…
Легкий румянец гнева на мгновение окрасил бледные щеки, чтобы тут же исчезнуть. Откинув покрывала, король нервным движением, без чужой помощи, поднялся с кровати и, поколебавшись, устроился в огромном кресле, стоявшем перед окном. И тогда кормилица поспешила накинуть ему на плечи одеяло и обернуть края вокруг закутанного тела.
– Одеваешь, заворачиваешь меня, как маленького ребенка. Это ты можешь. И это все, что осталось от тебя, кормилица, и, увы, все, что осталось от меня!
Усталое дыхание, вырывавшееся из груди короля, заглушило его слова. Постепенно и возбуждение его начало спадать, и он наконец успокоился, отрешенно глядя в окно. Со своего места видел он пустынный двор, обнесенный толстой стеной, над которой протягивали голые ветви ряды черных тополей. И над всем этим – затянутое тучами небо. А в глубине, в углу двора, гниющая от сырости доска… Устав, отвел дон Энрике рассеянный взгляд и посмотрел на исхудавшие, болезненные руки, лежавшие на коленях. «Сегодня Руй Перес принес мне цаплю, – лениво перебирал он свои мысли, – прекрасную цаплю – вон она… Королевскую цаплю!.. Какой сегодня день? Впрочем, день кончается, опускается вечер; да, уже вечер».
И тут снаружи донесся хорошо знакомый смех его молочного брата Энрике Гонсалеса и снова привлек внимание короля к тому, что творилось во дворе. Вон он – переругивается с молодым конюхом. Парень нес на закорках мешок, а Энрике Гонсалес дергал его за рукав, пока тот не потерял равновесия. И вот конюх приводит себя в порядок, чертыхаясь, старается вытереть измазанную в грязи руку о волосы идиота, а тот вскидывает мешок своими крепкими руками – сил ему не занимать, – закидывает его на спину и так, нагруженный, бегом пускается к конюшне, а конюх, сердито ухмыляясь, провожает его взглядом. Один за другим оба они скрылись в задней двери, а в опустевшем дворе остался двойной ряд следов, и лишь в одном месте, там, где конюх поскользнулся, цепочка следов прерывалась. Дон Энрике задумался об Энрике Гонсалесе: его ровесник, но какой сильный; огромные руки всегда в движении, готовы схватить все, что попадется. «Посмотрите на него, – размышлял король, – сила играет в нем даже среди снега и холода; скоро он отправится со двора, чтобы опустить сачки в ручьи, и вернется, довольный собой – ручищи до крови поцарапаны об острый лед, но переметная сума полна раков; он устроится около печки, сварит их в котле и, не слушая насмешек поваров, будет молча сосать своих раков, пока наконец ему не взбредет улечься спать где-нибудь в уголке кухни. И таким же он будет через десять, двадцать, тридцать лет… Так же, как сегодня, будет отдаваться во дворе замка его бессмысленный гогот. Пока Господу угодно… А я? Когда меня Господь призовет к себе? Я, что я делаю тут? Верчусь на этой постели, а в голове у меня вертятся вопросы, на которые нет ответа. И так, пока Господь не распорядится. Разве не лучше?…»
В неожиданном порыве схватил он шнурок колокольчика и яростно затряс его. Затем, уронив руки на колени и вперив взгляд в дверь, принялся ждать. Легкие шаги пажа послышались на лестнице.
– Пусть сейчас же поднимется Руй Перес.
– Сеньор, Руй Перес снова уехал, его нет в замке.
Король погрузился в столь длительное молчание, что стало казаться, будто несколько слов, которыми он обменялся с пажом, никогда не произносились вслух, и тот, застыв у двери, решил, что о нем забыли.
– Сеньор! – прошептал он.
– Тогда пусть явится Родриго Альварес. – И с этим приказанием пажа, наконец, отослали.
Когда после некоторого ожидания дверь снова отворилась, она впустила бородатого, лысеющего мужчину, полного спокойной сдержанности.
– Как понять, Родриго Альварес, – сказал дон Энрике, лишь тот оказался перед ним, – как понять, что король вынужден проводить дни свои в одиночестве, лишенный поддержки, и опорой ему служит только несчастная Эстефания, которая сама не менее нуждается во внимании?
– Сеньор, вы хорошо знаете: кормилица – единственное существо, которое вы терпите рядом; никто более не осмеливается переступить порог этих покоев, не будучи званым. К тому же – и это вам тоже известно, – каждый из ваших подданных самозабвенно отдается своему делу – а это лучшая услуга, которую мы можем оказать королю в такие трудные времена, когда дела наши столь плачевны.
– Сядь тут, подле меня, друг мой Родриго Альварес. Ты видишь, здоровье мое поправляется, и я желаю знать все новости.
Престарелый придворный погладил бороду и, помолчав, начал, взвешивая каждое слово:
– Я, право, не хотел бы, дон Энрике, отягощать ваше внимание больного такими суровыми заботами. Но если вы приказываете, то я могу сообщить лишь дурные вести. К чему, сеньор, вам их знать, раз мы уже стараемся найти возможное решенье?
– Я приказываю, говори.
И тогда мажордом короля, не торопясь, тщательно подбирая точные слова, с беспощадной настойчивостью начал рассказывать о насилии, об уроне, который, не зная передышки, причиняли короне ее подданные. Вырубленные леса, угнанные стада, ограбленные деревни, неоплаченные ренты, униженные или обиженные вассалы, угнетенные слуги – все эти события оживали в богатстве деталей, бесстрастно приведенных в доказательство мажордомом, и множились, как множатся обломки разрушенной крепости у подножия того, что некогда было прочным зданием.
С трудом удавалось дону Энрике следить за переплетением событий, которые подданный его излагал с утомительным перечислением всех обстоятельств, имен и дат: эта интрига выплыла совсем случайно, а то предательство стало известно по доносу простолюдина, жаловавшегося на плохое обращение… И дрожал король, как человек, которому чудится, будто изо всех углов за ним наблюдают сотни невидимых глаз.
– Довольно! – вскричал он. – Довольно! – закричал и взмахнул руками, как бы отмахиваясь от всей этой подлости. Мажордом сухо оборвал свой доклад и замолчал. Король, нахмурив брови, уронил тяжелую голову на сплетенные руки.
– Если Господь даст мне силы, летом я наведу порядок.
И Господь дал ему силы. Когда сильные холода остались позади, здоровье дона Энрике стало улучшаться; он приказал расчесать свою бороду, привести в порядок ногти и вскоре начал совершать небольшие охотничьи прогулки по полям. Тело его еще было неуверенным и слабым, о выздоровлении, скорее, свидетельствовало поведение окружающих: как лесные звери при нетронутом снеге покидают свое логово и даже осмеливаются забредать в селения, чтобы при малейшей опасности снова спрятаться в норы, так, когда король, пересиливший свою болезнь, поднимал взгляд, прятали глаза все, кто тайком наблюдал за ним; и несть числа этим глазам – все лесные обитатели, все жители королевства, весь мир караулил его движения и пристально следил за перебоями в его дыхании…
Дон Энрике напрягал воображение в поисках средств, которые могли бы вернуть подлинную власть Короне; но насильственные меры, которые сам он приберегал на конец и которые должны были выправить его пошатнувшиеся дела, начинали тайно вынашиваться за его спиной. Замысел этот, родившись в лихорадочном бреду, во время нескончаемых бессонниц, годами незримо жил в нем; он постепенно вызревал, был тщательно продуман, и немало надежд возлагалось на него. И тем не менее теперь, когда он обретал реальные контуры и приходил в движение, как змея, которую можно спутать с высохшей веткой, пока она не поднялась с медлительной решимостью, – теперь замысел этот оказывался порождением обстоятельств, неизвестных еще и самому королю.
Так, поздней весной, когда король, наохотившись, с наступлением вечера, усталый, но довольный, возвращался со своей свитой в замок, в глубинах его под грубые шутки слуг, коротавших время в кухне у очага, уже начали плестись первые нити той сети, которая опутает короля. Не подозревая ни о чем, молча скакал дон Энрике, и каждый шаг приближал его к единственному акту насилия, которым будет отмечено его царствование и для выполнения которого понадобится от несчастного напряжение всех сил.
Если хотим мы докопаться до истоков, придется спуститься в кухню и послушать бесхитростные, грубые и примитивные речи, что ведут там простолюдины. Все пошло со случайного, сопровождаемого зевком, вопроса какого-то поваренка:
– Когда начали готовить ужин?
– Об этом, – ответил повар, – пойди спроси у мажордома, только он и может сказать. Но коли хочешь моего совета, не трать время на расспросы, а то придется жалеть. – Раздавшиеся смешки задели парня, а повар, напротив, приободренный ими, продолжал: – Нечего смеяться. Он хочет есть, вот и спрашивает. Ну-ка скажи, паренек, ты голоден?
– Кому какое дело, это никого не касается, кроме меня. Но уже темнеет, и скоро вернется король…
– Так что же? Подумаешь, великая новость! Если хочешь знать, сегодня ужина не будет. Что ты на это скажешь? Не нравится? А разве ты никогда не слыхал, что у настоящего короля ничего нет и даже голод утолить ему нечем? Можешь радоваться – в этом мы похожи на царя небесного, который чем беднее, тем славнее. Сегодня мы все постимся вместе с королем Кастилии в наказание за наши грехи.
– Что за шутки, сеньор дон котелок? – оборвал его раздавшийся у двери суровый голос кузнеца. – Положение короля и без того плачевно, чтобы мы еще подшучивали над ним.
– А с чего вы взяли, что я шучу? Я говорил парню, чтобы он готовился к воздержанию: он уже достаточно взрослый, чтобы соблюдать посты; и я учу его на примере Спасителя, чтобы он, видя, в какую нищету впал дон Энрике, не вздумал осуждать того. Откуда вы свалились? Я сказал, что ужина не будет, и его не будет – это правда, а не шутки. Если уж вам так плохо, вам и остальным, или хотя бы только для того, чтобы этот парень наконец перестал зевать, почему тебе, Марото, не пойти к дверям дома его преосвященства – ты ведь свой человек в этом святом доме – и не попросить слуг господина епископа вынести тебе в плошке объедки, оставшиеся после пира, устроенного вчера хозяином дома? Ты можешь просить милостыню от имени твоего хозяина – почему бы королю Кастилии не быть нищим?
– Ну и епископа послал нам Господь! – воскликнул тот, кого звали Марото. И чуть помолчав в задумчивости, начал в мельчайших подробностях рассказывать собравшимся о торжестве, на котором он помогал прислуживать накануне. Этот парень повидал разные места и умел заставить себя слушать. Он восхвалял роскошь приема, устроенного прелатом в честь грандов королевства, преувеличенно расписывая обилие еды, расточительство и обжорство, а где не хватало слов, помогал себе руками. Тут же, понизив голос, он сообщил с важностью, что безудержную жадность в еде сменила жадность до гербов: ведь кастильская знать собралась за столом епископа дона Ильдефонсо не набивать животы до икоты, а чтобы договориться, как, свергнув Немощного, раздробить королевство и поделить его части.








