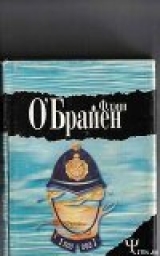
Текст книги "А где же третий? (Третий полицейский)"
Автор книги: Флэнн О'Брайен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Вы поведали мне о первом правиле мудрости, – отважился я на вопрос. – А каково второе правило?
– На этот вопрос может быть дан ответ. Всего существует пять правил. Всегда задавать вопросы, которые требуется задать, но никогда не отвечать на вопросы. Оборачивать все, что услышано, себе на пользу. Всегда носить с собой ремонтный набор. Как можно чаще поворачивать налево. Никогда не задействовать передний тормоз первым.
– Ну что ж, весьма интересные правила, – сказал я довольно сухо.
– Если следовать им, – наставительно сказал сержант, – спасешь душу и никогда не упадешь с велосипеда на скользкой дороге.
– Я был бы крайне вам признателен, если бы вы мне пояснили, какое из этих правил может помочь разрешить то затруднение, ради которого я сюда прибыл и смысл которого хотел вам изложить.
– Это надо было делать не сегодня, а вчера, – сказал сержант, – но так и быть, что у вас за проблема? В чем заключается crux rei[18]18
Суть дела (лат.) (Прим. пер.)
[Закрыть]?
Вчера? И я тогда же решил без дальнейших колебаний, что будет пустой тратой времени пытаться угадать смысл и половины того, что говорил сержант. И я продолжил:
– Смысл того обстоятельства, ради которого я прибыл сюда, заключается вот в чем: я нахожусь здесь, чтобы официально заявить о том, что мои золотые американские часы украдены.
Сержант поглядел на меня, словно сквозь туман крайнего изумления и недоумения. Брови его поползли вверх и добрались почти до волос на голове.
– Это поразительное заявление, – произнес наконец сержант.
– Почему? Что в нем такого удивительного?
– Зачем кому-то понадобилось бы красть часы, если можно украсть велосипед?
Внимай его холодной неумолимой логике.
– Я не знаю, что ответить.
– Разве слыхано, чтоб кто-нибудь ехал на часах по дороге или вез мешок с торфом домой на багажнике часов?
– Я не утверждаю, что вор украл мои часы для того, чтобы ездить на них, – воскликнул я. – Скорее всего у него был свой велосипед, и именно на этом велосипеде он и скрылся ночью после кражи.
– Никогда, сколько дышу, не слыхал такого, чтобы кто-нибудь в здравом рассудке крал что-нибудь, кроме велосипедов, – заявил сержант и добавил: – Ну, еще, конечно, крадут велосипедные насосы, и фары, и всю такую прочую велосипедную мелочь. Вы что, хотите убедить меня в том, что мир меняется, а я этого не замечаю?
– Нет, ничего такого я не говорю, – начал я уже сердиться. – Я всего лишь заявляю, что у меня украли часы.
– Ладно, в таком случае нам придется провести официальное расследование и начать поиск, – заявил сержант решительным тоном и широко мне улыбнулся. По его виду было ясно, что он совершенно не верит в мою историю и, более того, считает, что с душевным здоровьем у меня не все в порядке и что теперь он будет потакать мне как ребенку.
– Спасибо, – промямлил я.
– Но все лишь только начнется, когда мы отыщем часы, – суровым голосом заявил сержант.
– Что начнется?
– Когда мы найдем часы, нам придется начать искать их владельца.
– Зачем искать? Ведь я и есть владелец.
При этих моих словах сержант снисходительно рассмеялся и, покачав головой, сказал:
– Я понимаю, что вы хотите сказать, но, видите ли, закон – исключительно сложный феномен. Понимаете ли, раз у вас нет ни имени, ни фамилии, то это значит, что вы не имеете никаких прав на владение часами, а раз украденные часы не существуют, то когда они будут найдены, их придется возвращать законному владельцу. Раз у вас нет никакого прозвания, то и владеть вы ничем не можете, и вообще вы не существуете, и даже те брюки, которые на вас, на самом деле не существуют, даже несмотря на то, что если смотреть на них с того места, где я сижу, возникает иллюзия их существования и надетости на вас. С другой, совсем отдельной стороны, вы вольны делать все, что вам заблагорассудится, и закон не может вам противодействовать.
– В механизме моих часов было пятнадцать алмазиков, – провозгласил я в отчаянии.
– А вот с той, одной стороны, первой, так сказать, о которой я еще не упоминал, вам можно было бы предъявить обвинение в воровстве или мелкой краже, если бы в то время, когда у вас еще имелись эти часы, вас приняли за кого-нибудь другого.
– Я пребываю в полной растерянности, – вскричал я, и ничего правдивее я не мог бы сказать.
Сержант добродушно рассмеялся.
– Если нам удастся найти часы, – сказал он, ласково улыбаясь, – то у меня такое чувство, что на них будет и звонок, и насос, и руль, и все прочее.
Я, полный дурных предчувствий, стал лихорадочно обдумывать свое положение. Похоже было на то, что никакими усилиями нельзя было заставить сержанта признать существование в мире чего-то иного, кроме велосипедов. Но все же еще одно усилие я решил сделать.
– Насколько я понимаю, – проговорил я холодно и подчеркнуто учтиво, – у вас сложилось такое впечатление, что я утерял золотой велосипед американского производства с пятнадцатью драгоценными камнями в его механизме. Заявляю, что у меня пропали часы, что на них нет звонка, насоса, руля и всего прочего. Звонки устанавливаются только на будильниках, и я никогда не видел часов, ни наручных, ни настенных, с приделанным к ним рулем или насосом.
Сержант снова одарил меня мягкой улыбкой:
– Вот недельки две назад, в этой самой комнате, у конторки, стоял человек и заявлял, что у него пропала мать, почтенная женщина восьмидесяти лет от роду. А когда я попросил этого человека описать внешний вид его мамаши – это нужно, чтоб заполнить официальный бланк, а бланки эти мы получаем за бесценок из управления канцелярских товаров, – так вот, когда я спросил его, как выглядела его досточтимая матушка, то он мне сказал, что у нее на раме и на спицах в нескольких местах имеется ржавчина и что при использовании задних тормозов вся ее задняя часть резко подпрыгивает. Вот так-то.
Сказанное сержантом окончательно прояснило для меня положение, в которое я попал. Только я открыл рот, чтобы высказаться, в дверь заглянул какой-то мужчина, оглядел нас, затем вошел в комнату, тщательно прикрыл за собой дверь и подошел к конторке. Вошедший был человек грубовато-добродушного вида, с красным лицом, в пальто из плотного и толстого материала; его брюки ниже колен были подвязаны бечевкой, как это обычно делают люди, ездящие на велосипеде. Впоследствии я узнал, что его звали Майкл Гилэни. Вместо того, чтобы подойти к конторке и сделать свое заявление, как подобает в общественном месте, а тем более в полицейском участке, он подошел к стене и, подбоченясь, прислонился к ней; при этом он упирался в стену одним локтем и раскачивался.
– Ну что скажешь, Майкл? – спросил сержант любезно.
– Увели, и с концами, – сказал господин Гилэни.
Из внутренней комнаты, в которой полицейский МакПатрульскин решал задачу поедания своего раннего обеда, донесся его громкий призывной клич:
– Сигаретку бы мне, а?
Сержант вытащил из нагрудного кармана еще одну измятую сигарету, протянул ее мне и большим пальцем руки ткнул в воздух в сторону задней комнаты. Я почтительно взял сигарету и направился туда. Уже выходя, я краем глаза увидел и обоими ушами слышал, как сержант открывает огромную учетную книгу и начинает задавать вопросы посетителю с красной физиономией:
– Какая модель? Номер рамы? Фара была на месте? А насос?..
ГЛАВА ПЯТАЯ
Продолжительная и поразительная беседа, которую я вел с полицейским МакПатрульскиным, вручив сигарету, переданную мне для доставки ему, невольно вызвала в памяти некоторые тонкие соображения де Селби, высказанные им в связи с его исследованиями природы времени и проблемы вечности, а также в связи с его попытками проникнуть в тайну бесконечности, возникающей в системе определенным образом расположенных зеркал[19]19
Люкротт пишет (хотя это положение не подтверждается Бассеттом), что все те десять лет, которые ушли на написание «Деревенского альбома», де Селби был одержим увлечением зеркалами и столь часто прибегал к ним, что стал заявлять: у него две левых руки, и он живет в мире, жестко ограниченном деревянной рамой. Наступил такой момент, когда де Селби отказался смотреть на мир без посредничества зеркал – перед его глазами постоянно висело зеркальце, повернутое под определенным углом и прицепленное на устройстве, изготовленном им самим из проволоки. Соорудив это приспособление, де Селби беседовал с людьми, повернувшись к ним спиной и задрав голову к потолку; рассказывают, что он даже по улицам, запруженным людьми, ходил задом наперед. Люкротт заявляет: его сообщение относительно увлечения де Селби зеркалами подтверждается тем, что около трехсот страниц рукописи «Деревенского альбома» написаны в зеркальном отражении, «это обстоятельство вынудило применить систему зеркал для прочтения рукописи и последующего набора для печати» («Де Селби. Его жизнь и эпоха», с. 221). Но эта часть рукописи, якобы написанная в зеркальном отражении, не найдена.
[Закрыть]. Теория де Селби, насколько я ее понимаю, состоит в следующем:
Если человек стоит перед зеркалом и видит в нем свое отражение, то видимое им не является верным воспроизведением наружности этого человека, а представляет собой его внешность в более молодом возрасте. Пояснения де Селби этого феномена достаточно просты. Свет, пишет он, распространяется с конечной и измеряемой скоростью (и это его утверждение вполне соотносится с данными современной науки). Отсюда следует, что, прежде чем в зеркале появится отражение какого-либо предмета, необходимо, чтобы лучи света сначала упали на этот предмет, потом достигли поверхности зеркала, отразились от него и вернулись к этому предмету – например, к глазам человека, а это значит, что между тем моментом, когда человек бросает взгляд на свое отражение в зеркале, и тем моментом, когда отраженный образ запечатлевается в глазу, проходит определенный и поддающийся измерению промежуток времени.
Пока, можно сказать, все понятно и ясно вне зависимости от того, правильна или неправильна предлагаемая теория; на самом деле промежуток этот столь мал, что вряд ли кто-либо стал бы рассматривать этот феномен как проблему достойную серьезного обсуждения. Но де Селби, как обычно, поставив проблему, продолжает ее рассмотрение, невзирая ни на какие доводы здравого смысла. Он предлагает отразить первое отражение в другом зеркале и считает, что в этом втором отражении можно при тщательном рассмотрении обнаружить отличия по сравнению с первым. Де Селби соорудил систему параллельных зеркал, каждое из которых отражало в бесконечном ряду уменьшающийся образ предмета, помешенного между зеркалами. Предметом этим, конечно, было его собственное лицо, и де Селби утверждает, что он тщательнейшим образом «с помощью мощного телескопа» рассмотрел отражение, отстоящее невероятно далеко от первичного в бесконечном ряду параллельных отражений. Описание того, что он якобы увидел в телескоп, совершенно поразительно. Де Селби утверждает, что по мере того как отраженные его лица уходили в бесконечность, они становились все моложе и последнее отражение, которое ему удалось рассмотреть – увидеть его невооруженным глазом было уже невозможно, – являло собою лицо мальчика лет двенадцати; «с ликом исключительной красоты и благородства», как пишет сам де Селби. Ему не удалось добраться до отражения, в котором он увидел бы себя в колыбели, – «в силу кривизны поверхности земли и ограниченных возможностей телескопа».
Но оставим пока де Селби и вернемся к МакПатрульскину. Полицейский сидел за кухонным столом и негромко отдувался после всей поглощенной им еды. В обмен на принесенную ему сигарету он одарил меня пытливым взглядом.
– Ну что скажете? – спросил МакПатрульскин, потом закурил и, посасывая сигарету, улыбнулся мне едва заметной улыбкой – Ну что скажете? – повторил он. Его полицейская лампа стояла на столе рядом с ним, и пальцы бегали по ней как бы играючи.
– Прекрасный денек, – сказал я – А зачем вам среди бела дня зажженная лампа?
– А я вам могу задать вопрос не хуже: не могли бы вы подсказать мне значение слова волбык?
– Волбык?
– Вот именно, волбык. Что, по-вашему, значит это слово?
Разгадывать эту нелепую загадку мне совсем не хотелось, но я притворился, что ломаю мозги над ее разрешением, и даже наморщил лоб, чтобы показать: я нахожусь в напряженном раздумье. Я так усиленно морщил лоб, что кожа у меня на голове вроде бы съежилась и сморщилась.
– Это не про тех женщин, которые берут деньги? – высказал я первое пришедшее в голову предположение.
– Нет.
– Латунные заглушки на паровом органе немецкого производства?
– Нет, не то.
– Может быть, что-то имеющее отношение к обретению Америкой независимости или что-нибудь еще в таком роде?
– Нет, мимо.
– А это не механическое устройство для того, чтобы заводить большие настенные часы?
– Нет, опять промах.
– Нарыв? Болезнь зубов у коров? Такие растягивающиеся предметы женского исподнего?
– Ничего близкого.
– Тогда, может быть, это такой восточный музыкальный инструмент, на котором играют арабы?
МакПатрульскин радостно хлопнул в ладоши и широко улыбнулся:
– А вот это уже близко, ну, почти совсем рядом. Вы, как я вижу, задушевный, интеллигибельный, то бишь понятливый человек. Волбык – ударение на первом слоге – это персидский соловей. На персидском языке, разумеется. Ну, как, трудный орешек я вам подсунул?
– Должен вам сказать, редко так бывает, чтобы я не нашел верного ответа или, по крайней мере, близкого к истине, – заявил я весьма сухо.
МакПатрульскин смотрел на меня с восхищением, и некоторое время мы сидели молча – каждый из нас был вполне доволен собою и собеседником, и для такой удовлетворенности были вполне существенные основания.
– Вы, без сомнения, получили университетское образование? – спросил полицейский.
Я не дал никакого прямого ответа, но попытался придать себе важный и ученый вид, сообщив себе наружность человека, хотя и сидящего на маленьком неудобном стульчике, но весьма непростого.
– Вы на меня производите впечатление человека извечной мудрости[20]20
МакПатрульскин часто употребляет слова, значение которых он не всегда понимает правильно. (Прим. пер.)
[Закрыть], – медленно проговорил МакПатрульскин.
Какое-то время он сидел молча, вперив взгляд в пол, словно что-то изучал на нем самым тщательным образом, а затем снова повернул ко мне свое иссизо-черное – в его нижней части – лицо и стал задавать вопросы касательно моего прибытия во вверенный ему район графства.
– Мне совсем не хотелось бы выглядеть человеком, который сует свой нос в чужие дела, но позвольте вас просить проинформировать нас более подробно о вашем появлении в нашем округе. Чтобы преодолеть все эти наши холмы, вам наверняка пришлось ехать на трехскоростном велосипеде? Ведь иначе как на трехколесном велосипеде их не преодолеть.
– У меня нет трехскоростного велосипеда, – ответил я довольно резким тоном, – нету у меня и двухскоростного велосипеда, и, более того, истине будет соответствовать мое заявление о том, что у меня нет вообще никакого велосипеда, как нет у меня насоса, в общепринятом понимании этого слова, и даже если бы у меня была велосипедная фара, она мне совсем не понадобилась бы, так как даже если бы я прикатил сюда на своем велосипеде, который остался дома по причине проткнутости шины, на нем нет кронштейна, на который можно было бы прицепить фару.
– И такое бывает, но не хотите же вы сказать, что приехали сюда на трехколесном велосипеде? Над вами все бы смеялись!
– Я прибыл сюда не на велосипеде, а пришел пешком, и, кстати, я не зубной врач, – проговорил я, тщательно выговаривая слова, причем весьма суровым тоном. – И меня не интересуют проблемы велосипедов с колесами разной величины, я не езжу на самокатах, на тандемах и прочих велосипедных родственниках.
Услышав это, МакПатрульскин побледнел, затрясся мелкой дрожью, схватил меня за руку крепкой хваткой и всадил в меня напряженный взгляд.
– Сколько живу-дышу на этом свете, – проговорил он сдавленным голосом, – не приходилось встречаться с более фантастическим эпилогом[21]21
Очевидно, он употребил это слово вместо слова «монолог». (Прим. пер.)
[Закрыть] или выслушивать более невероятную историю. Воистину, вы необычный человек, принесенный издалека, дошедший до нас из старины глубокой. До самого смертного часа не забыть мне сегодняшнего утра. Я надеюсь, вы не вводите меня в заблуждение и говорите правду?
– Нет, не ввожу и, да, говорю чистую правду.
– Подумать только!
МакПатрульскин вскочил на ноги и ладонью провел себе по волосам, приглаживая их так, что они еще плотнее улеглись на его черепе, потом уставился в окно и что-то там долго высматривал, глаза при этом так плясали у него в глазницах, что казалось, они вот-вот оттуда выскочат. Лицо его, без кровинки, стало каким-то помятым и спало, как пустой мешок.
Потом он быстрыми шагами походил по комнате, наверное для того, чтобы возобновить циркуляцию крови в организме. Наконец он остановился у полки на стене и взял с нее какой-то острый предмет, нечто вроде крошечного копья.
– Протяните-ка перед собой руку, – попросил полицейский.
Я недоверчиво вытянул перед собой правую руку ладонью вверх, а он стал водить этой своей железной колючкой на палочке над моей рукой, а потом вдруг, хотя жало оставалось на расстоянии сантиметров тридцати от ладони, я почувствовал укол прямо в центр ладони, где тут же появилась бусинка крови.
– Ну, спасибо вам, – сказал я беззлобно: слишком уж был поражен тем, что он сделал, чтобы по-настоящему рассердиться на него.
– Вам придется крепко подумать, чтобы догадаться, как я это сделал, – объявил МакПатрульскин торжествующе, – будь я не я, если не задумаетесь!
Он положил свою железную колючку на палочке назад на полку и посмотрел на меня как-то сбоку с очень хитрым видом, который называют «roi s’amuse» – «король забавляется».
– Ну, что, можете объяснить, как я это сделал?
– Нет, это выше моего понимания, – признался я, пребывая в полном недоумении.
– Да, для того, чтобы разобраться, придется провести тщательный, глубоко интеллектуальный анализ этого феномена.
– Нет, скажите мне, пожалуйста, сами, как так получилось, что эта железная колючка, не прикоснувшись к коже, уколола меня до крови?
– Эту штучку, это копьецо, эту колючку, как вы изволили выразиться, я смастерил своими собственными руками в свободное от работы время, – полицейский говорил взвешенно, спокойно, размеренно. – Копьецо это было одной из первых моих поделок. Теперь я редко вспоминаю о нем и не вижу в нем ничего особенного, но в тот год, когда я его сделал, я был очень горд собой и никакой сержант не заставил бы меня подняться утром и заниматься делами – я все время возился с этой штучкой. Могу вам сказать, что во всей Ирландии не сыщется больше ничего подобного и даже в Америке есть только одна подобная штучка, но какая именно и где, точно не знаю... И, знаете, я никак не могу успокоиться после вашего сообщения об отсутственности у вас велосипеда. Уму непостижимо!
– Давайте вернемся к вашему «копью», – настаивал я, – сделайте одолжение, поясните основной принцип – поверьте, я никому не скажу.
– Хорошо, я скажу вам, потому что вы конфиденциально-доверчивый человек, – сказал полицейский, опять употребляя слова невпопад, – вам можно доверять, и к тому же вы тот человек, который сообщил мне о велосипедах нечто такое, чего я никогда раньше в жизни и слыхом не слыхивал. Так вот, там, где вам видится острие, на самом деле – лишь начало тончайшего острого кончика.
– То, что вы говорите, замечательно, но все равно мне не очень понятно.
– Что же тут непонятного? Острие составляет в длину двадцать один сантиметр, но оно такое тонкое, что простым глазом его не углядишь. Основание наиострейшего острия достаточно толстое и прочное, но его тоже так просто не увидишь, потому собственно острие подсоединено к нему, а его-то и нельзя просто так увидеть, и если бы вы его увидели, то увидели бы и место стыка.
– Надо полагать, это острие значительно тоньше спички?
– Дело не в том, что просто тоньше, тут совсем другое. Само по себе кончиковое острие таково, что никто его увидеть не в состоянии; ни при каком освещении никакой глаз человеческий, сколь угодно острый, не осилит такой тонкоты. А приблизительно в сантиметрах двух от самого кончика острие становится таким тонким, что иногда, поздно ночью или особенно в день, который я называю днем «мягкой постели», когда, знаете, из нее никак не хочется выбираться, о нем, об этом острие, нельзя даже подумать, такое оно тонкое, его никак не получается сделать предметом обдумывания, потому что если попытаешься, то повредишь себе мозги в черепушке мучительством раздумываний о тончайшем острие.
Я нахмурил лоб, сморщил его в гармошку и попытался напустить на себя вид мудрого человека, который пытается осмыслить нечто такое, что требует концентрированного усилия всей его мудрости.
– Да, огонь в камине без торфяных брикетов не разожжешь, – изрек я.
– Мудро сказано, – сказал МакПатрульскин.
– Да, острие, конечно, исключительной остроты, – признал я, – оно прокололо кожу и вызвало появление маленькой капельки красной крови, но самого укола я почти не почувствовал, а значит, оно действительно очень острое.
МакПатрульскин хохотнул с довольным видом, уселся за стол и стал надевать пояс.
– Боюсь, однако, что до конца вы так и не поняли, – сказал МакПатрульскин с улыбкой. – Дело в том, что укололо вас и вызвало некоторое кровопускание вовсе не то острие, что вы думаете, а то, что находится в двух сантиметрах от того острия. Вот так-то – именно оно и укололо вас, и именно о нем, о том, что расположено в двух сантиметрах от означенного знаменитого кончика того предмета, и ведется наша беседа.
– Ну хорошо, – воскликнул я, – эти самые два сантиметра после острия, как, во имя всего святого, можно их назвать?
– Как назвать? Очень просто – это и есть самый настоящий кончик острия, – терпеливо разъяснял МакПатрульскин, – но он такой тонкий, что мог бы войти вам в руку и выйти с другой противоположной крайности вовне, а вы ничего бы и не почувствовали, ни малейшего пронзания, и ничего бы не увидели, и ничего бы не услышали. Оно такое тонкое, что, может быть, вообще не существует, и можно было бы размышлять о нем целых сорок шесть минут и все равно не получилось бы прицепить к нему никакой мысли. Начальная часть этих двух сантиметров кончика острия толще, чем конечная, и почти наверняка находится там, где ей положено быть, но я придерживаюсь другого мнения, если, конечно, вам желалось бы выслушать мое частно-приватное мнение.
Я крепко обвил пальцами свой подбородок и предался напряженному раздумыванию над всем услышанным, призывая на помощь и те участки мозга, которые я использовал весьма редко. Но как я ни напрягался, в понимании существа всех этих кончиков сверхострых кончиков не продвинулся. Пока я раздумывал, МакПатрульскин сходил к кухонному шкафу, что-то взял там и вернулся к столу. В руках он держал черный предмет, похожий на крошечный рояль лепрекона[22]22
Лепрекон – ирландский гном. (Прим. пер.)
[Закрыть], с миниатюрными клавишами, черными и белыми и блестящими латунными и матово-черными трубками и круглыми, вращающимися колесиками с зубцами, – прямо-таки почти миниатюрная паровая машина или молотилка, вывернутая наизнанку[23]23
Пускай читателя не смущают сравнения сложно устроенных вещей с «паровой машиной» или «молотилкой», рассказчик всю жизнь прожил на ферме, его жизненный кругозор очень ограничен, а изучение де Селби этот кругозор никак не расширяло. (Прим. пер.)
[Закрыть]. МакПатрульскин ощупывал эту штуку со всех сторон, словно искал какой-нибудь крошечный выступ, а лицо его было повернуто вверх так, будто он обращался к небесам в духовном порыве. На мое личное экзистенциальное существование он не обращал никакого внимания. В комнате воцарилась давящая, огромная тишина, ощущение было такое, словно потолок опустился чуть ли не до пола и придавил собою все находящееся в ней. МакПатрульскин возился со своим непонятным инструментом, а я все пытался осмыслить эту историю с остриями и тончайшими кончиками, но понимание никак не хотело приходить.
Через минут десять МакПатрульскин встал из-за стола, отложил ту штуку, которую он вертел в руках, в сторону, записал что-то в своем блокноте, потом раскурил неизвестно откуда взявшуюся трубку.
– Ну так что? – спросил он тоном, располагающим к дальнейшим расспросам.
– Ну, вот это вот, эти вот острия и кончики... – промямлил я.
– Да, кстати, я вас случайно не спрашивал, что значит волбык?
– Спрашивали, спрашивали, – ответил я, – но вот эти вот ваши острия, знаете ли, невольно обращают меня к мыслям о прекрасном и совершенном.
– Не сегодня и не вчера я начал оснащать маленькие копья тончайшими остриями и достиг, без ложной скромности сообщу вам, некоторых успехов, – сказал МакПатрульскин, – но я занимался и еще кое-чем. Не хотели бы вы взглянуть на кое-что еще, что представляет собой средне-прекрасный образец высочайшего искусства?
– Хотел бы, – согласился я.
– Хорошо, я покажу, но знаете, я все никак не могу прийти в себя после того, что вы сообщили приватно об отсутствии у вас велосипеда. Эта история озолотила бы вас, если бы вы ее записали и издали как книгу, дабы дать возможность людям насладиться ею литературно.
МакПатрульскин опять отправился к книжному шкафу, открыл нижнюю дверцу, вынул из шкафа небольшой предмет и поставил его на стол для моего обозрения. Никогда ранее в своей жизни не видел я столь изящно украшенную и столь отменно сработанную вещицу. Передо мной был морской сундучок, когда-то столь любимый нашими моряками и ласкарами, матросами-индийцами из Сингапура, все точь-в-точь, с единственным отличием – он был совсем крошечным, в нем было все совершенно и все на месте, и можно было подумать, что смотришь на настоящий морской сундучок в подзорную трубу не с того конца. Имея сантиметров тридцать в высоту, он обладал совершенными пропорциями. Он являл собою невероятно искусно выполненное изделие большого мастера. Каждая сторона была украшена затейливым орнаментом из вмятинок, резьбы и процарапанностей, а крышка имела особую округлую форму, которая придавала всему изделию исключительно благородный вид. На каждом углу сиял медный уголок, а верхние уголки были обработаны особенно изящно и насажены так, что в точности повторяли изгиб деревянной крышки. Все вместе обладало отменными достоинствами, и тонкость исполнения позволяла отнести сундучок к произведениям высокого искусства.
– Вот такая штука, – чуть ли не застенчиво сказал МакПатрульскин.
Выдержав восхищенную паузу, я сказал:
– Вещь, пожалуй, слишком хороша, чтобы о ней говорить – ею надо наслаждаться созерцанием.
– Я сотворил эту вещицу, когда был еще совсем молод. На ее создание ушло два года, и поныне, глядя на нее, я чувствую, как меня уносит в сферы прекрасного.
– Она столь хороша, что трудно сыскать слова, чтобы описать ее, – продолжил я похвалу.
– Да, пожалуй, – согласился МакПатрульскин.
И мы вдвоем стали созерцать этот сундучок и смотрели на него молча долгих пять минут. Я всматривался в него столь пристально, что сундучок начал у меня в глазах подпрыгивать и подскакивать и казаться еще меньше, чем он был на самом деле.
– Не могу сказать, что мне часто доводилось рассматривать ящики или сундуки, – нарушил я наконец молчание, – но это, без сомнения, самый красивый ящичек, который мне когда-либо доводилось видеть. – Потом добавил простодушно: – А в нем что-нибудь есть?
– Может быть, и есть, – неопределенно ответил МакПатрульскин.
Он подошел к столу вплотную и ласково обнял сундучок – так, словно обнимал любимую собаку. Потом достал откуда-то маленький ключик, открыл замок на крышке, поднял ее, заглянул вовнутрь, но тут же захлопнул, так что я не успел разглядеть, что было внутри.
– Расскажу-ка я вам одну историю и дам вам синопсис рамификации[24]24
Просто: сокращенное изложение. (Прим. пер.)
[Закрыть] одного содержаньица, – проговорил МакПатрульскин. – По завершении создания сундучка и окончании украшательских работ я взялся себе думать, чего же в нем содержать и для какой цели его вообще использовать. Поначалу я решил хранить в нем деловые и ценные бумаги, бумаженции всякие, особенно такие, что на такой хрусткой бумаге, когда новенькие, иногда с сильным запахом, но потом я решил, что это было бы кощунством, потому что на некоторых из этих бумаженций имелись большие цифры. Вы постигаете общее направление моих обзерваций, а по-простому словоизречений?
– Постигаю, – сказал я.
– Потом я подумал, а не поместить ли в сундучок мои запонки, или мой эмалевый жетон полицейского, или мой дарственный механический стальной карандаш с винтом на конце, чтобы выдвигать кончик грифеля, или весьма хитрую вещицу с механическим устройством внутри, или один Подарок из Югопорта. Но все эти предметы могут быть рассмотрены как явления и порождения Века Машин.
– И соответственно они были бы противны духу сундучка? – рискнул я сделать предположение.
– Именно так! Можно было бы поместить в сундучок мою бритву или запасную вставную челюсть, которую я держу на тот случай, если мне случайно крепко влепят по харе и вышибут зубы во время исполнения мною моих обязанностей...
– Да, я понимаю, что деньги и все прочее вряд ли бы подошло для хранения в...
– Нет, не подошло бы, и я отверг кандидатуры этих вещей на хранение в сундучке. Потом я долго раздумывал, не поместить ли туда все мои сертификаты и удостоверения, или все-таки мои наличненькие бабки, или иконку с изображением Петра Отшельника, или ту медную штуку с лямками, которую я нашел как-то раз вечером на дороге недалеко от того места, где живет Мэтью О’Кэрэхан. Но и эти вещи я отверг.
– Да, серьезное затруднение, – посочувствовал я.
– В конце концов я решил, что для того, чтобы сговориться с моей собственной приватной совестью, мне следует поместить в сундучок, именно это и ничего другого...
– И что же это было? Как замечательно, что вы нашли именно то единственное, что достойно быть помешенным в сундучок, – воскликнул я.
– Так вот, я себе решил, что единственной корректно-правильной вещью, которую следует хранить в сундучке, является еще один сундучок, но поменьшенький в кубических размерах.
– То было очень компетентное и мастерское решение, – сказал я, пытаясь подладиться под его манеру изъясняться.
МакПатрульскин снова подошел к сундучку, снова открыл его и, вытянув вперед и плотно сомкнув пальцы, так, что руки стали напоминать плоские лепешки или плавники рыбы, погрузил их вовнутрь сундучка и вытащил сундучок еще меньшего размера, который был похож на первый, материнский, так сказать, сундучок во всех мельчайших деталях и размерах. Схожесть была столь велика, что у меня перехватило дыханье. Я подошел поближе и стал ощупывать его руками, а потом прикрыл его одной рукой, чтобы получше ощутить, насколько велика его малость. Все латунные детали сияли и слепили глаза, как отражения солнечных лучей от поверхности моря, а цвет дерева обладал той глубиной, богатством и благородством, которые хорошо обработанное дерево приобретает лишь с годами. От восторга, вызванного рассматриванием этого сундучка и прикосновением к нему, меня охватила какая-то странная слабость, и мне пришлось даже усесться на стул, а чтобы не показать, что я сильно взволнован, я стал насвистывать старую песенку «Старичок, старичок, подтяжками играет».
МакПатрульскин одарил меня легкой, холодной механической улыбкой:
– Пусть вы и прибыли не на велосипеде, но это вовсе не означает, что вы знаете все на свете.
– Эти сундучки, они столь схожи, что очень трудно поверить в их существование, потому что проще поверить в обратное. Тем не менее могу вас уверить, что мне не доводилось видеть ничего более прекрасного, чем эти два сундучка.
– Два года у меня ушло на изготовление этого меньшего сундучка, – сообщил МакПатрульскин.
– А что в нем находится? – спросил я.
– Ну, и что бы, вы думали, в нем могло бы находиться?
– Даже побаиваюсь строить предположения, – сказал я несмело и очень правдиво.
– Хорошо, минутка терпения, – проворковал МакПатрульскин, – и я вам устрою показ и личный осмотр в индивидуальном порядке.
Достав с полки две плоские лопатки для масла, он засунул на две трети их длины в меньший сундучок и вытащил оттуда нечто такое, что показалось мне исключительно похожим на еще один сундучок, но уже совсем крошечный Я встал со своего стула, наклонился над сундучком и стал его внимательно разглядывать и одновременно ощупывать рукой – пальцы мои встречали все те же детали и особенности, которые они нащупали на предыдущем сундучке. Общие пропорции были те же самые, столь же совершенной была работа, столь же ладно были приделаны все латунные части – и все это уменьшенного размера. Эта вещица была столь совершенна, безупречна и восхитительна, что невольно напомнила мне – как это ни странно и ни глупо – о чем-то таком, что я совершенно не понимал, и о чем-то таком, о чем я даже никогда и не слыхал.








