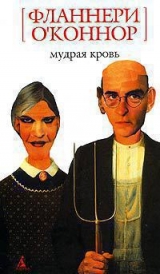
Текст книги "Рассказы, не вошедшие в сборники"
Автор книги: Фланнери О'Коннор
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
ПРАЗДНИК В ПАРТРИДЖЕ
Кэлхун поставил свою пузатенькую машину, не доезжая дома тетушек, и вылез, опасливо озираясь по сторонам, словно побаивался, что буйное цветение азалий окажется для него губительным. У старых дам вместо скромного газона были густо, тремя террасами, посажены красные и белые азалии; они поднимались от тротуара и подступали к самым стенам их внушительного деревянного дома. Обе тетушки ждали его на веранде, одна сидела, другая стояла.
– А вот и наш малышка! – пропела тетушка Бесси так, чтобы расслышала сестра, которая находилась в двух шагах, но была глуховата.
На звук ее голоса оглянулась девушка у соседнего дома, которая, положив ногу на ногу, читала под деревом. Она пристально посмотрела на Кэлхуна, потом очкастое лицо ее снова склонилось над книгой, но Кэлхун заметил на нем усмешку. Хмурясь, он проследовал на веранду, чтобы поскорей покончить с церемонией приветствий. Тетушки, должно быть, расценят его добровольный приезд в Партридж на праздник азалий как знак того, что он исправляется.
Квадратными челюстями старые дамы напоминали Джорджа Вашингтона с его вставными деревянными зубами. Они носили черные костюмы с широкими кружевными жабо, тусклые седые волосы были собраны на затылке. Кэлхун, дав каждой из них себя обнять, устало опустился на качалку и глуповато улыбнулся. Он приехал только потому, что его воображение поразил Синглтон, но тетушке Бесси сказал по телефону, что хочет поглядеть на праздник.
Тетушка Мэтти, та, что была глуховата, прокричала:
– То-то твой прадед бы порадовался, что тебя наш праздник привлекает! Это ведь была его затея.
– Ну а что вы скажете о добавочном развлечении, которое было тут у вас недавно? – завопил он в ответ.
За десять дней до начала праздника человек по фамилии Синглтон предстал перед потешным судом на площади у муниципалитета за то, что не купил значок праздника азалий. Во время суда ему набили на ноги колодки, а по вынесении приговора заточили в «тюрьму» вместе с козлом, осужденным ранее за такой же проступок. «Тюрьмой» служила уличная уборная, позаимствованная для этого случая. Десять дней спустя Синглтон с бесшумным пистолетом проник боковым входом в муниципалитет и застрелил пятерых видных чиновников и по ошибке одного из посетителей. Ни в чем не повинный человек этот получил пулю, предназначавшуюся мэру, который в ту минуту наклонился, чтобы подтянуть язык башмака.
– Досадный случай, – сказала тетушка Мэтти. – Это портит праздничное настроение.
Кэлхун услышал, как девушка захлопнула книгу. Она приблизилась к живой изгороди и, на мгновение повернув к ним маленькое свирепое лицо на вытянутой вперед шее, направилась обратно к дому.
– Не похоже, что портит! – прокричал Кэлхун.– Я видел, когда ехал по городу, – полно народу, и флаги все подняты. Мертвых Партридж похоронит, а выгоды своей не упустит.
На середине этой фразы дверь за девушкой с шумом закрылась.
Тетушка Бесси ушла в дом, но вскоре возвратилась с небольшой кожаной шкатулкой.
– Очень ты похож на нашего отца, – сказала она и придвинула свое кресло поближе к внучатому племяннику.
Кэлхун нехотя поднял крышку шкатулки – при этом на колени ему посыпалась ржавая пыль – и вынул миниатюру с изображением прадеда. Ему демонстрировали эту реликвию всякий раз, как он приезжал. Старик – круглолицый, лысый, совершенно заурядного вида – сидел, уперев руки в набалдашник черной трости. Лицо его выражало наивность и решительность. «Отменный торгаш»,– подумал Кэлхун и передернулся.
– Интересно, что сказал бы сей почтенный муж о сегодняшнем Партридже? – проговорил он с кривой усмешкой. – Застрелено шесть граждан, а праздник в разгаре.
– Отец был человеком передовым, – заметила тетушка Бесси. – Партридж не знал, пожалуй, столь дальновидного
коммерсанта. Он мог оказаться среди тех видных людей, которые были убиты, или обуздал бы маньяка.
«Долго я этого не выдержу», – подумал Кэлхун. В газете были напечатаны фотографии Синглтона и его шести жертв. Привлекало внимание только лицо Синглтона, широкоскулое, но худое и сумрачное. Один глаз казался круглее другого, и в этом более круглом глазу Кэлхун прочел хладнокровие человека, который знает, что ему предстоят страдания, и готов выстрадать право быть самим собой. Сметливость и презрение притаились в другом глазу: но, в общем, это было измученное лицо человека, доведенного до безумия окружающим его безумием. На остальных шести лицах отпечатался тот же штамп, что и на физиономии его прадеда.
– С годами ты станешь еще больше похож на нашего батюшку, – предрекла тетушка Мэтти. – Вот и румянец у тебя такой же, да и выражение лица почти то же.
– Совершенно ничего общего, – сказал он холодно.
– Ну просто кровь с молоком,– захохотала тетушка Бесси. – Уж и животик появляется. – И она ткнула его кулаком в живот. – Сколько годочков нашему малышу?
– Двадцать три, – пробурчал он, думая о том, что долго ведь так не может продолжаться, ну, немного помучают да и отстанут.
– А девушка у тебя есть? – спросила тетушка Мэтти.
– Нет, – ответил он устало. – Надо полагать, – продолжал он о своем, – что Синглтона считают здесь просто сумасшедшим.
– Да, – сказала тетушка Бесси. – Со странностями. Он всегда не хотел жить по правилам. Он не такой, как все мы.
– О, это страшный порок, – заметил Кэлхун.
У самого Кэлхуна глаза, правда, не разные, зато лицо такое же широкое, как у Синглтона, а главное, между ними, несомненно, есть духовное сходство.
– Раз он ненормальный, то не отвечает за свои поступки, – заметила тетушка Бесси.
Глаза у Кэлхуна загорелись. Он подался вперед, пронзая старую даму прищуренным взглядом.
– А кто же тогда истинный виновник?
– У нашего батюшки к тридцати годам на голозе был один пушок, как у новорожденного, – сказала она. – А ты
бы лучше, пока не поздно, подыскал себе девушку. Ха, ха! Чем ты намерен сейчас заняться?
Он вынул из кармана трубку и кисет. Их ни о чем нельзя спрашивать всерьез. Обе они добропорядочные протестантки, но у них порочное воображение.
– Собираюсь писать, – заявил он и принялся набивать трубку.
– Что ж, – сказала тетушка Бесси, – превосходно. Может, из тебя выйдет вторая Маргарет Митчелл.
– Надеюсь, ты воздашь нам должное! – прокричала тетушка Мэтти. – Не то что другие!
– Уж непременно воздам, – сказал он мрачно. – Я начал всту…
Он замолчал, сунул в рот трубку и откинулся назад. Просто смешно говорить все это им. Вынув трубку, он закончил:
– Ну, не стоит вдаваться в подробности. Вам, женщинам, это неинтересно.
Тетушка Бесси многозначительно склонила голову.
– Кэлхун, – сказала она, – нам не хотелось бы в тебе разочаровываться.
Они так разглядывали его, словно их вдруг осенило: а ведь ручная змейка, с которой они играли, может быть и ядовитая!
– И познайте истину,– произнес он, уничтожая их взглядом,– и истина сделает вас свободными.
По-видимому, то, что он цитирует Священное Писание, успокоило их.
– До чего же он мил с этой трубочкой в зубах, – заметила тетушка Мэтти.
– Ты бы, дорогой, все-таки лучше подыскал бы себе девушку, – сказала тетушка Бесси.
Через несколько минут он сбежал от них, отнес наверх свой чемодан и снова спустился, готовый отправиться в город, чтобы взяться за работу: он намеревался расспросить местных жителей о Синглтоне. Он надеялся написать такое, что оправдает безумца. И надеялся, написав это, смягчить собственную вину, ибо раздвоенность преследовала его, как тень, казавшаяся еще темнее рядом с цельностью Синглтона.
Ведь ежегодно три летних месяца он жил у своих родителей, вместе с ними торгуя кондиционерами, лодками, холодильниками для того, чтобы получить возможность остальные девять существовать естественно, взращивая свое истинное «я» бунтаря, художника, мистика. На это время он поселялся на другом конце города в неотапливаемом доме без лифта вместе с двумя парнями, которые тоже ничего не делали. Но чувство вины за летние месяцы преследовало его всю зиму: в сущности, он мог бы прожить и без того коммерческого разгула, которому предавался летом.
Когда он заявил родителям, что презирает их идеалы, они понимающе переглянулись: судя по тому, что им приходилось читать, это было естественно, – и отец предложил ему небольшую сумму на квартиру. Он отказался, чтобы сохранить независимость, но в глубине души знал: дело не в независимости, просто ему нравится торговать. Перед покупателями на него находило вдохновение; лицо его начинало светиться, пот катился градом, и все сложности мгновенно исчезали. Он был во власти этого влечения, неодолимого, как влечение к спиртному или к женщине; торговля так чертовски здорово ему удавалась, что фирма даже наградила его грамотой за особые заслуги. Он заключил слово «заслуги» в кавычки и использовал грамоту как мишень для игры в перышки.
Стоило ему увидеть в газете фотографию Синглтона, как этот образ вспыхнул в его воображении мрачной и укоряющей звездой освобождения. Наутро он предупредил тетушек о своем приезде и прибыл в Партридж, проделав сто пятьдесят миль за какие-нибудь четыре часа.
Тетушка Бесси остановила его, когда он выходил из дому:
– Возвращайся к шести, ягненочек, тебя будет ждать приятный сюрприз.
– Рисовый пудинг? – спросил он. Готовили они чудовищно.
– Намного приятнее! – сказала тетушка Бесси, закатывая глаза.
Он поспешно спустился с веранды.
Из соседнего дома снова вышла девушка с книжкой. Наверное, они знакомы. В детстве, когда он приезжал к тетушкам в гости, те неизменно притаскивали к нему поиграть кого-нибудь из соседских недотеп: то жирную идиотку в скаутской форме, то подслеповатого мальчишку, декламировавшего библейские тексты, а как-то привели почти квадратную девицу, которая подбила ему глаз и удалилась. Слава богу, он теперь уже взрослый, и они не посмеют развлекать его. Девушка из соседнего дома не взглянула на него, и он не стал с ней заговаривать.
Выйдя на улицу, он снова поразился буйному цветению азалий. Казалось, волны их разноцветным приливом неслись по газонам, вздымаясь у белых фасадов розово-малиновыми гребешками, гребешками белыми, с каким-то еще таинственным лиловатым оттенком, крутыми желто-красными гребешками. От этого изобилия красок у него перехватило дух. Мох свисал со старых деревьев. Дома, старомодные, построенные еще до гражданской войны, были на редкость живописны. Об этих местах некогда сказал его прадед, и слова эти остались девизом города: «Мы сеем красоту, а пожинаем деньги».
Тетушки жили в пяти кварталах от деловой части города. Кэлхун шел быстрым шагом, и вскоре перед ним открылась торговая площадь, в центре которой было обшарпанное здание муниципалитета. Солнце беспощадно жгло крыши машин, стоящих везде, где только можно. Флаги – государственные, штата и конфедерации – на каждом углу развевались на фонарях. Вокруг мельтешили люди. На тенистой улице, где жили его тетушки и где азалии были особенно хороши, он не встретил почти никого – все были здесь: глазели на жалкие витрины, вяло и почтительно проходили в здание муниципалитета, туда, где пролилась кровь.
Интересно, подумает ли хоть один из них, что он здесь по той же причине, что и все они? Ему не терпелось, подобно Сократу, прямо на улице затеять спор о том, кто истинный виновник шести смертей, но, оглядевшись, он решил, что вряд ли кого-нибудь тут может заинтересовать подобная тема. Потом он забрел в аптеку. В ней было темно и неприятно пахло ванилью.
Он сел на высокий табурет у стойки и заказал лимонный напиток. У парня, который его обслуживал, были холеные рыжие бачки и на рубахе – значок праздника азалий, тот самый, который отказался купить Синглтон. Кэлхун сразу это приметил.
– Я вижу, вы отдали дань этому богу? – сказал он. Парень, видимо, не понял, о чем речь.
– Я про значок, – сказал Кэлхун. – Значок.
Парень взглянул на значок, потом снова на Кэлхуна.
Он поставил напиток на стойку, но продолжал смотреть на Кэлхуна, словно бы подметил в посетителе какое-то забавное уродство.
– Ну как вам праздник? – спросил Кэлхун.
– Вообще все это? – переспросил парень.
– Эти славные торжества, хотя бы вот шесть смертей, – продолжат Кэлхун.
– Да, сэр, – согласился парень. – Шесть человек недрогнувшей рукой. И четверых из них я знал лично.
– Ну тогда, значит, вы тоже отчасти знаменитость, – сказал Кэлхун.
И вдруг он явственно ощутил, как притихла улица. Он повернулся к двери и увидел проезжавший мимо катафалк, за которым гуськом медленно шли машины.
– У этого отдельные похороны, – почтительно объяснил парень. – Тех пятерых, в которых тот целил, хоронили вчера. Всех разом. А этот не поспел помереть.
– Их руки обагрены кровью безвинных и виновных, – сказал Кэлхун, сверкая глазами.
– Кого это «их»? – спросил парень. – Все это один человек наделал. Его фамилия Синглтон, он чокнутый.
– Синглтон был лишь орудием, – сказал Кэлхун. – Виноват Партридж. – Он залпом выпил напиток и поставил стакан.
Парень смотрел на него как на сумасшедшего.
– Партридж никого застрелить не может, – проговорил он сердито.
Кэлхун положил на стойку десять центов и вышел. Последняя машина завернула за угол. Толпа как будто поредела. Видно, при появлении катафалка люди разбежались. Какой-то старик высунулся из соседней скобяной лавки и упорно глазел на угол, за которым скрылась процессия. Кэлхуну не терпелось поговорить. Он нерешительно подошел.
– Насколько я понимаю, это были последние похороны, – сказал он.
Старик приложил ладонь к уху.
– Похороны ни в чем не повинного человека! – прокричал Кэлхун и мотнул головой туда, где скрылся катафалк.
Старик оглушительно высморкался. Выражение лица у него было не слишком любезное.
– Единственная пуля, которая угодила куда следует, – сказал он дребезжащим голосом. – Этот Биллер просто пьяница и барахло, он и тогда был пьян.
Кэлхун нахмурился.
– Зато уж остальные пятеро – герои как на подбор, – проговорил он ехидно.
– Да, прекрасные люди, – сказал старик. – Погибли, исполняя свой долг. Мы им и похороны закатили как героям – всем пятерым, – общие пышные похороны. Биллеровы-то родственнички побежали в похоронное бюро – мол, и Биллера к ним, да только тут уж мы все вмешались и не дали. Иначе это был бы позор.
«Боже правый!» – подумал Кэлхун.
– Одно доброе дело сделал Синглтон – избавил нас от Биллера, – продолжал старик. – Теперь бы еще кто-нибудь избавил нас от Синглтона. Живет себе не тужит в Квинси, спит-ест задаром, а мы с вами за это налоги платим. Пристрелить бы его тогда на месте!
Это было так чудовищно, что Кэлхун онемел.
– А если уж решили держать его там, пускай платит за харч и квартиру, – сказал старик.
Кэлхун смерил его презрительным взглядом, повернулся и пошел. Он пересек улицу и направился к скверу перед муниципалитетом; он шел, не разбирая дороги, – лишь бы подальше от этого старого дурака, и чем скорее, тем лучше. Под деревьями стояли скамейки. Кэлхун отыскал свободную скамейку и сел. У входа в муниципалитет какие-то зеваки наслаждались видом «тюрьмы», где Синглтон был заточен вместе с козлом. Кэлхуна пронзило чувство дружеского сострадания. Ему вдруг показалось, будто его самого бросают в уборную: щелкает висячий замок, снаружи беснуется ревущая толпа, и он с ненавистью разглядывает ее сквозь прогнившие доски уборной. Козел издает неприличный звук; вот воплощение общества, к которому он прикован!
– А тут шестерых дядей убили, – послышался какой-то странный голос.
Он вздрогнул.
Маленькая белая девочка, сунув в рот бутылку «кока-колы», сидела на песке у его ног и следила за ним с независимым видом. Глаза у нее были такие же зеленые, как бутылка. Она была босая, волосы белесые, прямые. Бутылка с цоканьем выскочила изо рта, и девочка сказала:
– Это сделал гадкий дядя.
Кэлхун как-то сник – так бывает, когда сталкиваешься с детской непосредственностью.
– Нет, – сказал он, – не гадкий.
Девочка сунула язык в бутылку, потом беззвучно вытащила его, продолжая смотреть на Кэлхуна.
– Люди его обидели, – объяснил он. – Они были плохие, злые. Что бы ты сделала с теми, кто тебя обидел?
– Постреляла бы всех.
– Вот и он то же самое сделал,– сумрачно сказал Кэлхун. Она по-прежнему сидела на песке, не спуская с него
глаз. Казалось, сам Партридж смотрит на него ее бездумным взглядом.
– Вы травили его и довели до безумия, – сказал Кэлхун. – Он не хотел покупать значок. Разве это преступление? Он жил здесь как посторонний, и вы не могли этого вынести. Одно из основных прав человека, – продолжал он, глядя в прозрачные глаза девочки, – это право не подражать дуракам. Право быть не как все. Господи, да просто право быть самим собой!
Не спуская с него глаз, она закинула ногу на ногу.
– Он гадкий, гадкий, гадкий! – повторила она. Кэлхун встал и, глядя прямо перед собой, пошел прочь.
Гнев застлал ему глаза туманом. Было трудно различить, что творится вокруг. Две школьницы в ярких юбках и курточках метнулись ему под ноги, визжа:
– Купите билет на конкурс красоты! Вы увидите сегодня вечером, кого Партридж изберет королевой азалий!
Он отпрянул в сторону, но их хихиканье сопровождало его до самого муниципалитета и дальше. Наконец он остановился в нерешительности; перед ним была парикмахерская, видимо пустая и прохладная. Помедлив, он вошел.
Клиентов не было, парикмахер поднял голову из-за газеты. Кэлхун попросил постричь его и блаженно опустился в кресло.
Парикмахер был высокий изможденный парень, глаза у него, казалось, выцвели. Он выглядел человеком, который тоже страдал. Подвязав Кэлхуну простынку, он уставился на круглую голову клиента, словно это была тыква и он прикидывал, как ее лучше разрезать. Потом повернул его к зеркалу; оттуда на Кэлхуна глянуло круглое, совершенно заурядное и наивное лицо. Выражение его мгновенно сделалось жестким.
– И вы тоже, как все, хлебаете эти помои? – спросил Кэлхун воинственно.
– Как вы сказали? – переспросил парикмахер.
– Что, все эти дикарские ритуалы идут парикмахеру на пользу? Ну все, все, что здесь творится? – проговорил Кэлхун нетерпеливо.
– Да прошлый год сюда, на праздник, целая тысяча приехала, – отвечал парикмахер. – Ну а в этом году вроде бы и побольше, как-никак трагедия.
– Трагедия, – повторил Кэлхун, поджав губы.
– Из-за шести убийств, – пояснил парикмахер.
– Это трагедия?! – возмутился Кэлхун. – А что вы думаете о другой трагедии – о человеке, которого здешние дураки травили до тех пор, пока он шестерых не пристрелил?
– А, вы о нем, – протянул парикмахер.
– О Синглтоне, – сказал Кэлхун. – Он был вашим клиентом?
Парикмахер принялся стричь. При упоминании имени Синглтона лицо его выразило какое-то особое презрение.
– Сегодня вечером конкурс красоты, – сказал он. – А завтра концерт джаз-оркестра. В четверг после обеда будет большой парад в честь королевы…
– Вы-то знали Синглтона или нет? – перебил его Кэлхун.
– Еще бы не знать, – откликнулся парикмахер.
Дрожь пробрала Кэлхуна при одной мысли, что, быть может, Синглтон сидел в этом же самом кресле. Он отчаянно силился отыскать в своем отражении скрытое сходство с Синглтоном. И постепенно, высвеченная накалом чувств, стала проступать в его облике тайна – тайна его миссии.
– Он был клиентом вашей парикмахерской? – снова спросил Кэлхун и замер, ожидая ответа.
– Да он мне через жену родней приходится, – проговорил парикмахер сердито. – Только сюда он ни ногой. Слишком большой был жмот, чтобы стричься в парикмахерской. Сам себя стриг.
– Непростительное преступление! – заметил язвительно Кэлхун.
– Его троюродный брат женат на моей свояченице, – сказал парикмахер. – Но Синглтон на улице меня никогда не узнавал. Прохожу, бывало, совсем рядом, вот как сейчас вы сидите, а он никакого внимания. В землю взглядом уткнется, будто насекомое какое выслеживает.
– Самоуглубленность,– пробормотал Кэлхун.– Конечно, он вас и не видел.
– Какое там «не видел»! – Парикмахер неприязненно скривился.– Какое там «не видел»! Просто я стригу волосы, а он купоны – вот и все. Я стригу волосы,– повторил он, словно бы само звучание этой фразы ласкало его слух,– а он купоны.
«Типичная психология неимущего», – подумал Кэлхун.
– А что, Синглтоны были когда-то богаты? – спросил он.
– Да ведь он только наполовину Синглтон, – ответил парикмахер. – А теперь Синглтоны утверждают, будто в нем вообще ни капли Синглтоновой крови нету. Просто одна из девиц Синглтон отправилась как-то на девятимесячные каникулы, а вернувшись, привезла его с собой. Потом все Синглтоны вымерли, а деньги оставили ему. Откуда другая половина крови, кто его знает. Только, сдается мне, заграничная она.
Особенно оскорбительна была интонация.
– Кажется, я начинаю кое-что понимать, – проговорил Кэлхун.
– Теперь-то он не стрижет купоны, – сказал парикмахер.
– Да. – Голос Кэлхуна зазвенел. – Теперь он страдает. Он козел отпущения. На него взвалили грехи города. Принесли его в жертву за чужую вину.
Парикмахер застыл, разинув рот. Потом сказал уже более уважительно:
– Святой отец, вы его не за того принимаете. В церковь он отродясь не ходил.
Кэлхун вспыхнул.
– Я сам не хожу в церковь! – пробормотал он. Парикмахер замер. Он стоял, будто не зная, что делать с ножницами.
– Это был индивидуалист, – продолжал Кэлхун. – Человек, который не хотел, чтобы его подогнали под мерку тех, кто его не стоит. Нонконформист. Это был человек глубокий, но он жил среди чучел, которые в конце концов свели его с ума. Однако его безумие они обратили против себя же самих. Заметьте, они ведь не судили его. Они мгновенно переправили его в Квинси. Почему? Да потому, что суд бы выявил его полную невиновность и подлинную вину города.
Лицо парикмахера просветлело.
– Так вы юрист, да? – спросил он.
– Нет, – угрюмо ответил Кэлхун. – Я писатель!
– О! Я так и знал – уж непременно что-нибудь в этом роде! – пробормотал парикмахер. И, помолчав, добавил: – А что вы написали?
– Он не был женат? – сурово продолжал Кэлхун. – Так и жил один в Синглтоновом имении?
– Да там мало что осталось. Он ни гроша не вложил, чтобы содержать имение в порядке. А насчет жены, так за него ни одна женщина не пошла бы. Тут уж ему всегда приходилось платить. – Парикмахер похабно прищелкнул языком.
– Ну да, вы ведь своими глазами видели! – Кэлхун едва сдерживал отвращение к этому ханже.
– Нее-е, просто об этом все знали, – сказал парикмахер. – Я стригу волосы, – продолжал он, – но не люблю жить по-свински. У меня и канализация, и холодильник в доме есть – кубики льда так жене в руки и скачут.
– А вот он не был материалистом, – огрызнулся Кэлхун. – Существуют на свете такие вещи, которые значили для него больше, чем канализация. Например, независимость.
– Ха! Хорош независимый! – фыркнул парикмахер. – Однажды в него чуть не ударила молния. Так, говорят, надо было видеть, как он драпал. Взвился, ровно у него в подштанниках кишели пчелы. Ну и смеху было!
И парикмахер, хлопнув себя по колену, залился смехом гиены.
– Омерзительно, – пробормотал Кэлхун.
– А еще было, – продолжал парикмахер, – кто-то подбросил дохлую кошку к нему в колодец. Тут всегда что-нибудь да учинят – просто посмотреть: а вдруг удастся заставить его малость раскошелиться. А еще…
Кэлхун стал рваться из простынки, словно из сети. Высвободившись, он сунул руку в карман, вытащил доллар и швырнул его испуганному парикмахеру. Потом бросился вон, громко хлопнув дверью в знак осуждения этому дому.
Обратный путь к тетушкам его не успокоил. Солнце уже было низко, и азалии стали темнее, а деревья шелестели, склоняясь над старыми домами. Здесь никому нет дела до Синглтона, а тот валяется на больничной койке в грязной палате Квинси. Кэлхун ощутил всю меру невиновности этого человека. Чтобы воздать должное его страданиям, мало написать статью. Он, Кэлхун, должен написать роман, должен раскрыть механику этой вопиющей несправедливости. Занятый своими мыслями, Кэлхун прошел лишних четыре дома и тут только повернул назад.
Тетушка Бесси встретила его на крыльце и потащила в холл.
– Я ведь говорила, что у нас для тебя будет приятный сюрприз, – сказала она, подталкивая его к дверям гостиной.
На диване сидела долговязая девушка в желтовато-зеленом платье.
– Ты помнишь Мэри Элизабет? – спросила тетушка Мэтти. – Помнишь ту маленькую девочку, которую ты водил однажды в кино – в один из твоих приездов?
Как он ни был зол, а все-таки узнал ту самую девицу, которая читала под деревом.
– Мэри Элизабет приехала домой на весенние каникулы, – сказала тетушка Мэтти. – Мэри Элизабет – настоящий ученый, ведь правда, Мэри Элизабет?
Мэри Элизабет нахмурилась, давая понять, что ей совершенно безразлично, считают ее ученым или нет. Взгляд ее ясно говорил, что ей все происходящее так же не по душе, как и ему.
Тетушка Мэтти, ухватившись за набалдашник палки, стала подниматься со стула.
– Мы собираемся ужинать пораньше, – сказала тетушка Бесси, – потому что Мзри Элизабет возьмет тебя па конкурс красоты, а он начинается в семь.
– Замечательно, – проговорил Кэлхун с иронией, которую они не поймут, но Мэри Элизабет, он надеялся, оценит.
За столом он не обращал на девушку ни малейшего внимания. Его пикировка с тетками отличалась намеренным цинизмом, но у старых дам не хватало соображения понять намеки, и все, что бы он ни сказал, они встречали дурацким хохотом. Дважды они назвали его ягненочком, и девица усмехнулась. В остальном по ее поведению нельзя было предположить, что ей все это приятно. Ее круглое очкастое лицо выглядело еще детским. «Инфантильна», – подумал Кэлхун.
Ужин кончился, и они уже шли на конкурс красоты, но все еще не сказали друг другу ни слова. Девушка была на несколько дюймов выше, чем он; она шагала немного впереди и, казалось, была не прочь потерять его по дороге; но, миновав два квартала, она вдруг круто остановилась и принялась рыться в большой плетеной сумке. Вынула карандаш и, взяв его в зубы, продолжала рыться. Минуту спустя со дна сумки были извлечены два билета и блокнот для стенографических записей. Вытащив все это, она закрыла сумку и двинулась дальше.
– Вы собираетесь записывать? – спросил Кэлхун подчеркнуто ироническим тоном.
Девушка огляделась по сторонам, будто силясь установить, откуда этот голос.
– Да, – ответила она, – я собираюсь записывать.
– Вам нравятся подобные развлечения? – продолжал он все так же иронически. – Они вам по душе?
– Меня от них тошнит, – сказала она. – Я намерена со всем этим разделаться одним росчерком пера.
Кэлхун тупо уставился на нее.
– Не хотелось бы портить вам удовольствие, – продолжала она, – но здесь все фальшиво, все прогнило до самого основания. – От возмущения она говорила с присвистом. – Они проституируют азалии.
Кэлхун был ошеломлен. Однако овладел собой.
– Не надо обладать гигантским умом, чтобы сделать подобный вывод, – проговорил он высокомерно. – А вот как преодолеть это духовно – здесь нужна проницательность.
– Вы хотите сказать – в какой форме это выразить?
– В общем, это одно и то же.
Следующие два квартала они прошли молча, но вид у обоих был растерянный. Когда показался муниципалитет, они перешли улицу, а Мэри Элизабет вынула из сумки билеты и сунула их мальчишке, стоявшему у входа на территорию, отгороженную от остальной площади канатом. Там, за канатом, на траве уже собирались люди.
– Здесь нам и торчать, пока вы будете записывать? – спросил Кэлхун.
Девушка остановилась и повернулась к нему.
– Послушайте, Ягненочек, – сказала она, – вы можете делать все, что вам вздумается. Я пойду наверх, в кабинет моего отца, где можно работать. А вы, если угодно, можете остаться здесь и участвовать в избрании королевы азалий.
– Я пойду с вами, – сказал он, сдерживаясь. – Мне бы хотелось посмотреть на великую писательницу за работой.
– Ну, как знаете, – пожала она плечами.
Кэлхун поднялся следом за девушкой по боковой лестнице. От злости он даже не сообразил, что входит в ту самую дверь, с порога которой стрелял Синглтон. Они миновали пустой зал, похожий на сарай, и, поднявшись на следующий этаж по заплеванной табаком лестнице, попали в другой такой же. Мэри Элизабет извлекла из плетеной сумки ключ и открыла дверь отцовского кабинета. Они вошли в обшарпанную комнату, по стенам которой стояли полки со сводами законов. Девушка подтащила к окну два стула с прямыми спинками – как будто ему не под силу было это сделать, села и уставилась в окно, словно происходившее внизу сразу захватило ее.
Кэлхун сел рядом и, чтобы позлить девушку, принялся внимательно ее разглядывать. Минут пять, не меньше, пока она сидела, облокотясь о подоконник, он неотрывно глядел на нее. Он рассматривал ее так долго, что даже испугался – как бы ее лицо не отпечаталось на сетчатке его глаз. Наконец Кэлхун не выдержал.
– Какого вы мнения о Синглтоне? – спросил он резко. Мэри Элизабет повернула голову и как будто посмотрела сквозь него.
– Тип Христа, – сказала она. Кэлхун был ошеломлен.
– То есть я имею в виду миф, – добавила она, хмурясь. – Я не христианка.
Мэри Элизабет снова принялась сосредоточенно наблюдать за происходившим на площади. Внизу протрубил горн.
– Сейчас появятся шестнадцать девушек в купальных костюмах, – сказала она нараспев. – Вам, конечно, это будет интересно?
– Послушайте, – рассвирепел Кэлхун, – зарубите себе на носу – я не интересуюсь ни этим дурацким праздником, ни этой дурацкой королевой азалий. Я здесь только потому, что сочувствую Синглтону. Я собираюсь о нем писать. Возможно, роман.
– Я намерена написать документальное исследование, – сказала Мэри Элизабет тоном, из которого явствовало, что изящная словесность ниже ее достоинства.
Они посмотрели друг на друга с откровенной и пронзительной неприязнью. Кэлхун чувствовал, что на самом деле она пустышка.
– Поскольку жанры у нас разные,– заметил он, насмешливо улыбаясь, – мы сможем сравнить наши наблюдения.
– Все очень просто, – сказала девушка. – Он козел отпущения. В то время как Партридж бросается выбирать королеву азалий, Синглтон страдает в Квинси. Он искупает…
– Я не имею в виду абстрактные наблюдения,– перебил ее Кэлхун. – Я имею в виду наблюдения конкретные. Вы когда-нибудь его видели? Как он выглядит? Романист не ограничивается абстракциями, в особенности когда они очевидны… Он…
– Сколько романов вы написали? – спросила Мэри Элизабет.
– Это будет первый, – холодно ответил Кэлхун. – Так вы его когда-нибудь видели?
– Нет, – сказала она, – мне это ни к чему. Совершенно неважно, как он выглядит: карие у него глаза или голубые – это для мыслителя не имеет значения.
– Может быть, вы боитесь его увидеть? Романист никогда не боится увидеть реальный объект.
– Я не побоюсь увидеть его, – сказала девушка сердито, – если только будет необходимость. Карие у него глаза или голубые, – мне все равно.








