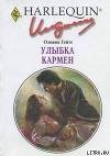Текст книги "Книга несчастной любви"
Автор книги: Фернандо Ивасаки
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
– О чем речь, Ребольо.
– Скажи ей… Скажи, что я подарю ей благословенный рай.
– Черт подери, я не знаю, поймет ли она меня.
– Тогда скажи ей, что я вставлю ей с видом на Хельвес [235]235
Хельвес – город поблизости от Севильи.
[Закрыть].
– Приятель, это тоже нельзя.
– Ты скажи ей, что она у меня ослицей заревет, хрень ее за ногу.
И так как на следующий день мне с Итцель нужно было работать в архиве, я ушел из «Ла-Карбонерии», как только Ребольо и Барберан принялись за дело, предусмотрительно размягчив моей музыкой женскую массу. По дороге домой я вспомнил давний вечер, когда ходил в кино с Кармен, и обрадовался, что наконец-то судьба повернулась ко мне лицом. Есть мужчины, способные соблазнить тринадцать женщин за один год, а есть мужчины, которые не в состоянии соблазнить и одной женщины за тринадцать лет. Однако благодаря моим друзьям мои мечты целиком и полностью сбылись, пускай даже и на тринадцатый год.
Так начались самые счастливые дни в моей жизни, ведь я делил с Итцель стол в читальном зале, мы ходили рука об руку по благоухающим лабиринтам Севильи и, забывшись, блуждали по именному указателю наших любимых авторов. Это было невероятно. Мы всегда во всем соглашались друг с другом, смеялись над нашей жизнью, которой мы жили бы в Лиме и в Мехико, и даже задались целью вместе добиться стипендии Фулбрайта, чтобы поехать в Калифорнию поступать в сладостную, словно мед, докторантуру. Если бы я ее поцеловал, она бы растаяла.
Итцель меня любила, но нужно было время («Чувак, ты ее все еще не оседлал?»). В конце концов, мы были только стипендиатами, и наша разлука была неизбежна: как-то Итцель призналась мне, что ее работа вот-вот завершится («Мексиканки – самые лицемерные в Испании!»). А я все пел ей песни о скороспелой любви и ранчеры об аттестованной ненависти, и все равно толком так ничего и не добился. («У нас еще остается последнее средство – замесить тебя на крови, чувак».) Видно, до конца ей так и не вставило, и этому определенно что-то мешало.
– Вот увидишь, она из братства Девы Гваделупской.
– Чувак, срать я хотел на сиськи этой Девы.
– А это еще зачем, хрень тебя возьми?
– Да чтоб Младенец сосал дерьмо, чувак.
Как-то на прогулке под апельсиновыми деревьями в белом цвету Итцель с серьезным видом рассказала мне, что в Мексике она была помолвлена и у нее есть жених, что она уже рассказала ему обо мне и что ее нареченный был не в восторге от этого. В ужасе я услышал, что жених был чистым математиком, вдвое старше меня и что он уже купил билет на самолет до Севильи и прилетит сюда как раз в вербное воскресенье («Через неделю, мой король»). Почему она не сказала мне этого с самого начала? Почему она сказала мне это только в конце? Самое ужасное заключалось не в том, что жених был. И даже не в том, что он приедет. Самое ужасное заключалось в том, что он был математиком.
– Что ты ему рассказала о нас?
– Все, мой король.
– Но ведь ничего не было!
– А разве ты не влез в мою жизнь, недоумок.
– Но я ведь не лезу в твою постель.
– Ну вот и посмотрим, поверит ли он тебе, мой король.
Одураченный жених всегда опасен, а одураченный жених-мексиканец смертельно опасен. Однако одураченный жених-мексиканец, который еще к тому же математик, – это просто мировая катастрофа, и с этого момента я рисовал его себе не иначе как извлекающим из меня квадратный корень, возводящим свое бешенство в энную степень и ставящим «X» на моем имени. Где-то в Мексике кто-то решил, что моя жизнь – это уравнение, к тому же еще и равное нулю. И как же это Лиси считала, что я никогда не буду в силах разобраться в алгебре.
Новость о скоропостижном приезде жениха Итцель пробежала по Архиву Индий со скоростью, с какой распространяются только дурные вести, все были убеждены, что он едет мстить. Научные сотрудники втайне поглядывали на меня, смотрители огорченно покачивали головами, а архивариусы шушукались у меня за спиной. И всякий таил надежду, что найдется какой-нибудь друг-товарищ, который выведет из заблуждения ревнивого преподавателя математики. Одно дело носить рога заслуженно, а совсем другое дело – когда тебя ими украшают, как севильское патио. История в архиве меня предала, и я побежал в «Ла-Карбонерию» искать утешения в литературе.
– Чувак, я могу тебя спрятать в Хаэне. Он все равно тебя убьет, но это ему встанет дороже.
– Я б на твоем месте оделся назареянином, опутал бы себя веревками и пошел бы с братством по улицам, въезжаешь, о чем я?
В Севилье что-то затевалось, поскольку весь город пропитался запахом ладана и на каждом углу я видел пасхальные свечи. Что-то необычное бурлило и кипело на улицах, на которых было уже полным-полно заграждений, как если бы Бог решил закрыть мне таким образом любую возможность бегства. Итцель скрылась в каком-то косметическом салоне, желая встретить во всей красе цифровую последовательность своего жениха, и мне пришел на память благородный жар Гефеста, так и оставшегося уязвимым перед волшебным поясом и уловками Афродиты [236]236
Волшебный пояс Афродиты делал всякого влюбленным в его хозяйку. Будучи женой Гефеста, Афродита постоянно изменяла ему с Аресом. Гефест подловил их с поличным, накрыв супружескую постель тончайшей бронзовой сетью. Афродита продолжала изменять своему супругу даже после того, как раскрылся факт измены.
[Закрыть], даже после того, как он застал ее врасплох in follandi[237]237
Смягченный вариант перевода: с поличным в постели (лат.).
[Закрыть]с Аресом. Как и Афродита, Итцель, несомненно, с необыкновенной легкостью утихомирила бы логарифмический гнев своего вулканического марьячи, но лукавое провидение не наградило меня славой греческого мифа, зато приготовило бесчестье мексиканской ранчеры:
Выходные, которые, я чувствовал, станут последними в моей жизни, я посвятил написанию нежных писем своим родителям, братьям-сестрам и тете Нати, которая никогда бы даже не догадалась, что настоящий фильм ужасов не «Экзорсист», а какая-нибудь лента с Хорхе Негрете [239]239
Негрете Хорхе (1911 – 1953) – мексиканский певец и киноактер.
[Закрыть]. По прошествии стольких лет я наконец понял, почему женщины никогда не принимали меня всерьез: потому что я всегда хотел быть тем, кем я не был и кем никогда бы не стал. А именно храбрецом, спортсменом, революционером, постановщиком балетов, монахом, роллером, партнером для выпускного вечера, евреем-сефардом, олигархом и мексиканцем. Интересно, полюбили бы меня женщины, которых я так сильно любил, если бы я признался им, кто я есть на самом деле? У меня уже не было времени, чтобы искать ответ на этот вопрос, ведь в тот самый день, когда Спаситель вошел в Иерусалим, в Севилью прибыл мой убийца.
Любовный зуд подсказал мне, что в Архиве Индий лучше не умирать, потому что я бы предпочел любезную анонимность строчки в колонке о происшествиях, нежели скрипучую публичность надгробной плиты. Я не желал, чтобы убийство произошло и у меня дома, потому что мне не хотелось, чтобы разразился международный конфликт с участием Мексики, Перу, Испании, Ливана и Соединенных Штатов. Вот так я и оказался в «Ла-Карбонерии», где, по крайней мере, чувствовал себя под защитой настоящих друзей.
– И что ты здесь делаешь, чувак? Я тебя не знаю.
– Будь добр, еще не хватало, чтобы сюда явился этот тип с пушкой и к чертям собачьим перестрелял нас всех.
«Ла-Карбонерия» была островком безверия среди ревущего океана религиозного братства, поскольку шествия святого Вторника наводнили Сады Мурильо, улицу Матеоса Гаго и район Санта-Крус. Если жених Итцель захотел бы встретиться со мной, то для начала ему пришлось бы пробраться через толпу ревностных фанатиков. Вероятно, в архиве ему уже доложили, что соблазнитель женщин обитает в «Ла-Карбонерии» вместе с одним марьячи из Хаэна и другим из «Трех тысяч».
Ребольо и Барберан в страстную неделю выжимали все возможные соки галантной весны, потому что Севилья полнилась туристами, которые на два дня застревали в «Ла-Карбонерии», разочарованно считая, что все шествия были похожи одно на другое. Они воплощали собой мирскую сторону этого барочного праздника, который и для меня мало что значил, поскольку у всякого свой собственный путь на Голгофу.
– Если тебя убьют, то у меня уже есть заголовок в газету: «Японец из Перу убит в Севилье мексиканцем». За него мне премию дадут, чувак.
– Дай мне фотку этого типа, и Йети-из-Кантильяны его уделает.
Неплохо быть такими, как Ребольо или Барберан, до ужаса довольными своим знакомством друг с другом и клеящими девок больше, чем любой преподаватель в Лиме на летнем курсе. Но в Лиме было невозможно влюбить в себя девчонку, выставляя напоказ провинциальность или увлеченность фламенко, потому что там красивая ложь всегда была более соблазнительна, нежели безликая правда. И в Мексике, должно быть, происходило абсолютно то же самое, ведь меня собирались Убить, по правде говоря, из-за ложной любви.
– Рафа, чувак, подай-ка моему другу коктейль, а то его сегодня вечером грохнут.
– И мне дай красненького, а то здесь становится жарче, чем в бане.
Этот самый Рафа захотел знать, был ли я так же, как он, поэтом, читал ли я Вальехо и что я делаю рядом с этой парочкой идиотов. Огорченный до слез моей судьбиной, он прочитал пару стихотворений и заверил меня, что безотлагательная угроза смерти – это как раз для его поэзии.
– Я ведь тоже могу умереть в любой момент, – продолжил он, – потому что все мои любовницы – жены военных.
Вот ведь какое совпадение: я не хотел оказаться посреди кровавых событий современности, а сволочная современность сама оказалась кровавой.
– Кто здесь этот подлый козел, перуанец этот, который хотел трахнуть мою невесту? – прогремел голос, гальванизированный текилой.
Должен заметить – ради любви к Итцель, – что ее жених оказался склада больше физического, нежели математического. Ребольо, Барберан и поэт печальных коктейлей, разглядев размеры моего палача, оцепенели от страха. И так как вопрос кончить дело «жамешом на крови» был уже не актуален, то я ответил ему: «Э-т-т-т-т-о я».
– Понятно, педрило. Если у тебя есть яйца, пойдем-ка на улицу разберемся.
– Немного уважения к Сретенью Господнему, хрень вашу за ногу. Будьте любезны.
– Рафа, чувак, сказал бы ему, что это был ты, и премия «Адонайс» [240]240
«Адонайс» – испанская литературная премия в области поэзии, присуждается с 1943 года.
[Закрыть] была бы у тебя в кармане.
Поскольку Левис был переулком совсем грязным – здесь мочились коты и пьяницы, – то я направился на площадь Мерседариас, призывая себе на помощь невыносимое смирение святых мучеников и убеждая себя в том, что Камила все еще молится за меня в тиши какого-нибудь монастыря. Под безжизненным светом фонарей меня потряс унылый вид апельсиновых деревьев, и я подумал, что неплохо бы муниципалитету почаще ополаскивать брусчатку.
– Куда тебя тянет, козел безрогий? Сейчас ты узнаешь, с кем дело имеешь.
Когда ты в шаге от смерти, то начинаешь обращать внимание на всякие незначительные детали. На мешок с мусором, оставленный у дома, на запах какого-нибудь фрукта, пахнущего детством, или на непристойные слова, написанные хулиганами на стене, по которой меня сейчас размажут тонким слоем. Я подумал о книгах, которые никогда не напишу, вспомнил «Тайное чудо» – рассказ, в котором герой-еврей перед самой смертью просит у Бога еще один год жизни. И пока пуля зависает в утреннем тумане, Яромир Хладик заканчивает свою драму и, найдя последний эпитет, умирает. Не было ли в том пустом доме на площади какой-нибудь синагоги? Как «летний лагерь» на иврите? Ах, Беки, Беки, ты не в силах мне помочь.
– Что тебе не понятно? Да ты всего лишь сопляк, глиста полудохлая. Сейчас ты узнаешь, почем фунт лиха.
И мой убийца скользнул рукой за доказательством всех теорем под пиджак, порылся немного где-то между подмышкой и областью сердца, словно он что-то искал, и мое воображение очень явственно нарисовало это «что-то» в изящной кобуре из итальянской кожи, такой же итальянской, как и дорогущие туфли Ниночки. Что-то металлическое сверкнуло на площади золотым блеском, и в тот момент мне ужасно захотелось вспомнить, кто играл в «Человеке с золотым пистолетом» [241]241
«Человек с золотым пистолетом» (1974) – фильм Гая Хамильтона из серии фильмов о Джеймсе Бонде с Роджером Муром в главной роли.
[Закрыть]: Шон Коннери или Роджер Мур [242]242
Коннери Шон (р. 1930), Мур Роджер (р. 1927) – актеры, в разное время сыгравшие Джеймса Бонда.
[Закрыть]. Я старался не думать перед смертью о подобном пустяке, но было слишком поздно, потому что он уже вытаскивал руку. Брал ли он вот так мелок, когда читал свои лекции?
– Этим, что ты видишь, я убью тебя насмерть, придурок. Для моей невесты ты сопляк еще. А ты уж думал, что я закончу как «Заключенный номер девять» [243]243
«Заключенный номер девять» – песня Джоан Баэз (р. 1941), в которой рассказывается о заключенном, приговоренном к смерти за убийство своей жены и ее любовника, на исповеди тюремному священнику он говорит, что если бы он родился еще раз, то все равно убил бы их.
[Закрыть]? Никоим образом, козел. Вот это убьет тебя, потому что этим я тебя навечно урою в могилу.
И взмахнув перед моими носом своей Golden American Express из «Чейз Манхэттен Банка» с холмов Чапультепека [244]244
Холмы Чапультепека– город Мехико; Чапультепек – старинный парк в центральной части Мехико.
[Закрыть], он снова сунул ее в карман и навсегда увез Итцель на «Поезде отсутствия».
Все произошло так быстро и неожиданно, что, когда я остался один, голова у меня поплыла, рой мошек устремился по кишкам к моему рту, ноги мои подкосились, сбросив с себя давящую доселе тяжесть. Это было действие силы тяжести: когда твое состояние становится тяжелым, тело падает. К сожалению, это также была математика. В полубреду я понял, что все было по высшему классу, и я запел мексиканскую сегирийю:
– С тобой все в порядке? Что с тобой случилось? Тебя толкнули?
Сквозь ресницы, затянутые белым туманом, я разглядел склонившуюся надо мной красивейшую девушку. И поскольку мне не хотелось, чтобы меня снова бросили, я поспешил рассказать ей обо всем, что случилось со мной: про Итцель, про ее геометрического жениха, про играющих фламенко марьячи, про «Экзорсиста», «Трену», мою тетю Нати, графиню Потоцкую… И все.
Когда я увидел, что девушка в испуге бросилась бежать, я сказал себе, что впервые в жизни я осмелился сказать правду, и потому никак нельзя просто взять и оставить в покое эту обворожительную девчонку. И я побежал за ней и бежал до самой «Ла-Карбонерии», готовый влюбиться еще раз.
Ла-Вереда, лето 2000 г.
Эпилог
В отличие от политики или бизнеса, которые в лице самых выдающихся представителей этого жанра твердят не переставая об обещаниях и прибылях, любовь не приемлет успеха с таким же постоянством. Когда политик верит, что добился своего, его избиратели аплодируют ему, когда предприниматель полагает, что добился победы, его клиенты поддерживают его, но в любви нет ни клиентов, ни избирателей. Поэтому когда кто-нибудь кичится тем, что, мол, достиг великих успехов в качестве покорителя женских сердец, то рискует нарваться на того, кто запросто разъяснит ему, что не было ни великого успеха, ни великого покорителя женских сердец. Неудача же в любви, наоборот, не допускает иного толкования.
В «Книге несчастной любви» я захотел объединить десять моих наиболее показательных неудач в делах любовных. Их было значительно больше, но хвастаться этим вряд ли стоит. Однако невезение в делах любовных оказалось – хоть в этом-то прок – хорошим поводом посмеяться над сердечной неудачей, ведь несчастная любовь – гарантия хорошего веселья. Несчастная любовь – это не любовь, оборванная несчастьем, бедой или трагедией, поскольку смех в таком случае был бы явно недобрым. Нет. Добрый юмор моего романа кроется не в любви несостоявшейся, а в любовях несостоятельных.
И поскольку значительными и серьезными произведениями считаются произведения, которые скорее дают возможность покопаться в палимпсестах [246]246
Палимпсест – древняя рукопись, с которой стерт первоначальный текст и на его месте написан новый.
[Закрыть], фоноцентризмах [247]247
Фоноцентризм– термин постмодернизма, означает примат устной речи над письменной.
[Закрыть], пролепсисах [248]248
Пролепсис (греч.) – предвосхищение возможного возражения, риторическая фигура, посредством которой заранее отвечают на предполагаемое возражение.
[Закрыть] и в прочем наборе семиотических понятий деконструктивной критики, хочется предостеречь жаждущих любви бдительных филологов, чтобы они не пытались выискивать в моем романе ничего подобного, поскольку со времени моего первого текстового опыта я стою на позициях свободного текста, бескомпромиссных текстуальных связей, текста ради текста, я стою на позициях литературы гомотекстуальной, битекстуальной и гетеро-текстуальной. Дело в том, что ваш покорный слуга не видит в написанном текст воспроизводящий, а видит в нем текст производящий
Свидетель Господь, – ни она, ни любая другая,
которым был предан я, страсти ответной алкая,
пенять не посмели бы: их не чернил никогда я,
забывши худое и лишь о благом вспоминая.
Книга благой любви, 107