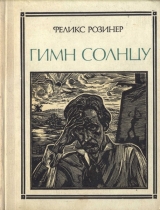
Текст книги "Гимн солнцу"
Автор книги: Феликс Розинер
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Отдельные части сонаты разнородны по характеру звучания. Например, в первой части обычно господствует динамический темп «аллегро», вторая часть – спокойное, медленное «анданте», третья – быстрое, часто легкое по настроению «скерцо», а «финальная» четвертая часть, в каком бы темпе ни была она написана, обычно является апофеозом, смысловой кульминацией, музыкально-логическим завершением всего сонатного цикла.
Классическая соната, какой она предстает в великих творениях Гайдна, Моцарта и особенно Бетховена, сложилась как произведение большой внутренней значимости и цельности ее музыкального содержания. Когда звучит соната, создается впечатление соучастия в некоем процессе развития гармоничных и противоречивых сил. Их согласие и борьба, выражаемые в смене и столкновении мелодических тем, ритмов и гармоний – всего, что, собственно, и составляет музыку, – создает ощущение жизненной динамики происходящего. На такое воздействие рассчитана как и общая форма сонаты, в которой контрастируют быстрое и медленное, спокойное и взволнованное, так и форма отдельных частей.
Наиболее ярко идея «борьбы и единства противоречий» проявляется, как правило, в первой части сонаты, а также, бывает, и в последней. В этих случаях обычно композиторы руководствуются особыми законами музыкального построения, которые лежат в основе этой формы, так и называемой «формой сонатного аллегро».
В сонатном аллегро сперва излагаются две темы – главная, часто драматического характера, и побочная, например, лирическая. Отзвучав в разных тональностях, они завершают «экспозицию» и вступают в «разработку», где видоизменяются, скрещиваются, вступают в противоречивое развитие, звучащее непрерывно и интенсивно.
Так сонатное аллегро движется к репризе – повторению в изменившемся, как бы в обновленном виде первого своего раздела – экспозиции. Таким образом, реприза часто является как бы внутренним разрешением драматизма, напряженности течения всего аллегро.
Без этого понимания сонаты и ее органический составляющей – сонатного аллегро трудно в достаточной степени постигнуть живописные циклы «Сонат» Чюрлениса.
Имея в виду эту «сонатно-музыкальную» сторону его работ, нужно помнить еще и о другом: Чюрленис всегда, начиная с ранних своих картин, приглашал зрителя вступить вместе с ним на путь ассоциаций – мышления по цепи связанных друг с другом явлений, на путь аналогий – выявления сходства в качествах и свойствах разнородных предметов.
Вот первая из сонат – «Соната Солнца». В «Аллегро» – в голубоватом мире, заполненном воздухом и декоративным пейзажем – тут фрагменты архитектуры с повторяющимися мотивами ворот и башен; деревья, похожие на кипарисы или тополя; парящие птицы с распластанными крыльями – в этом гармоничном, ритмически стройном мире спокойным, приветливым, золотистым мерцанием горят маленькие светила. Их более двадцати, и кажется, что эти лучистые золотые шарики звенят и рвутся улететь куда-то, взмахнув своими лучами.
В построении пейзажа можно увидеть отзвуки «Фуги» (заметим, кстати, что музыкальное построение фуги сходно по форме с сонатным аллегро) – увидеть те же ритмические повторы линий, отражения одного, крупного плана в другом, более мелком, смену цветовых тонов.
«Анданте» разворачивает перед нами огромную, занимающую почти половину изображения, полусферу планеты, пронизанной лучами солнца. Над условным горизонтом – лучи другого солнца, идущие веером сквозь волнистые линии какой-то другой, инопланетной атмосферы. А на сфере планеты – группы деревьев, реки, цветовой намек на рельеф. Все погружено в неподвижность, все греется в мощных, широких потоках лучей.
«Скерцо» – третья часть – еще более декоративна, театральна, как гобелен изысканного, тонкого тканья. Взгляд движется за прихотливыми линиями полета мотыльков над ажурными аркадами мостиков, вслед за изгибами реки с горящими на ее берегах яркими цветами, горизонтально скользит вдоль рядов пышных деревьев, поднимается вверх, где два безжизненных циркульных круга холодных лун еле видятся в небе… И снова – изгибы реки внизу… Но реки ли? В этой реке плывут облака, и есть неясное чувство, что где-то там, глубже, за облаками скрыты иное небо, иные дали, совсем не такой пейзаж. Все стремится, летит, уносится в неизвестность. Мелькание множества ярких пятен – крылышек мотыльков, ярких пятен – цветочных чашечек создает орнамент, который как будто непостижимым образом связан с ритмом «восьмых» и «шестнадцатых» – коротких нот быстрого темпа скерцо…
И «Финал» – сумрачный, трагический и величественный. Чуть ниже середины картины – центр, к которому сошлись прозрачные нити круговой паутины. За паутиной – темное, в редких огоньках звезд небо, под которым внизу на ступенчатых пьедесталах восседают склонившие головы коронованные фигуры. Все погружено в неподвижность, и все осеняет гигантская, занимающая всю верхнюю часть пространства чаша колокола. Он давно не звонил: паутина крепится к его нижнему краю, язык его безжизненно повис. По окружности конуса колокола рисуются неяркие очертания башен, лучей, реки… И с удивлением узнает наш взгляд, что на колоколе развернулась панорама преображенных фрагментов трех первых картин «Сонаты Солнца». Финал объединил все части сонаты в целое!
Осмысливая эту «Сонату», некоторые склонны считать, что Чюрленис провел в ней мысль, аналогичную представлениям о жизни светил, которые рождаются, ярко горят, затем тускнеют и, наконец, гаснут. То есть мы видим в четырех картинах сонаты «утро», «день», «вечер» и «ночь» – смерть какого-то светила. Настроение, колорит картин вполне допускают такое толкование. Но говоря о смерти светила, упускают обычно одну подробность. Среди величественного реквиема финала сияет надежда на новую жизнь: на колоколе пробудилось маленькое лучистое солнышко, оно уже Сейчас разгоняет тьму небес, и настанет такое время, когда новый огромный мир родится под его живительными лучами!
Возможно и совсем иное «чтение» этих четырех картин. В первых трех Чюрленис провел нас «от общего к частному»: показал мир с множеством солнц, затем приблизил к одной из планет, затем мы как будто спустились еще ниже, к ее рекам и деревьям. Но в «Финале» – снова уходим мы в беспредельность миров, где тьма, и холод, и забвение, и только тот, откуда мы ушли, сияет солнцем на колоколе и напоминает о себе видениями своих силуэтов.
Сто́ит ли рассуждать, какое из этих смысловых построений более точно отражает то, что хотел выразить Чюрленис? Думается, что нет. Мы уже говорили, что в его живописи свои «правила игры», которые сродни музыке и потому не допускают точного пересказа содержания.
О каждой из «Сонат» Чюрлениса можно размышлять много. В дальнейшем мы еще обратимся к последним его «Сонатам». Что же касается первых из них, то ограничимся лишь замечанием о том, что следующая после «Солнечной» – «Соната Весны» принадлежит к числу лучших, прекраснейших произведений художника. Напоенная светом, порывами свежего ветра, ликующим, победным движением, «Соната Весны» слагается в радостный, торжествующий гимн жизни, молодости, созиданию. Больше, сильнее, чем в каком-либо другом произведении Чюрлениса, в этой «Сонате» выражено оптимистическое начало его творчества, его стремление видеть землю в лучах гармонии и красоты.
Под названием «Соната Весны» существует книга о Чюрленисе, написанная В. Ландсбергисом, в которой одна из глав посвящена непосредственно разбору этой «Сонаты». Глава заканчивается словами о том, что чюрленисовская весна на картинах всходит, «как солнце, от рыхлой почвы до космической беспредельности. Такова „Соната Весны“, вдохновенная живопись, органично вобравшая столь многое и в том числе два удивительнейших явления на свете – природу и музыку».
Четыре репродукции в нашей книге дадут вам представление об этом, и если читатель уже внутренне подготовлен к встрече с «Сонатами» Чюрлениса – в добрый путь: вас ждут их миры!..
Глава XI
ПОСЛЕДНИЕ ПРИСТАНИ
Я пропел уже
Все песенки,
Лишь одной не спел…
Дайна
Реальность и мечты, серьезность и грустная ирония над собой, не умеющим жить практично, нередко перемешивались в планах Чюрлениса. Еще из Лейпцига он писал Моравскому:
«Отсюда думаю поехать в Петербург. Там буду учиться инструментовке и перебиваться уроками. Потом поеду в Америку, заработаю на домик у Немана и поеду в Африку. Потом навсегда в Литву. А в конце концов, могу и никуда не ехать».
Три года спустя, не поехав, конечно же, никуда, он снова дает волю воображению и пишет жившему на чужбине брату:
«…Первым делом поедем повидать Центральную Америку, Мексику, непроходимые леса Амазонки, берега Миссисипи, частично захватим Южную Америку, а потом на несколько месяцев отдохнуть в Австралию. Оттуда на Цейлон и в Восточную Индию, с которой не захотим расстаться скоро, а на десерт останутся Африка, Египет, пирамиды, сфинксы, пальмы…»
Читаешь эти мечтания, и кажется, что писал их двенадцатилетний гимназист, собравшийся бежать из дому к индейцам, – так был по-детски жаден до новых впечатлений этот далеко не юный и далеко не удачливый человек… Это длинное кругосветное путешествие вновь приводило его в родные края: «А потом, братец, Поречье, Ратнича, Ратничеле!..»
О чем бы ни думал он, куда бы ни рвался, он, как сказал сам однажды, посвящал себя Литве – и везде оставался с нею.
Жизнь вела свою нить по-своему. Вместо Центральной Америки удалось недолго, всего около двух недель, побывать в близлежащей Центральной Европе. Что ж, и это было полезно… Ну и, конечно, Кавказ и Крым, об этом он никогда не забудет, так прекрасно было тогда.
Теперь же… Теперь, похоже, сбывается давнее желание побывать в Петербурге. С другими целями едет он сюда: не учиться инструментовке – великий мастер оркестровой музыки Римский-Корсаков, у которого хотелось бы заниматься, умер несколько месяцев назад, – а едет, чтобы показать свои картины известным художникам, осмотреться в российской столице и, может быть, наконец попытаться как-то по-новому повернуть свою жизнь…
Что означало это «по-новому», он положа руку на сердце не мог бы сказать. Он всегда начинал ощущать свою полную беспомощность, когда мысли касались конкретных жизненных планов, способов обрести материальное благополучие или даже хоть какую-то минимальную устойчивость в денежных делах. А в последнее время от этих мыслей отмахиваться было нельзя. Предстояла близкая женитьба, и чувство ответственности за будущую семью не давало ему покоя. В Вильнюсе же, как и прежде, особенно не на что было рассчитывать: все те же уроки музыки – вот единственное, что давало почву под ногами. Картины, которые он показывал на выставках, мало кто покупает. Конечно, они производят сенсацию, некоторые восхищаются ими, но большинство недоумевает, пожимает плечами, смотрит на них как на загадки. О, есть и такие, кто смеется, – бедные! – так мало еще у них, столькому еще нужно развиться в этих людях! И означает это только одно: что впереди еще много работы у нас, у тех, кто должен разжечь огонь. И такие времена придут, но еще много воды утечет до той поры…
А в Петербурге его признали еще на ученической выставке. Здесь, в столице, – средоточие культурной жизни России. Он же все никак не привыкнет воспринимать себя всерьез, и поэтому ему очень нужно выйти со своими работами на широкую арену, туда, где его смогут строго и беспристрастно судить лучшие русские художники и художественно-грамотная публика. Он везет с собой картины, которые покажет прежде всего Добужинскому, этого художника он уважает, видел его работы на выставке в Вильнюсе: Добужинский родом из Литвы и не порывает с ней связей. Но явиться к нему в дом и просить посмотреть картины… Это неловко. Но ведь есть рекомендательное письмо… Ох, эта всегдашняя стеснительность!
Петербург дышит осенью, моросит с клочковатого серого неба, вода на Фонтанке морщится под порывами ветра, и с места видно, как чья-то привязанная к чугунному кольцу набережной лодчонка с глухими ударами стукается о гранит… Чюрленис сворачивает на Вознесенский проспект: где-то здесь, он узнал, можно снять комнатушку.
Старые ленинградцы помнят еще, что Вознесенским назывался когда-то нынешний проспект Майорова. По письмам Чюрлениса известно, где остановился он, впервые приехав в Петербург. Говорят, что нумерация домов в этой части проспекта осталась прежней, и мы сейчас можем взглянуть на обычный петербургский фасад трехэтажного дома с лепными античными головами, с ухмыляющейся мордой льва над полукруглой аркой, ведущей в каменный прямоугольник внутреннего двора. Лев напоминал об Африке и тем располагал к себе, но его улыбка была обманчивой: комната, которая Чюрленису понравилась дешевизной и, может быть, поэтому выглядела светлой, на деле оказалась сумрачной, грязноватой, а хозяева людьми не очень симпатичными, и он подумывал съехать, но так и застрял здесь – в доме 51, в квартире 102.
Квартиру эту трудно теперь сыскать: из-за того что номера помещений теперь иные, и из-за внутренних перестроек и ремонтов. А ремонтировать тут было что: во время блокады в близкий угловой дом угодила крупная бомба… Через дорогу напротив был рынок. Сейчас там стоит новое большое здание.
– Осенью 1908 года, – вспоминал Мстислав Добужинский, – перед приездом Чюрлениса в Петербург я получил из Вильнюса известие, что там появился художник, изображающий красками музыкальные темы. «Чудак», «декадент» и другие подобные эпитеты, которые я услышал от людей, знавших эти картины и дилетантски судивших о них, заставили меня еще больше заинтересоваться этим, видимо, необычным художником, который к тому же, как я выяснил, был и композитором. В особенности заинтриговало меня то, что он, как говорили, изображал какую-то фантастическую Литву. Несмотря на то, что я жил тогда в Петербурге, я каждый год приезжал в Вильнюс и знал о зарождавшемся движении литовской интеллигенции. Тем не менее «лик» Литвы оставался для меня загадочным и поэтичным, скрытым в тумане, и в появлении Чюрлениса я надеялся увидеть какой-то просвет.
…Я и те, кто уже слышал об удивительном художнике, с нетерпением стали ждать этого знакомства.
– Это очень молодой «джентльмен» с прекрасной внешностью и чудесный человек, – пишет Чюрленис невесте о своей первой встрече с Добужинским. – Говорит он немного, но «с толком и расстановкой». Он посоветовал мне обосноваться и осмотреться в Питере. По его словам, здесь в среде художников много разных обществ и кружков. Мне нужно выбрать себе что-нибудь по вкусу. Существует общество и у композиторов. Каждые две недели для подлинных ценителей музыки оно устраивает вечера, на которых исполняются произведения неизвестных, но талантливых композиторов и делаются другие подобного рода штучки. Я ушел от Добужинского совершенно заласканным…
Вскоре Добужинский побывал у нового знакомого дома:
– Здесь я впервые познакомился с его дивной фантазией. В этой крохотной темной комнатушке на бумаге, прикрепленной кнопками к стене, он кончал в те дни поэтичнейшую «Сонату Моря»…
Большего контраста нельзя было себе представить: убогая комнатушка, плач детей за стеной, запах кухни из коридора – и ничем не стесненная, вольная жизнь грандиозной стихии здесь, на стене, где светило, переливалось и будто гремело шествие волн! В этом соседстве прекрасных картин, величия духа, создавшего их, с серой тяжестью окружения было странное несоответствие, больше того – заключалась несправедливость, от которой делалось горько и на душе начинало щемить.
Добужинский сбоку посмотрел на Чюрлениса. Тот внимательно вглядывался в одну из картин. Конечно, он ждал, когда гость заговорит, но в эту минуту был поглощен своими мыслями и, казалось, готов был что-то добавить или поправить в незаконченной вещи.
Три картины мерцали жемчужными, янтарными отражениями невидимого солнца, ярким светом ночных огней, прозеленью морской глубины. Первая завораживала прежде всего своим колоритом: массы воды, берег с деревьями вдали, узкая полоска неба – все подчинялось игре световых отблесков на бесчисленных вскипающих пузырьках – воздуха ли, янтаря ли, жемчужин. Они, эти светящиеся изнутри горошины, то составляли пенистую гряду, то загорались на срезе волны, то выбрасывались на берег, и плели нити кружева, и, танцуя, вели хоровод. Белая тень пролетающей чайки и темная ее тень на воде, скольжение слабо очерченных рыб, поверхность и глубина, берег, вода и темное дно – все здесь выглядело только знаком, только вехой, неясной для взгляда и для сознания, чтобы увидеть, чтобы постигнуть: да, это море, что плещет, дышит, забавничает и грозит неустанно!..
Вторая – «Анданте», как автор ее назвал, увлекала в глубины. Но сперва заставляла останавливать взгляд на двух ярких светильниках на поверхности ровной, недвижной полночной воды. Светильники или лодки? Художник не захотел, чтоб они выглядели яснее, важно ему другое: повести от светильников взгляд вслед за линиями пузырьков – ближе к зрителю и вперед, по глади воды, к низу картины, – и тут вдруг оказывается, что уже опустился на дно, к морским звездам, растениям, парусникам и огням таинственной подводной жизни, текущей внутри укрытых толщей вод причудливых строений. И на бережной, мягкой ладони, такой спокойной, такой большой, как ладонь самого океана, покоится парусник – детски простой, будто вырезанный из сосновой коры…
Перед третьей – «Финалом» – можно было стоять онемело. Долго-долго стоять, чтоб начать понемногу задумываться над ударяющей сразу по всем содрогнувшимся чувствам картиной!.. Ужас, восторг, удивление – да, это море, – но не плещет оно, не забавничает, а обрушивает, как с небес, исполинскую силу волны, и ее изумрудно-зеленый срез – это разверзшаяся пасть, что замкнется в мгновение, это и горсть, пенные пальцы которой сгребут, уничтожат четыре попавших в лапы стихии кораблика! Пляшут, пляшут пока что кораблики и, быть может, спасутся? А над ними – на срезе гигантской волны – проявляются дивные буквы:
МКС
Микалоюс… Константинас… Чюрленис..;
Вскинута многопалая лапа волны. Мгновенье – угаснут они навсегда, эти буквы. А быть может, спасутся? И на новой, такой же огромной волне вновь зажгутся упрямо?..
Добужинский, человек сдержанный, с точными красивыми движениями, был заметно взволнован и то и дело быстрыми шагами переходил от одной картины к другой, рассматривал, близко наклоняясь к листам, чтобы разобраться в технике, и тогда тонкая прядь прямых волос падала на его высокий лоб, потом отходил, охватывая всю картину одним взглядом.
– Главное, что совсем оригинально, черт знает, все из себя, – бормотал он.
Чюрленис молчал и чуть улыбался. Начали говорить, Добужинский еще и еще раз возвращался к картинам, ему нравился у Чюрлениса цвет, хвалил он композицию, говорил, что прорисовка линий карандашом поверх краски – идея хорошая.
Мстислав Добужинский оказался первым из крупных художников, безоговорочно признавших Чюрлениса. Искренне восторгаясь его искусством, он принял Чюрлениса как равный равного, и это одно имело немаловажное значение. Главное же, Добужинский немедленно рассказал о литовском художнике своим друзьям из круга А. Бенуа – тем великолепным мастерам живописи начала прошлого века, чьими именами русское искусство заслуженно гордится.
Кружок, сложившийся вокруг прекрасного художника, историка и теоретика живописи, одного из образованнейших людей России того времени, Александра Бенуа, был известен уже лет десять. Кружок этот сперва состоял из десятка друзей, собиравшихся в доме родителей Бенуа – профессиональных людей искусства – для совместного чтения и обсуждения лекций и книг о живописи, литературе, истории, для слушания музыки. Позже участниками кружка овладела мысль о просветительской деятельности, о пропаганде культуры в русском обществе, и они стали с этой целью выпускать журнал «Мир искусства». Так и утвердилось в истории русской культуры слово «мир-искусстники», которое означает группу художников, принимавших участие в журнале и выставках под этим названием.
Объединение это пережило разные периоды. В начале своего существования оно включало, например, и таких мастеров, как В. Серов, М. Врубель, И. Левитан, М. Нестеров, К. Коровин, Н. Рерих. Все они – слава и гордость отечественной живописи.
Журнал «Мир искусства» просуществовал около шести лет, прекратились и выставки, большинство участников группы стали членами «Союза русских художников», но кружок друзей продолжал жить. Тесно связанными друг с другом оставались все те же художники, с кого все и начиналось: А. Бенуа, К. Сомов, М. Добужинский, Е. Лансере, А. Остроумова-Лебедева. Кружок этот, объединенный общими взглядами на задачи искусства, продолжал оказывать воздействие на культуру России: художники много работали и в живописи, и в книжной графике, и в театре, выступали, особенно А. Бенуа, с критическими статьями в печати. Потом им удалось восстановить и свой журнал под прежним названием.
Рассказ о творчестве этих художников, об их взглядах на искусство выходит за рамки нашего повествования. Важно подчеркнуть только, что очень многое в живописи Чюрлениса оказалось им близко по духу, и они восторженно приняли его.
Вот как говорит об этом, продолжая свои воспоминания, Добужинский, который больше других знал о петербургском периоде жизни Чюрлениса:
– О картинах Чюрлениса я рассказал своим друзьям. Они очень заинтересовались творчеством художника, и вскоре А. Бенуа, Сомов, Лансере, Бакст и Сергей Маковский (редактор журнала «Аполлон») пришли посмотреть все то, что привез с собой Чюрленис. Сам он на эту встречу не пришел – ему было не по себе говорить о своих полотнах с такими известными художниками, и мы условились, что картины покажу я сам. Маковский в то время собирался организовать большую выставку. Картины Чюрлениса произвели на нас всех столь сильное впечатление, что было немедленно решено пригласить его участвовать в этой выставке. Первое, что поразило нас в полотнах Чюрлениса, – это их оригинальность и необычность. Они не были похожи ни на какие другие картины, и природа его творчества казалась нам глубокой и скрытой…
Было очевидно, что искусство Чюрлениса наполнено литовскими народными мотивами. Но его фантазия, все то, что скрывалось за его музыкальными «программами», умение заглянуть в бесконечность пространства, в глубь веков делали Чюрлениса художником чрезвычайно широким и глубоким, далеко шагнувшим за узкий круг национального искусства.
В творчестве Чюрлениса нас особенно радовали его редкая искренность, настоящая мечта, глубокое духовное содержание. Если в некоторых полотнах Чюрленис был совсем не «мастером», иногда даже бессильным в вопросах техники, то в наших глазах это не было недостатком. Даже наоборот, пастели и темперы, выполненные легкой рукой музыканта, иногда нарисованные по-детски наивно, без всяких «рецептов» и манерности, а иногда возникшие как будто сами по себе, своей грациозностью и легкостью, удивительными цветовыми группами и композицией казались нам какими-то незнакомыми драгоценностями.
Естественно, что мои друзья, увидев замечательные картины Чюрлениса, захотели познакомиться и с ним самим. Хотя Чюрленис избегал общества, мне удалось уговорить его пойти к Александру Бенуа. У Бенуа по определенным дням, кроме близких друзей, собирались и многие передовые художники Петербурга. В такой компании Чюрленис, конечно, почувствовал бы себя неловко, но милая сердечность хозяев, предупредительно освободивших художника от назойливых вопросов и предоставивших ему место в тихом углу, позволила Чюрленису спокойно рассматривать массу гравюр и рисунков и прислушиваться к иногда очень интересным спорам.
После этого первого посещения Бенуа Чюрленис был там еще один или два раза. У меня, как я уже вспоминал, он бывал очень часто. В нашей семье Чюрленис, видимо, чувствовал себя хорошо и уютно, играл с детьми, сажал их на колени, радовался их лепету, а младшую дочь называл ангелочком. Помню, с каким вниманием рассматривал он их действительно интересные рисунки, которые я аккуратно собирал. При этом он все время повторял свое любимое выражение: «Необыкновенно».
Вообще, вспоминаю его постоянно что-то рассматривающим, читающим. У меня была большая библиотека и много гравюр.
О своих работах он говорил неохотно и очень не любил, когда его просили объяснить их содержание. Он сам мне как-то рассказывал, что на вопрос, почему в картине «Сказка королей» на ветках дуба нарисованы маленькие города, он ответил: «А потому, что мне так хотелось».
Как сейчас вижу его лицо: необыкновенно голубые трагические глаза с напряженным взглядом, непослушные волосы, которые он постоянно поправлял, небольшие редкие усы, хорошую несмелую улыбку. Здороваясь, он приветливо смотрел в глаза и крепко пожимал руку, немножко оттягивая ее вниз. Он часто что-то напевал, помнится, однажды, уходя, он стал напевать «Эгмонта» и при этом улыбался своим мыслям. К нам его привлекало еще и то, что здесь он мог играть на замечательном новом «Беккере». Когда Чюрленис окончательно свыкся с нашей обстановкой, он целыми часами просиживал у рояля, часто импровизируя, и приходил играть даже тогда, когда нас не было дома. Он много играл с моей женой в четыре руки, чаще всего симфонии Бетховена (особенно 5-ю), «Эгмонта» и 6-ю симфонию Чайковского, которую очень любил. Играл он нам и свою симфоническую поэму «Море». Меня всегда удивляло, как тихий, робкий Чюрленис у рояля становился совсем другим, играл с необыкновенной силой, так, что рояль под его руками ходуном ходил…
Между тем настроение Чюрлениса переменчиво, и радужные мечты о будущем рядом с Софией, радость от успеха в художественных кругах сменяются тоской и тревогой, чтобы, в свою очередь, уступить место мыслям о своих картинах и о музыке.
«Но пока нет ничего верного, ничего, чем бы я мог обрадовать тебя… – пишет он Софии, – такую одинокую там, как и я здесь, в этой двухмиллионной каше».
«До сих пор безрезультатно ищу уроки или что-либо подобное… Я здесь один… и мне очень тоскливо».
«„Юрате“ каждый раз все больше мне нравится, и сегодня уже слышал немного музыки к ней».
«Только что вернулся с литовского „культурного“ (?) вечера, на котором играл свои композиции. Публика, разумеется, надеялась на многое, но оказалась полностью разочарована. Просили меня о чем-нибудь повеселей – чуть ли не просили оставить лучше в покое».
«Вчера около пяти часов работал над „Юрате“, знаешь где? На Серпуховской в Литовском зале. Купил себе свечку (был отвратительный серый день) и, запершись в огромной комнате один на один с Юрате, погрузился в морские пучины, и мы бродили там вокруг янтарного дворца и беседовали».
«Если бы ты знала, как я счастлив и горд! И знаешь отчего? Все благодаря моей Жене – имя ей Зося, а похожа она на весну, на море, на солнце. Милое мое дитя, я не могу собраться с мыслями – светящийся хаос, Юрате, ты, музыка, тысяча солнц, твои ласки, море, хоры – все сплетается в одну симфонию».
Так он беседовал в письмах со своей невестой, ожидая встречи с ней… И вот, уже к концу года, он возвращается в Литву.
Наступают рождественские праздники, такие веселые, радостные всегда, а особенно – в этом году, когда все готово к предстоящему событию – его свадьбе. Мать Чюрлениса, у которой были уже внуки и внучки, дождалась, наконец, и женитьбы своего первенца. Он встал перед ней на колени и попросил благословения. Обнял отца, попрощался с братьями и сестрами, и всем было грустно: каждый чувствовал, что это расставание с родным домом, расставание с семьей, привязанность к которой никогда его не покидала. Теперь же будет новая семья у него и будут надежды на новую жизнь.
В первый день 1909 года Софья и Константинас венчались.
«Братец мой, знаешь, как хорошо у нас дома, – писал Чюрленис брату на чужбину за несколько месяцев до свадьбы, – какая-то дивная гармония, которую ничто не в силах нарушить, все существует как великолепное сочетание красок, как звучание прекрасного аккорда».
Но прекрасный аккорд длился совсем недолго…
Чюрленис вместе с Софией возвращается в Петербург: его приглашают принять участие в художественных выставках, в одной, потом во второй, на двух концертах исполняются его фортепианные произведения, и ему кажется, что впереди видны перспективы на лучшие условия жизни, чем до сих пор. Как и прежде, он и сейчас надеется, что не служба, не преподавание, а его труд художника и труд музыканта – композитора, пианиста, органиста и дирижера – даст возможность его семье существовать. Однако этого не происходит, несмотря на то, что появление на выставке картин Чюрлениса сразу же приносит ему известность. Публика, художники, критики спорят, обсуждают, высказывают мнения прямо противоположные, одни Чюрлениса безоговорочно принимают, другие столь же решительно отвергают: его искусство никого не оставляет равнодушным.
Художник Николай Рерих писал об этом так: «Он принес новое, одухотворенное, истинное творчество. Разве этого недостаточно, чтобы дикари, поносители и умалители не возмутились. В их запыленный обиход пытается войти нечто новое – разве не нужно принять самые зверские меры к ограждению их условного благополучия?.. Такого самородка следовало поддержать всеми силами. А между тем происходило как раз обратное».
Художница А. П. Остроумова-Лебедева вспоминала о впечатлении от выставленных картин Чюрлениса: «Мне они казались музыкой, прикрепленной красками и лаками к холсту. Их сила и гармония покоряли».
Александр Бенуа, к словам которого прислушивалась тогда вся художественная интеллигенция России, писал в одной из крупнейших петербургских газет: «Я как-то сразу поверил ему, и если люди осторожные (а их только теперь и встречаешь) мне скажут, что я „рискую“, то я отвечу им: меня вопрос о риске совсем не интересует, да он и по существу не интересен. Важно быть тронутым и быть благодарным тому, кто тронул. Весь смысл искусства в этом».
– В 1909 году я приехал в Петербург, – беседуя о Чюрленисе с автором этих строк, рассказывал искусствовед профессор А. А. Сидоров. – Максимилиан Волошин – художник и поэт, с которым я, восемнадцатилетний юноша, сблизился как со старшим, пригласил меня на выставку «Мира искусства», или «Салона» Маковского, как еще называли эти выставки. Картины Чюрлениса меня поразили. Взволнованный, я стал спрашивать, нет ли здесь самого художника. «Вот он», – ответили мне. Я увидел поблизости молчаливого человека, одинокого, пристально смотрящего на свои работы в глубоком, спокойном раздумье. Конечно, подойти к нему я не решился… Помню, как прекрасный художник Петров-Водкин стоял перед его картинами и говорил: «У, меня – сон, у него – сновидение», – имея в виду свою картину «Сон». А вот Волошин отнесся к творчеству Чюрлениса резко отрицательно. На обсуждении «Салона» Волошин назвал Чюрлениса «дилетантом» и добавил: «А как известно, бог дилетантов не любит!» На это Александр Бенуа, улыбнувшись, с мирным юмором ответил: «Наверно, потому, что бог сам дилетант…»








