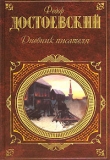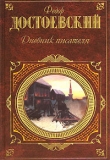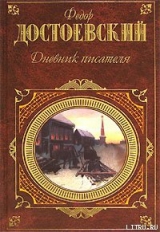
Текст книги "Дневник писателя"
Автор книги: Федор Достоевский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 50 страниц)
Сбивчивость и неточность спорных пунктов
Нам прямо объявляют, что у народа нет вовсе никакой правды, а правда лишь в культуре и сохраняется верхним слоем культурных людей. Чтоб быть добросовестным вполне, я эту дорогую европейскую нашу культуру приму в самом высшем ее смысле, а не в смысле лишь карет и лакеев, именно в том смысле, что мы, сравнительно с народом, развились духовно и нравственно, очеловечились, огуманились и что тем самым, к чести нашей, совсем уже отличаемся от народа. Сделав такое беспристрастное заявление, я уже прямо поставлю перед собой вопрос: «Точно ли мы так хороши собой и так безошибочно окультурены, что народную культуру побоку, а нашей поклон? И, наконец, что именно мы принесли с собой из Европы народу?»
Но прежде, чем отвечать на такой вопрос, для порядку устраним всякую речь, например, о науке, промышленности и проч., чем Европа справедливо может гордиться перед нашим отечеством. Такое устранение будет совершенно правильным, ибо вовсе не об том идет теперь дело; тем более, что и наука-то эта там в Европе, а мы-то сами, то есть верхние слои культурных людей в России, еще не очень блистаем наукой, несмотря на двухсотлетнюю школу, и что поклоняться нам, культурному слою, за науку во всяком случае еще рано. Так что наука вовсе не составляет какого-нибудь существенного и непримиримого различия между обоими классами русских людей, то есть между простонародьем и верхним культурным слоем, и выставлять науку как главное существенное различие наше от народа, повторяю, совсем неверно и было бы ошибкою, а различие надо искать совсем в другом. К тому же наука есть дело всеобщее, и не один какой-нибудь народ в Европе изобрел ее, а все народы, начиная с древнего мира, и это дело преемственное. С своей стороны русский народ никогда и не был врагом науки, мало того, она уже проникала к нам еще и до Петра. Царь Иван Васильевич употреблял все усилия, чтоб завоевать Балтийское прибрежье, лет сто тридцать раньше Петра. Если б завоевал его и завладел его гаванями и портами, то неминуемо стал бы строить свои корабли, как и Петр, а так как без науки их нельзя строить, то явилась бы неминуемо наука из Европы, как и при Петре. Наши Потугины бесчестят народ наш насмешками, что русские изобрели один самовар, но вряд ли европейцы примкнут к хору Потугиных. Слишком ясно и понятно, что все делается по известным законам природы и истории и что не скудоумие, не низость способностей русского народа и не позорная лень причиною того, что мы так мало произвели в науке и в промышленности. Такое-то дерево вырастает в столько-то лет, а другое вдвое позже его. Тут все зависит от того, как был поставлен народ природой, обстоятельствами и что ему прежде всего надо было сделать. Тут причины географические, этнографические, политические, тысячи причин, и всё ясных и точных. Никто из здравых умом не станет укорять и стыдить тринадцатилетнего за то, что ему не двадцать пять лет. «Европа, дескать, деятельнее и остроумнее пассивных русских, оттого и изобрела науку, а они нет». Но пассивные русские, в то время как там изобретали науку, проявляли не менее изумляющую деятельность: они создавали царство и сознательно создали его единство. Они отбивались всю тысячу лет от жестоких врагов, которые без них низринулись бы и на Европу. Русские колонизировали дальнейшие края своей бесконечной родины, русские отстаивали и укрепляли за собою свои окраины, да так укрепляли, как теперь мы, культурные люди, и не укрепим, а, напротив, пожалуй, еще их расшатаем. К концу концов, после тысячи лет – у нас явилось царство и политическое единство беспримерное еще в мире, до того, что Англия и Соединенные Штаты, единственные теперь оставшиеся два государства, в которых политическое единство крепко и своеобразно, может быть, в этом нам далеко уступят. Ну, а взамен того в Европе, при других обстоятельствах политических и географических, возросла наука. Но зато, вместе с ростом и укреплением ее, расшаталось нравственное и политическое состояние Европы почти повсеместно. Стало быть, у всякого свое, и еще неизвестно, кому придется завидовать. Мы-то науку во всяком случае приобретем, ну а неизвестно еще, что станется с политическим единством Европы? Может быть, немцы, всего еще лет пятнадцать тому назад, согласились бы променять половину своей научной славы на такую силу политического единства, которая была у нас уже очень давно. И немцы теперь достигли крепкого политического единства, по крайней мере по своим понятиям, но тогда у них еще не было Германской империи, и, уж конечно, они нам завидовали про себя, несмотря на все их презрение к нам. Итак, не об науке и не о промышленности надо поставить вопрос, а собственно о том, чем мы, культурные люди, возвратясь из Европы, стали нравственно, существенно выше народа и какую такую недосягаемую драгоценность принесли мы ему в форме нашей европейской культуры? Почему мы люди чистые, а народ все еще человек черный, почему мы всё, а народ ничего? Я утверждаю, что в этом между нами, культурными людьми, чрезвычайная неясность и что мало кто из «культурных» на это ответит правильно. Напротив, тут – кто в лес, кто по дрова, а насмешки над тем, зачем сосна не выросла в семь лет, а требует всемеро больше для росту лет, – еще до того обыденны и обыкновенны, что не редкость их услышать даже и не от одних Потугиных, а и от людей гораздо повыше их по развитию. О г-не Авсеенко уж и не упоминаю. А затем прямо обращаюсь к вопросу, поставленному вверху главы: точно ли мы так хороши собой и так безошибочно окультурены, что народную культуру побоку, а нашей поклон? И если мы и несем что с собой, то что именно? На это прямо отвечу, что мы гораздо хуже народа, и почти во всех отношениях.
Нам говорят, что в народе чуть деятель, то тотчас кулак и мошенник. (Это не один г-н Авсеенко утверждает, да и вообще г-н Авсеенко никогда и ничего не скажет нового.) Во-первых, это неправда, а во-вторых, разве между культурными Русскими не такие же кулаки и мошенники поминутно? Да чуть ли не больше еще, и это тем стыднее, потому что они окультурены, а народ нет. Но главное в том, что вовсе нельзя сказать про народ, что чуть в нем объявится деятель, то в большинстве выйдет кулак и мошенник. Не знаю, где выросли утверждающие это, я же с детства и во всю жизнь мою видел совсем другое. Мне было всего еще девять лет от роду, как, помню, однажды, на третий день светлого праздника, вечером, часу в шестом, все наше семейство, отец и мать, братья и сестры, сидели за круглым столом, за семейным чаем, а разговор шел как раз о деревне и как мы все отправимся туда на лето. Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев, сейчас только из деревни прибывший. В отсутствие господ ему даже поручалось управление деревней, и вот вдруг вместо «управляющего», всегда одетого в немецкий сюртук и имевшего солидный вид, явился человек в старом зипунишке и в лаптях. Из деревни пришел пешком, а войдя, стал в комнате, не говоря ни слова.
– Что это? – крикнул отец в испуге. – Посмотрите, что это?
– Вотчина сгорела-с! – пробасил Григорий Васильев.
Описывать не стану, что за тем последовало; отец и мать были люди небогатые и трудящиеся – и вот такой подарок к светлому дню! Оказалось, что все сгорело, все дотла: и избы, и амбар, и скотный двор, и даже яровые семена, часть скота и один мужик, Архип. С первого страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колена и стали молиться, мать плакала. И вот вдруг подходит к ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то есть, из московских мещанок. Всех она нас, детей, взрастила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки! Жалованья она не брала у нас уже много лет: «Не надо мне», и накопилось ее жалованья рублей пятьсот, и лежали они в ломбарде, – «на старость пригодится» – и вот она вдруг шепчет маме:
– Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо…
Денег у ней не взяли, обошлись и без того. Но вот вопрос: к какому типу принадлежала эта скромная женщина, давно уже теперь умершая, и умершая в богадельне, где ей очень ее деньги понадобились. Ведь, я думаю, таких нельзя сопричислить к кулакам и мошенникам, а если нельзя, то как определить ее поступок: явилась ли она с ним лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни», – или проявила что-нибудь поэнергичнее пассивности? Очень любопытно бы послушать, как разрешил бы это г-н Авсеенко. Мне с презрением ответят, что это единичный случай; но я и один успел вот заметить в жизни моей таких случаев многие сотни в нашем простонародье, а между тем я твердо знаю, что есть и другие наблюдатели, тоже умеющие смотреть на народ без плевка. Не помните ли вы, как в «Семейной хронике» Аксакова мать умолила в слезах мужиков перевести ее через широкую Волгу в Казань, к больному ребенку, по тонкому льду, весною, когда уже несколько дней никто не решался ступить на лед, изломавшийся и прошедший всего только несколько часов спустя по переходе. Помните ли вы прелестное описание этого перехода, и как потом, когда перешли, мужики и денег брать не хотели, понимая, что сделали всё из-за слез матери и для Христа бога нашего. Происходило же это в самое темное время крепостного права! Что же, все это единичные факты? А если и похвальные, – то лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни»? Да так ли? единичные ли, случайные ли это только факты? Деятельный риск собственною жизнию из сострадания к горю матери – можно ли считать лишь пассивностью? Не из правды ли, напротив, народной, не из милосердия ли и всепрощения и широкости взгляда народного произошло это, да еще в самое варварское время крепостного права? Да народ и веры не знает, скажете вы, он и молитвы не умеет прочесть, он поклоняется доске и лепечет какой-то вздор про святую пятницу и про Фрола и Лавра.[129]129
Фрол и Лавр (II в.) – святые православной церкви.
[Закрыть] На это отвечу вам, что вот эти-то мысли и явились у нас из продолжающегося презрения вашего к русскому народу и упорно сохраняющемуся в русском культурном типе. Мы о вере народа и о православии его имеем всего десятка два либеральных и блудных анекдотов и услаждаемся глумительными рассказами о том, как поп исповедует старуху или как мужик молится пятнице. Если б г-н Авсеенко действительно понимал то, что он написал о вере народной, спасшей Россию, а не выписал бы у славянофилов, то не оскорбил бы народа тут же сейчас, обозвав его чуть не сплошь «кулаком и мироедом». Но в том и дело, что эти люди ровно ничего не понимают в православии, а потому ровно ничего не поймут никогда и в народе нашем. Знает же народ Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе. Знает, – потому что во много веков перенес много страданий и в горе своем всегда, с начала и до наших дней слыхивал об этом Боге-Христе своем от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится. Поверьте, что в этом смысле даже самые темные слои народа нашего образованны гораздо больше, чем вы в культурном вашем неведении об них предполагаете, а может быть, даже образованнее и вас самих, хоть вы и учились катехизису.
Парадоксалист
Кстати, насчет войны и военных слухов. У меня есть один знакомый парадоксалист. Я его давно знаю. Это человек совершенно никому не известный и характер странный: он мечтатель. Об нем я непременно поговорю подробнее. Но теперь мне припомнилось, как однажды, впрочем уже несколько лет тому, он раз заспорил со мной о войне. Он защищал войну вообще и, может быть, единственно из игры в парадоксы. Замечу, что он «статский» и самый мирный и незлобивый человек, какой только может быть на свете и у нас в Петербурге.
– Дикая мысль, – говорил он, между прочим, – что война есть бич для человечества. Напротив, самая полезная вещь. Один только вид войны ненавистен и действительно пагубен: это война междоусобная, братоубийственная. Она мертвит и разлагает государство, продолжается всегда слишком долго и озверяет народ на целые столетия. Но политическая, международная война приносит лишь одну пользу, во всех отношениях, а потому совершенно необходима.
– Помилуйте, народ идет на народ, люди идут убивать друг друга, что тут необходимого?
– Всё и в высшей степени. Но, во-первых, ложь, что люди идут убивать друг друга: никогда этого не бывает на первом плане, а, напротив, идут жертвовать собственною жизнью – вот что должно стоять на первом плане. Это же совсем другое. Нет выше идеи, как пожертвовать собственною жизнию, отстаивая своих братьев и свое отечество или даже просто отстаивая интересы своего отечества. Без великодушных идей человечество жить не может, и я даже подозреваю, что человечество именно потому и любит войну, чтоб участвовать в великодушной идее. Тут потребность.
– Да разве человечество любит войну?
– А как же? Кто унывает во время войны? Напротив, все тотчас же ободряются, у всех поднят дух, и не слышно об обыкновенной апатии или скуке, как в мирное время. А потом, когда война кончится, как любят вспоминать о ней, даже в случае поражения! И не верьте, когда в войну все, встречаясь, говорят друг другу, качая головами: «Вот несчастье, вот дожили!» Это лишь одно приличие. Напротив, у всякого праздник в душе. Знаете, ужасно трудно признаваться в иных идеях: скажут, – зверь, ретроград, осудят; этого боятся. Хвалить войну никто не решится.
– Но вы говорите о великодушных идеях, об очеловечении. Разве не найдется великодушных идей без войны? Напротив, во время мира им еще удобнее развиться.
– Совершенно напротив, совершенно обратно. Великодушие гибнет в периоды долгого мира, а вместо него являются цинизм, равнодушие, скука и много-много что злобная насмешка, да и то почти для праздной забавы, а не для дела. Положительно можно сказать, что долгий мир ожесточает людей. В долгий мир социальный перевес всегда переходит на сторону всего, что есть дурного и грубого в человечестве, – главное к богатству и капиталу. Честь, человеколюбие, самопожертвование еще уважаются, еще ценятся, стоят высоко сейчас после войны, но чем дольше продолжается мир – все эти прекрасные великодушные вещи бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство, стяжание захватывают всё. Остается под конец лишь одно лицемерие – лицемерие чести, самопожертвования, долга, так что, пожалуй, их еще и будут продолжать уважать, несмотря на весь цинизм, но только лишь на красных словах для формы. Настоящей чести не будет, а останутся формулы. Формулы чести – это смерть чести. Долгий мир производит апатию, низменность мысли, разврат, притупляет чувства. Наслаждения не утончаются, а грубеют. Грубое богатство не может наслаждаться великодушием, а требует наслаждений более скоромных, более близких к делу, то есть к прямейшему удовлетворению плоти. Наслаждения становятся плотоядными. Сластолюбие вызывает сладострастие, а сладострастие всегда жестокость. Вы никак не можете всего этого отрицать, потому что нельзя отрицать главного факта: что социальный перевес во время долгого мира всегда под конец переходит к грубому богатству.
– Но наука, искусства – разве в продолжение войны они могут развиваться; а это великие и великодушные идеи.
– Тут-то я вас и ловлю. Наука и искусства именно развиваются всегда в первый период после войны. Война их обновляет, освежает, вызывает, крепит мысли и дает толчок. Напротив, в долгий мир и наука глохнет. Без сомнения, занятие наукой требует великодушия, даже самоотвержения. Но многие ли из ученых устоят перед язвой мира? Ложная честь, самолюбие, сластолюбие захватят и их. Справьтесь, например, с такою страстью, как зависть: она груба и пошла, но она проникнет и в самую благородную душу ученого. Захочется и ему участвовать во всеобщей пышности, в блеске. Что значит перед торжеством богатства торжество какого-нибудь научного открытия, если только оно не будет так эффектно, как, например, открытие планеты Нептун. Много ли останется истинных тружеников, как вы думаете? Напротив, захочется славы, вот и явится в науке шарлатанство, гоньба за эффектом, а пуще всего утилитаризм, потому что захочется и богатства. В искусстве то же самое: такая же погоня за эффектом, за какою-нибудь утонченностью. Простые, ясные, великодушные и здоровые идеи будут уже не в моде: понадобится что-нибудь гораздо поскоромнее; понадобится искусственность страстей. Мало-помалу утратится чувство меры и гармонии; явятся искривления чувств и страстей, так называемые утонченности чувства, которые в сущности только их огрубелость. Вот этому-то всему подчиняется всегда искусство в конце долгого мира. Если б не было на свете войны, искусство бы заглохло окончательно. Все лучшие идеи искусства даны войной, борьбой. Подите в трагедию, смотрите на статуи: вот Гораций Корнеля,[130]130
…Гораций Корнеля… – герой трагедии французского драматурга Пьера Корнеля «Гораций» (1640).
[Закрыть] вот Аполлон Бельведерский,[131]131
Аполлон Бельведерский – хранящаяся в Ватикане римская копия древнегреческой скульптуры Аполлона, сына Зевса, бога-целителя и прорицателя, покровителя искусств.
[Закрыть] поражающий чудовище…
– А Мадонны, а христианство?
– Христианство само признает факт войны и пророчествует, что меч не прейдет до кончины мира: это очень замечательно и поражает. О, без сомнения, в высшем, в нравственном смысле оно отвергает войны и требует братолюбия. Я сам первый возрадуюсь, когда раскуют мечи на орала. Но вопрос: когда это может случиться? И стоит ли расковывать теперь мечи на орала? Теперешний мир всегда и везде хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится под конец его поддерживать: нечего ценить, совсем нечего сохранять, совестно и пошло сохранять. Богатство, грубость наслаждений порождают лень, а лень порождает рабов. Чтоб удержать рабов в рабском состоянии, надо отнять от них свободную волю и возможность просвещения. Ведь вы же не можете не нуждаться в рабе, кто бы вы ни были, даже если вы самый гуманнейший человек? Замечу еще, что в период мира укореняется трусливость и бесчестность. Человек по природе своей страшно наклонен к трусливости и бесстыдству и отлично про себя это знает; вот почему, может быть, он так и жаждет войны, и так любит войну: он чувствует в ней лекарство. Война развивает братолюбие и соединяет народы.
– Как соединяет народы?
– Заставляя их взаимно уважать друг друга. Война освежает людей. Человеколюбие всего более развивается лишь на поле битвы. Это даже странный факт, что война менее обозляет, чем мир. В самом деле, какая-нибудь политическая обида в мирное время, какой-нибудь нахальный договор, политическое давление, высокомерный запрос – вроде как делала нам Европа в 63-м году – гораздо боле обозляют, чем откровенный бой. Вспомните, ненавидели ли мы французов и англичан во время Крымской кампании?[132]132
Крымская кампания – Крымская война 1853–1856 гг.
[Закрыть] Напротив, как будто ближе сошлись с ними, как будто породнились даже. Мы интересовались их мнением об нашей храбрости, ласкали их пленных; наши солдаты и офицеры выходили на аванпосты во время перемирий и чуть не обнимались с врагами, даже пили водку вместе. Россия читала про это с наслаждением в газетах, что не мешало, однако же, великолепно драться. Развивался рыцарский дух. А про материальные бедствия войны я и говорить не стану: кто не знает закона, по которому после войны все как бы воскресает силами. Экономические силы страны возбуждаются в десять раз, как будто грозовая туча пролилась обильным дождем над иссохшею почвой. Пострадавшим от войны сейчас же и все помогают, тогда как во время мира целые области могут вымирать с голоду, прежде чем мы почешемся или дадим три целковых.
– Но разве народ не страдает в войну больше всех, не несет разорения и тягостей, неминуемых и несравненно больших, чем высшие слои общества?
– Может быть, но временно; а зато выигрывает гораздо больше, чем теряет. Именно для народа война оставляет самые лучшие и высшие последствия. Как хотите, будьте самым гуманным человеком, но вы все-таки считаете себя выше простолюдина. Кто меряет в наше время душу на душу, христианской меркой? Меряют карманом, властью, силой, – и простолюдин это отлично знает всей своей массой. Тут не то что зависть, – тут является какое-то невыносимое чувство нравственного неравенства, слишком язвительного для простонародия. Как ни освобождайте и какие ни пишите законы, неравенство людей не уничтожится в теперешнем обществе. Единственное лекарство – война. Пальятивное,[133]133
Пальятивное (франц. palliatif от позднелат. pallio – прикрываю, защищаю) – прилагательное образовано от слова паллиатив: мера, не обеспечивающая полного, коренного решения поставленной задачи, полумера.
[Закрыть] моментальное, но отрадное для народа. Война поднимает дух народа и его сознание собственного достоинства. Война равняет всех во время боя и мирит господина и раба в самом высшем проявлении человеческого достоинства – в жертве жизнию за общее дело, за всех, за отечество. Неужели вы думаете, что масса, самая даже темная масса мужиков и нищих, не нуждается в потребности деятельного проявления великодушных чувств? А во время мира чем масса может заявить свое великодушие и человеческое достоинство? Мы и на единичные-то проявления великодушия в простонародье смотрим, едва удостоивая замечать их, иногда с улыбкою недоверчивости, иногда просто не веря, а иногда так и подозрительно. Когда же поверим героизму какой-нибудь единицы, то тотчас же наделаем шуму, как перед чем-то необыкновенным; и что же выходит: наше удивление и наши похвалы похожи на презрение. Во время войны все это исчезает само собой, и наступает полное равенство героизма. Пролитая кровь важная вещь. Взаимный подвиг великодушия порождает самую твердую связь неравенств и сословий. Помещик и мужик, сражаясь вместе в двенадцатом году, были ближе друг к другу, чем у себя в деревне, в мирной усадьбе. Война есть повод массе уважать себя, а потому народ и любит войну: он слагает про войну песни, он долго потом заслушивается легенд и рассказов о ней… пролитая кровь важная вещь! Нет, война в наше время необходима; без войны провалился бы мир или, по крайней мере, обратился бы в какую-то слизь, в какую-то подлую слякоть, зараженную гнилыми ранами…
Я, конечно, перестал спорить. С мечтателями спорить нельзя. Но есть, однако же, престранный факт: теперь начинают спорить и подымают рассуждения о таких вещах, которые, казалось бы, давным-давно решены и сданы в архив. Теперь это все выкапывается опять. Главное в том, что это повсеместно.