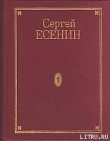Текст книги "Полное собрание стихотворений"
Автор книги: Федор Тютчев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Сам ясный день, по Тютчеву, изнутри себя темен, обременен чем-то непосильным для него, одолевающим: «Жизни некий преизбыток В знойном воздухе разлит…». Тютчевская ночь как бы разоблачает жизнь дня: что скрывалось за кулисами дня, то в ночные часы предъявляет себя человеческим взорам во всей своей бесформенности. Одно из важнейших «ночных» стихотворений Тютчева начинается строками:
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами…
Эти сны – возможности, так и оставшиеся в недрах земной жизни, силы, не вошедшие в ясное сознание людей, хотя и управляющие людьми. От этих сил люди днем хотят и умеют отделаться, ночью зрелище этих сил становится неотвязным. Ночью кругозоры жизни бесконечно раздвигаются: «…звучными волнами стихия бьет о берег свой». Ночное освещение отличается широтой и беспощадностью. Стихотворение это ни в коей мере не является похвалой хаосу и ночи – оно говорит о них как о началах, нуждающихся в обуздании и дисциплине. Все несчастье в том, что современные способы управлять этими началами вызывают в них только возмущение. Все стихотворение – парафраза монолога Просперо из «Бури» Шекспира. Этот маг и волшебник, шекспировский Фауст, знал способы подчинять стихию человеческому уму и воле. Тень Просперо, которая носится над этим стихотворением, важна для понимания его смысла.
Могущественные первостепенные начала жизни предстают перед современным человеком только ночью, – им придается, таким образом, еще и оттенок чего-то опасного, криминального, вражеского. Человек изгнал их за пределы своей дневной, сознательной практики, и они возвращаются к нему в темный час, бунтуя и угрожая. Поэзия Тютчева полна этого чувства грозного напора на современность ее собственных сил, которые попытались свести на нет или изгнать. Творимая жизнь, с которой обошлись мелкодеспотически, несоответственно природе ее, превратилась в источник бед и катастроф. Тютчев однажды называет хаос «родимым», то есть родственным человеку. Стихия жизни, способная быть другом человека, вдохновлять его, становится при дурном с нею обращении разрушительной, пагубной силой. Во множестве стихотворений Тютчев описывает страх и ужас ночи – образной, метафорической. Если человек держится норм разума, добра, общественности, если он ищет разума и в стихии, то он найдет разум в глубине ее. Если же он сам анархичен, произволен, то стихия явится к нему со своей темной стороны и не пощадит его. Несчастный Хома Брут, тупой ко всему на свете, что не было его плотским интересом, что не было его бурсацкой повседневностью, понес у Гоголя страшное наказание, жизнь обернулась к нему бессмысленным, темным, убийственным лицом Вия, духа земли, и отомстила ему сторицей за его бесчувственное к ней отношение. Близость к Вию не случайна. Гоголь вступал в пределы той же ночной темы, которая беспокоила и Тютчева. «Ночные стороны» природы и души – тематика и символика литературы первых десятилетий XIX века, как позднеромантической, так и реалистической, обратившейся к человеку эпохи капитализма, к его сознанию, к его морали. В эту литературу входили философы-шеллингисты и романтики Тик и Гофман, реалисты Гоголь, Бальзак, Мериме. Делались попытки, малоубедительные, связать Тютчева с ночной темой XVIII века, с Юнгом и другими предромантиками. На деле связи Тютчева и в этом случае резко современные, сближавшие его с самыми характерными явлениями окружавшей литературы.
Когда Тютчев пишет о цивилизации, каков ее день, то появляются многозначительные, весьма им продуманные определения. Цивилизация и день цивилизации – «золотой ковер», который свертывается, когда приходит час для иных сил. Цивилизация – «ковер златотканый», накинутый над бездной. В стихотворении «Сон на море» цивилизация – золотой мираж, арабская сказка: «сады-лавиринфы, чертоги, столпы». Буря качает ночью корабль, человеку, который спит в корабле, снится этот сон цивилизации – «грохот пучины морской». Цивилизация, как ее порой освещает Тютчев, – несерьезна, в ней слишком много искусственности, орнаментальности и слишком мало грубой, здоровой природы. Тютчев в отношении цивилизации и эллин и скиф: как эллин, он умеет ценить ее красоту; как скиф, он презирает ее неподлинность, непрочность. Цивилизация провоцирует хаос – и своей слабостью перед ним, и своими насилиями, оскорбляющими его.
С точки зрения эстетики Тютчев колеблется между прекрасным и возвышенным. Уже в XVIII веке делались строгие различия между этими категориями. Прекрасное – ласковое к человеку, прирученное им, сообразное ему. Но в прекрасном нет силы, величия и серьезности. Кто выбрал прекрасное, тому в удел переходят одни мелочи и блестки. Крупное, внушительное, обладающее властью над людьми лишено красоты и привлекательности, оно сурово, оно по-недоброму возвышенно. Эти различия в эстетике установил уже Эдмунд Берк. Уже ему была ясна постоянная коллизия в искусстве буржуазного общества: на одной стороне красота без масштаба и без существенной силы, на другой – масштаб и сила, зато враждебные красоте. Тютчев делает свой выбор мужественно. Как поэт, он будет там, где наибольшие жизненные силы, пусть они и проявляются под маской безобразия. В стихотворении «Mala aria» Тютчев недоверчиво высказывается о красоте – не есть ли она всего только легкий заслон, который ставится перед злыми явлениями жизни с целью нашего с ними примирения. Как Пушкин, как Лермонтов, как Некрасов, так и Тютчев против красоты малой, непрочной, двусмысленной. Он устремлен к большой жизни. Красота должна покорить эту жизнь, если хочет оправдать себя, – пусть сегодня здесь все безотносительно к красоте или даже противоположно ей.
В «Видении» точно говорится, в чем призвание поэзии, где находится настоящая область ее:
Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.
Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит сушу…
Лишь музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах!
В этом стихотворении все от начала до конца выдержано в духе и стиле античности. Не один лишь Атлас, не одни лишь музы, не одни лишь боги заимствованы из мира эллинского. Живая колесница мирозданья – опять-таки античный образ: греки называли колесницей созвездие Большой Медведицы. Можно заподозрить, что у стихотворения этого живые связи и с античной философией. Гераклит Эфесский называл спящих «тружениками и соучастниками космических событий», – Тютчев мог знакомиться с Гераклитом хотя бы по книге знаменитого Шлейермахера, посвященной этому философу (вышла в 1807 г.). Изречение Гераклита дает Тютчеву главенствующий мотив: в ночные часы свои человек приобщается к движению мира, к его истории, которые пригашены для дневного сознания. Тот же Гераклит учил, что природа любит скрываться – именно вечное свое движение она таит от непосвященных. В час «всемирного молчанья», по Тютчеву, обнажается эта немолчная работа всемирной жизни, человек лишается обычных своих опор – иллюзий косности, перед ним мир в своей непосильной для него истине. Последние два стиха прямо относятся к роли и к призванию поэзии: мир в его устрашающей глубине, мир в его возвышенно-динамическом содержании, он-то и предстоит музе, тревожит ее сны, как говорится здесь у Тютчева. Поэзия не боится мучительных зрелищ и потрясений, она вдохновляется истиной, какова бы та ни была. Где для одних «беспамятство», обморок, потеря сил, там для поэтов, для музы – бодрость и повод к пророчествованиям.
Тютчев, с его слухом к стихиям, которые не может сдержать в своих границах существующее общество, с его сочувствием к ним, ощущал величие революционных потрясений истории. Он мог написать такое стихотворение, как «Цицерон», со знаменитыми строками: «Счастлив, кто посетил сей мир В его минуты роковые». Счастье, по Тютчеву, в самих «минутах роковых», в том, что связанное получает разрешение, в том, что подавленное и насильственно задержанное в своем развитии выходит наконец на волю. Четверостишие «Последний катаклизм», так же как «Цицерон», очевидно написанное в революционный 1830 год, пророчит «последний час природы», пророчит его в грандиозных образах, возвещающих конец старого мироустройства.
Великие общественные взрывы недаром для Тютчева совпадали с «последним часом природы». Буржуазно-европейский порядок вещей был для него неприемлем, но Тютчев считал его заключительным и окончательным, так что после него более высокий порядок не предполагался. Поэтому метаниям и мятежам Тютчева свойствен трагизм. Он – лирический поэт с кругозором и силами художника, склонного к эпосу или трагедии. Он сам в лирике своей достигает масштабов трагедии и пафоса ее.
В предпосылках поэзии Тютчева лежат природа и хаос, с которых должны начинать строители современного общества. Поэзия Тютчева демонстрирует, что новое общество так и не вышло из состояния хаоса. Современный человек не выполнил своей миссии перед миром, он не позволил миру вместе с ним взойти к красоте, к стройности, к разуму. Поэтому у Тютчева так много стихотворений, в которых человека как бы отзывают назад, в стихию, как не справившегося с собственной ролью. Природа, по Тютчеву, ведет более честную и осмысленную жизнь до человека и без человека, чем после того, как человек появился в ней.
Бунт против цивилизации выражается в том, что она объявляется излишней. Она не возвысилась над природой – и должна исчезнуть в ней. Сознание человека эгоистично, оно только и служит личности как таковой, за что человек бывает достаточно наказан – проникающим его чувством ничтожества своего и страхом смерти. Тютчев не однажды объявлял природу совершенной по той причине, что природа не дошла до сознания. В «Успокоении» описан конец грозы, она повалила высокий дуб, а над вершинами леса, где опять все звучит и веселится, перекинулась радуга. Природа снова празднует свой прерванный праздник – над телом дуба, павшего героя, никем не оплакиваемого, не ощутившего собственной гибели. Когда Тютчев в 1865 году пишет одно из программных своих стихотворений – «Певучесть есть в морских волнах…», то и здесь гармонию природы он понимает в том же смысле. Природа не задумываясь переступает через своих индивидуумов, она осуществляет себя через частное, равнодушная к частному.
Личное сознание, которое человек носит в себе, становится для него болезнью и бесполезностью: «О нашей мысли обольщенье, Ты, человеческое я». Оценка личного существования колеблется в таких стихотворениях Тютчева, как «Листья», как «Конь морской». Листья – «легкое племя», им жить одно лето, зато у них свежесть, зато у них краса. Конь морской – волна морская, вечно меняющая свой образ, с тем чтобы уйти в море, в вечную его безбрежность. Тютчев, очевидно, ценит здесь краткость личного существования: краткое – интенсивно. Но Тютчев думает и о другом: жизнь природы циклична, листья рождаются, умирают и вновь рождаются, волна возникает, рассыпается и опять возникает, и не лучше ли оставаться в природе с ее чередованием жизни и смерти, чем купить себе личность, как это делает человек, ценою того, чтобы рождаться однажды и умирать тоже однажды и навсегда.
С этим связана тема времени – одна из коренных, настойчиво проводимых у Тютчева. Есть необозримое время природы, и есть малое время индивидуума, от сих и до сих, как это представлено косвенно в тех же «Листьях» и в «Коне морском». У Тютчева тема времени выражена классично, он ведет нас к основным мотивам новоевропейской поэзии. Время индивидуума – тема, появившаяся со всей присущей ей выразительностью уже в культуре Ренессанса и не исчезавшая с тех пор. Это тема Фауста и Дон-Жуана, в культуре Возрождения впервые сложившаяся. Средневековые коллективные формы жизни разваливались, индивидуум выступил из коллектива, и это меняло прежнее отношение к времени. Личность, утонувшая в родовом коллективе, в общине, мерила свое время тем же временем рода – бесконечным, уходящим, как это могло казаться, в космическое время. Индивидуум выделился из коллективной жизни, получив на руки то самое время, бедное, малое, которое причиталось ему как таковому. С этим связана жажда жизни, напряженность жизненная у Дон-Жуана, у Фауста. Они – герои минуты, из которой они хотят взять все – возможное и невозможное, время для них распалось. Новым способом, свойственным новой исторической индивидуальности, они хотят собрать его, складывая минуту с минутой, с бесконечностью других минут, и это сказывается на универсальности дел и занятий Фауста, на его далеких странствиях, на любовных похождениях Дон-Жуана, которых по счету оперы Моцарта было «тысяча и три».
Письма и поэзия Тютчева полны жалоб на время и пространство. «…они, – пишет Тютчев жене, – угнетатели и тираны человечества» (письмо от 26 июля 1858 г.). В одном из его французских стихотворений говорится: «Как мало действительности в человеке, как легко для него исчезновение. Когда он здесь, он так мало значит; и он ничто, когда он вдалеке от нас. Его присутствие – одна-единственная точка, его отсутствие – все пространство, как оно есть». По Тютчеву, человек движется по жизни, время убывает, и пространство, которое ему открывается, растет. Слово «индивидуум» означает «неделимое». По Тютчеву, индивидуум, однако, делится; личное его сознание – дым, призрак, и это одна его часть, другая – он же как физическое тело. Ужас смерти в сознании Тютчева очень навязчив. Когда человек выпадает из своих общественных, духовных связей, биологическая его судьба обнажается перед ним со всей безжалостностью. «Бесследно всё – и так легко не быть!» – пишет Тютчев в позднем стихотворении на кончину брата[10]10
«Брат, столько лет сопутствовавший мне…» (1870).
[Закрыть], повторяя более ранние свои французские стихи, сложившиеся еще лет за тридцать до того. «Легко не быть» – потому что само бытие личности было некрепким, неукрепленным, без широко развитых связей и отношений, потому что личность эта недостаточно распространила себя в среде окружающих, не сошлась в одно с ними.
Стихотворения Тютчева по внутренней форме своей – впечатления минуты. Он жаден до минуты и возлагает на нее великие надежды, как это было уже у Дон-Жуана, у Фауста, у первых знаменательных людей новой культуры. Пафос минуты – тот же, импровизаторский. Поэзия Тютчева исключает долгие сборы, требует быстроты действий, на всякий вопрос, ею поставленный, нужен стремительный ответ. В мгновенное впечатление Тютчев хотел бы вместить всего себя, мысли и чувства, давно им носимые, всю бесконечность собственной жизни. Его стихотворения – своеобразная борьба за время, за большую жизнь в малые сроки.
В 60-х годах Тютчев пишет жене, как нужны ему встречи с людьми разных поколений, «все это прошлое, воскресающее с такой полнотой жизни и толкающее под локоть настоящее». Он досадует, почему не попал одним летом в Киссинген: «Как подобное местопребывание, сближая эпохи, помогло бы мне восстановить цепь времен, что составляет настоятельную потребность моего существа». «Восстановить цепь времен» – Тютчев сам нашел слова, которыми можно определить пафос, воедино связывающий его лирические стихотворения.
Трагический характер поэзии Тютчева сочетается в ней с гладиаторской бодростью и энергией. Историческую границу человеческих возможностей он считает абсолютной и все же исподволь, могущественными усилиями и толчками стремится сдвинуть ее. Ему присуще знакомое нам и по другим великим поэтам, по Шекспиру, по Гёте, чувство, что силы исторической жизни, однажды приведенные в движение, не уничтожатся, не сойдут со сцены. Хаос должен выйти из первоначального состояния и получить свое законное место в системе космоса. Как отвлеченный мыслитель, как славянофильский публицист, Тютчев проповедует движение назад, – это лишний раз учит нас, насколько он считал абсолютно непререкаемой современную цивилизацию в ее установленном виде: от нее возможно только отступать, идти дальше – всем и каждому заказано. Как поэт, он призывает к другому – к новым, повторным буре и натиску. Как публицист и философ, он доказывает, что все беды от человеческой личности, слишком много для себя требующей, и поэтому он предлагает свести ее на нет. В поэзии своей он демонстрирует совсем иное: личности слишком мало отпущено, ее заключили в ней самой, нужно с этим покончить, приобщить ее к жизни мира, нужно дать ей новые богатства.
Буря и натиск Тютчева торжествуют в стихотворении «Два голоса» (по-видимому, 1850 г.). Здесь один голос – предостерегающий, останавливающий, так как борьба безнадежна, другой – зовущий к дальнейшей неустанной борьбе. Слышнее у Тютчева и в этом стихотворении, и во всей его поэзии второй голос. В этом голосе великая убежденность, в нем настоящее тютчевское вдохновение. Тютчев не считал покоренным навсегда, что покорили на сегодня, – таково было его чувство. Поэтому он и писал: «Мужайтесь, боритесь, о храбрые други…». Поэтому Тютчев не покидал своей арены художника и после того, как он, казалось бы, отменил свои художественные деяния, их смысл и пафос в своей политической публицистике.
Нам сохранились мысли В. И. Ленина о Тютчеве в передаче мемуариста. «Он ‹В. И. Ленин› восторгался его поэзией. Зная прекрасно, из какого класса он происходит, совершенно точно давая себе отчет в его славянофильских убеждениях, настроениях и переживаниях, он… говорил об его стихийном бунтарстве, которое предвкушало величайшие события, назревавшие в то время в Западной Европе».[11]11
Бонч-Бруевич В. Ленин о художественной литературе // «30 дней». 1934, № 1. С. 15.
[Закрыть] Новизна этих мыслей служит порукой тому, что запись мемуариста точна. Нигде и никогда прежде Ленина не говорилось о бунтарстве Тютчева, о том, что поэзия Тютчева полна ощущением европейского кризиса, – нам дана Лениным точка зрения на Тютчева и на его поэзию, с которой они открываются для нас по-необычному.
5
С конца 40-х годов и особенно в 50-х поэзия Тютчева заметно обновляется. Он возвратился в Россию и приблизился к подробностям русской жизни, которую он доселе трактовал с очень обобщенной точки зрения, в совокупности ее с жизнью мировой. У Тютчева появляются свои соответствия тому, что делалось тогда в реалистической и демократической по направлению и духу русской литературе. Советские исследователи открыли поучительные аналогии между поэзией Тютчева позднего периода и прозой Тургенева, стихами Некрасова. Важны не только отдельные совпадения и переклички. Важно, что русская освободительная мысль и практическое движение, служившее ее основой, затронули Тютчева и он на них в своей поэзии отозвался. По общим своим очертаниям поэзия Тютчева оставалась все та же, однажды сложившееся миропонимание держалось, старые темы не умирали, старый поэтический метод применялся по-прежнему, и все же в поэзии Тютчева появились течения, которые спорили со старым методом и со старыми идеями. Спор далеко не был доведен до конца, противоречие не получило полного развития, нет признаков, что оно до конца ясным было для самого поэта, и все же поздний Тютчев – автор стихотворений, каких никогда не писал прежде, новых по темам, смыслу, стилю, пусть эти стихотворения и не исключают других, в которых прежний Тютчев продолжается.
Перемены в поэзии Тютчева можно увидеть, если сравнить два его стихотворения, очень расходящиеся друг с другом, написанные на расстоянии между ними более чем в четверть века: «Есть в светлости осенних вечеров…»[12]12
Заглавие этого стихотворения – «Осенний вечер»
[Закрыть] 1830 года и «Есть в осени первоначальной…» 1857 года. Второе из них как будто бы уже со вступительной строки отвечает первому, а между тем оно прочувствовано и направлено по-иному, по-своему. Отсутствует пантеистическое осмысление пейзажа, которым в очень тонких и особых формах отмечены стихи 1830 года, где осень – стыдливое, кроткое страдание, болезненная улыбка природы. Если в поздних стихах и налицо «душа природы», то это «душа» местная, не вселенская, скорее это характерности ландшафта, местные черты и краски. Осень 1857 года – характерно русская осень, к тому же трудовая, крестьянская; «бодрого серпа» не было в прежних ландшафтах Тютчева. «Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде» – «праздная борозда» восхищала Льва Толстого, это центральная подробность в пейзаже осени у Тютчева. Борозда праздная – та, по которой больше не ходит плуг. «Душа» осени сейчас для Тютчева в том, что осенью кончаются крестьянские полевые работы и трудовая борозда отдыхает, она и все к ней относимое становятся всего лишь поводом к созерцанию. «Паутины тонкий волос» – здесь новая для Тютчева теплота, интимность внимания к ландшафту – к национальному ландшафту, который переживается с чувством близости и соучастия в самой и незаметной его жизни. «Но далеко еще до первых зимних бурь» – осень тут у Тютчева как бы время перемирия, междудействие; драматический акт лета сыгран, и не наступил еще срок для акта зимы. У Тютчева появляется новый интерес – не к одним только вершинам действия, но и к промежуткам между ними, к безбурному течению времени. Прежний Тютчев – «поэт минуты» – от минуты, от мгновенного переживания круто и быстро восходил к самым большим темам природы и истории, восходил к «вечности». Сейчас это расстояние от малого к великому и величайшему у Тютчева удлинено; сама минута удлиняется, распадается на малые доли, содержит в себе целые миры, достойные участия и изучения.
К 1849 году относится стихотворение Тютчева «Неохотно и несмело…». Здесь опять-таки перед нами новый Тютчев. Как всегда, он мыслит конфликтами, жизнь природы, как всегда, у него драма, столкновение действующих сил. Но на этот раз весь интерес в том, что конфликт наметился и не развернулся, гроза наспела, разрядилась с каким-то сердитым добродушием, и опять вернулись солнце, сияние солнца и успокоение. Тютчев стал уделять внимание серединным состояниям жизни, повседневности, ее делам, оттенкам. С эсхиловских трагических высот он стал спускаться на нивы Гесиода, к гесиодовским «трудам и дням», или, если иметь в виду более близкое, на нивы Тургенева, Л. Толстого, Гончарова, Некрасова. Интерес к повседневности, к ее затрудненному ходу, к заботам массы человеческой – одно из существенных проявлений демократического духа русской литературы, сказавшихся первоначально еще у зрелого Пушкина. Есть известный аристократизм в том, чтобы жить общей жизнью лишь в одни «минуты роковые», во времена взрывов и катастроф, пренебрегая всем, что к ним вело и к ним готовило, всем, что приходило вслед за ними. Поздний Тютчев покидает эту свою несколько надменную точку зрения: пафос его – большие узлы истории, но он следит теперь и за тем, как изо дня в день в русской жизни завязываются эти узлы.
Еще одно из стихотворений 1849 года:
Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют…
Усыпительно-безмолвны
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной…
Стихотворение это, на первый взгляд, кажется непритязательным описанием, и по этой, верно, причине его так жаловали составители хрестоматий. Между тем оно полно мысли, и мысль здесь скромно скрывается, соответственно описанной и рассказанной здесь жизни – неяркой, неброской, утаенной и в высокой степени значительной. Стихотворение держится на глаголах: рдеют – зреют – блестят. Дается как будто бы неподвижная картина полевой июльской ночи, а в ней, однако, мерным пульсом бьются глагольные слова, и они главные. Передано тихое действование жизни, переданы рост ее, рост хлеба на полях. От крестьянского трудового хлеба в полях Тютчев восходит к небу, к луне и звездам, свет их он связывает в одно со зреющими нивами. Здесь под особыми ударами выражения находятся у Тютчева ночь, сон и тишина. Жизнь хлебов, насущная жизнь мира, совершается в глубоком молчании. Для описания взят ночной час, когда жизнь эта полностью предоставлена самой себе и когда только она и может быть услышана. Ночной час выражает и то, насколько велика эта жизнь – она никогда не останавливается, она идет днем, она идет и ночью, бессменно. Стихотворение относится прямо к природе, но человек – действующий, производящий – косвенно включен в нее, так как хлеб в полях – дело его рук. Все стихотворение можно бы назвать гимном, тихим, простым, ясным гимном трудам и дням природы и человека.
С 40-х годов появляется у Тютчева новая для него тема – другого человека, чужого «я», воспринятого со всей полнотой участия и сочувствия. И прежде Тютчев страдал, лишенный живых связей с другими, но он не ведал, как обрести эти связи, теперь он располагает самым действенным средством, побеждающим общественную разорванность. Внимание к чужому «я» – плод демократической настроенности, захватившей Тютчева зрелой и поздней поры. Стихотворение «Русской женщине» (1848 или 1849) обращено к анониму. Его героиня – одна из многих, едва ли не каждая женщина в России, страдающая от бесправия, от узости и бедности условий, от невозможности свободно строить свою судьбу. Обращение к анониму, к собирательному лицу прочувствовано у Тютчева так, как если бы он обращался к лицу хорошо знакомому, близкому и родственному: аноним для поэта – тоже конкретное, живое существо, вызывающее к себе самое сосредоточенное и грустно-заинтересованное внимание. Границы между индивидуальным и множественным, своим и чужим здесь у Тютчева снимаются. Напрашиваются аналогии с Некрасовым, со стихотворениями его 40-х и 50-х годов, написанными к женщинам, где Некрасов сочувствует их бедам в настоящем и предчувствует их беды в будущем, бездолье и гибель, которые им предстоят («Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Я посетил твое кладбище…», «Памяти ‹Асенков›ой», «Свадьба», «Гадающей невесте») Стихотворение Тютчева предвосхищает и иные строки Блока, тоже направленные к женским анонимам, демократические по замыслу и чувству.
«Слезы» Тютчева, относящиеся, вероятно, к 1849 году, быть может, и есть то стихотворение, где дана программа на весь новый период его поэзии. Тютчев здесь высказывается во имя социального сострадания, во имя тех, кто оскорблен и унижен. Этим стихотворением он входит в широкую полосу русской литературы, ознаменованную именами Некрасова и Достоевского. Дактилические строки с многочисленными фигурами повторения на пространстве немногих строк – волна за волной, с длинными рифмующимися словами, с двумя дактилическими рифмами рядом – «незримые – неисчислимые» – приближают нас к знакомому для нас по стихам Некрасова. Сам ход стиха – движение дождя, движение слез. Тут есть и отдаленный отблеск фольклорности – крестьянского плача, связь с которым у Некрасова обычна. Фольклорность эта по-особому напоминает, о чьих слезах написано стихотворение – о слезах тех, кого город не жалует, кого он гонит на улицу или держит в пригородах. По теме и по внутреннему характеру своему к «Слезам» примыкает более позднее стихотворение – «Эти бедные селенья…» (1855), где, впрочем, социальное сострадание не остается делом только мирским, но связывается с христианскими идеями.
Тютчев еще в 30-х годах осваивался с темой «бедных людей». До нас дошел не доделанный им перевод из Беранже «Пришлося кончить жизнь в овраге…». В новый период – это его собственная тема, настолько с ним неразлучная, что она может выражаться непрямо, служить опорой для другой темы, метафорой для нее. Новый Тютчев не только передает эту тему, он мыслит ею, он через нее идет к темам, далеким от нее, для него же самого интимнейшим.
В июле 1850 года написано стихотворение из цикла, посвященного Е. А. Денисьевой[13]13
«Пошли, господь, свою отраду…»
[Закрыть]. Июль 1850 года – время первого знакомства и сближения Тютчева с нею. Стихотворение это – косвенная, скрытая и жаркая мольба о любви. Оно строится на косвенном образе «бедного нищего», бредущего по знойной мостовой. Нищий заглядывает через ограду в сад – там свежесть зелени, прохлада фонтана, лазурный грот, все, что дано другим, что так нужно ему и навсегда для него недоступно. «Бедный нищий» описан с горячностью, с сочувствием очень щедрым и широким. Поэт не задумывается сделать его своим двойником. Поэт мечтает о запретной для него любви, как тот выгоревший на солнце нищий, которого поманили тень, роса и зелень в чужом саду – в обиталище богатых. Та, к которой написаны эти стихи, тоже богата – она владеет всем и может все.
Стихи, написанные при жизни Денисьевой, и стихи, посвященные ее памяти, издавна ценятся как высокие достижения русской лирики. Сам Тютчев, создавая их, менее всего думал о литературе. Стихи эти – самоотчет, сделанный поэтом с великой строгостью, с пристрастием, с желанием искупить вину свою перед этой женщиной, – а он признавал за собой вину. Хотя о литературе Тютчев и не заботился, воздействие современных русских писателей весьма приметно на стихах, посвященных Денисьевой. Сказывается психологический роман, каким он сложился у Тургенева, Л. Толстого, Достоевского. В позднюю лирику Тютчева проникает психологический анализ. Лирика раннего периода избегала анализа. Каждое лирическое стихотворение по душевному своему содержанию было цельным. Радость, страдание, жалобы – все это излагалось одним порывом, с чрезвычайной смелостью выражения, без раздумья о том, что, собственно, означают эти состояния души, весь пафос заключался в точности, в интенсивности высказывания. Там не было суда поэта над самим собой. Поздний Тютчев находится под властью этики: демократизм взгляда и этическое сознание – главные его приобретения. Как это было в русском романе, так и в лирике Тютчева психология неотделима от этики, от требований писателя к себе и к другим. Тютчев в поздней лирике и отдается собственному чувству, и проверяет его – что в нем ложь, что правда, что в нем правомерно, что заблуждение и даже преступление. Конечно, непредвзятый, стихийный лиризм слышится и тут, но если приглядеться ко всему денисьевскому циклу, то впечатление расколотости, анализа, рефлексии в этом лирическом цикле преобладает. Оно улавливается уже в первом, вступительном стихотворении «Пошли, господь, свою отраду…». Поэт молит о любви, но он считает себя недостойным, не имеющим права на нее, – этот оттенок заложен в сравнении с нищим: нищий – неимущий в отношении права и закона. В лирическом чувстве есть неуверенность в самом себе, оно изливается с некоторой внутренней оговоркой, столько же смелое, сколько и несмелое, – и в этом его новая природа. Через год, в другом стихотворении к Денисьевой Тютчев опять говорит о своей «бедности»: «Но как я беден перед ней», – и опять у него строки покаяния, самоунижения: «Перед любовию твоею Мне больно вспомнить о себе» («Не раз ты слышала признанье…», 1851).