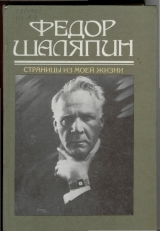
Текст книги "Страницы из моей жизни"
Автор книги: Федор Шаляпин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Но однажды мой товарищ ушел один и не возвратился, а хозяин заявил мне, что не выпустит меня на улицу и не даст мне есть, если я не заплачу ему. Как быть? Голодая, я просидел в плену двое суток и, наконец, решился бежать. В комнате был балкончик, выходящий на двор, но на дворе день и ночь толпился какой-то народ. Наконец я заметил, что карниз под окном соединяется с какой-то стеной, и хотя стена была на высоте второго этажа, возвышаясь почти до крыши, однако, – чего не сделаешь с голода? Ночью я выбрался из окна на карниз, дополз кое-как до стены, сел на нее верхом и, усмотрев за нею какую-то темную кучу, прыгнул вниз. Я думал, что это навозная куча, но попал в какие-то обломки жести, железа и очутился на темном, пустынном дворе.
Вышел на улицу и отправился в один из темных притонов города, где бывал и раньше в трудные дни. Он всегда был набит какими-то оборванцами. Я пел им песни, а они угощали меня за это. Мне казалось, что среди них есть беглые каторжане. Большинство из этих людей не имело имен, существуя по кличкам.
Особенно интересовал меня один из них по прозвищу «Клык», чернобородый, курчавый человек с выбитыми зубами, низким лбом и притягивающим взглядом серых глаз. Его нечесаные волосы ниспадали на глаза целой копной. Голос его звучал властно, и было видно, что этот человек пользуется всеобщим уважением. Я был уверен, что этот человек удрал с каторги.
Он относился ко мне очень хорошо, называл меня «песенником» и постоянно уговаривал:
– Пой, брат! Ну, пой, прошу я тебя!
Я пел, а он плакал, иногда навзрыд, точно женщина о любимом человеке, внезапно умершем. Это мне нравилось в нем, и я готов был искренно привязаться к нему.
Но однажды сей джентльмен предложил вдруг нескольким ребятам, и мне в их числе, пойти вечером на площадь, где был цирк, и зарезать там какого-то торговца, который ходил в штопаной одежде, весь в заплатах и у которого, по уверению Клыка, под заплатами было зашито множество денег. «Ребята» отнеслись к этому предложению вполне одобрительно, а Клык начал распределять роли. Все делалось так просто, как будто бы грабеж и разбой являлись предприятиями хотя и нелегкими, но вполне признанными обычаем и законом. Клык и мне назначил роль в этом деле. Я должен был стоять на углу и следить за полицией. Не согласиться было невозможно. Хотя эти люди относились ко мне прекрасно, но если бы я отказался от участия в «деле», они, конечно, избили бы меня. Когда наступил день, в который решили зарезать торговца, я не явился в притон и больше уже ни разу не показывался туда, боясь, что меня вздуют за «измену» или, что еще хуже, сочтут за шпиона.
Но, распростившись с этими людьми, я потерял всякую возможность пить и есть. Предлагал себя певчим в соборный хор, но безуспешно. Я был так растрепан, грязен, что меня, вероятно, приняли за пьяницу и вора. Начал работать с крючниками на пристани «Кавказ и Меркурий» по 30 копеек в день. Это немного поддержало меня. Но тут разразилась холера, сразу принявшая характер ужасный: люди корчились на улицах, там и тут валялись трупы, которые не успевали подбирать солдаты, вымазанные дегтем. Смерть гуляла по городу, точно губернатор. Крючники разбежались от страха. Я снова остался без работы и хлеба, питаясь почти исключительно морской опресненной водою, которую пил весь город. В Баку царил некий хаос довременный. Власти разбежались.
Обыватели издыхали сотнями в день, точно мухи осенью. Жизнь останови– лась.
Только на вокзале кипела работа: стоял грохот и шум. Но я и тут не мог найти заработка. Вдруг фортуна улыбнулась мне: я нашел на улице ситцевый платок с узелком на одном конце его, а в узелке оказалось четыре двугривенных. Я тотчас же бросился в татарскую лавку есть ляли-кэбаб, наелся, пошел на вокзал и, предложив кондуктору оставшиеся деньги, попросил его отвезти меня в Тифлис. Кондуктор оказался добрым малым. Он взял с меня до Тифлиса только 30 копеек. И вот на тормозной площадке товарного вагона я добрался до Тифлиса
31
. Каким-то образом я узнал, что в городе Семенов-Самарский и что офицер Ключарев собирает оперную труппу в Батум. В эту труппу вступали: Вандерик и Флята-Вандерик, были выписаны: Вальтер, Люценко, Круглов. Среди хористов я встретил Нейберга и двух товарищей, бросивших меня в Баку.
Был великий пост. По-русски петь запрещалось, а потому опера приняла название итальянской, хотя итальянцев в ней было только двое: флейтист в оркестре и хорист Понтэ, мой знакомый по Баку, очень славный человек. Вскоре меня заставили петь Оровезо в «Норме»
32
, для чего я должен был переписать свою партию по-итальянски русскими буквами.
Воображаю, как сладостно звучал итальянский язык в моих устах!
Из Батума перебрались в Кутаис
33
. Здесь я с честью пел кардинала в «Жидовке»
34
, Валентина в «Фаусте», но вскоре кто-то из артистов – черт его побери – украл жену Ключарева, хозяина дела, уехал с нею, и опера разлезлась.
Я воротился в Тифлис с хористами: Нейбергом, Кривошеиным и Сесиным. Все четверо мы поселились на одной квартире.
Сесин отличался изумительной способностью: куда бы он ни приезжал, он немедленно находил себе невесту, ежедневно посещал ее, пил, ел, а иногда, пользуясь правами жениха, занимал у родителей ее немножко денег. В Тифлисе он тоже немедленно нашел невесту, и это было очень полезно для нас: он почти ежедневно приносил нам от нее котлеты, фрукты, хлеб, снабжал нас пятаками и гривенниками. Но, к несчастью, в Тифлисе ему не повезло. Операция с невестой быстро расстроилась, и Сесин исчез из города. Трудно стало нам без жениха.
Товарищи мои скоро устроились куда-то, а я, более ленивый и не так ловко умевший приспособляться к жизни, остался один и голодный. Хозяйка квартиры, добрая женщина, не очень настаивала на уплате денег за квартиру, и я, отупевший от неудач, спал. Когда спишь, не хочется есть. Однажды я проспал более 48 часов кряду.
Голодать по два дня я уже привык. Но теперь приходилось жить, не вкушая пищи, по трое суток, по четверо. Это уж не для меня.
Искал я работы, но безуспешно. Костюм у меня был оборван. Белья вовсе не было, но все-таки я ходил в шляпе. Зашел однажды на лесопильный завод, – рабочие, глядя на шляпу, смеются – «барин»!
Голодать в Тифлисе особенно неприятно и тяжко, потому что здесь все жарят и варят на улицах. Обоняние дразнят разные вкусные запахи. Я приходил в отчаяние, в исступление, готов был просить милостыню, но не решался и, наконец, задумал покончить с собою. Я задумал сделать это так: войду в оружейный магазин и попрошу показать мне револьвер, а когда он будет в руках у меня, застрелюсь. Теперь понимаю, что все это было затеяно и глупо, и неосуществимо, но тогда я твердо решил покончить с собою так или иначе. Жить мне очень хотелось, но как тут жить?
Когда я стоял у двери оружейного магазина, меня окликнул знакомый голос. Я обернулся и узнал итальянца Понтэ.
– Что с тобою? – тревожно спрашивал он.
– Почему у тебя такое лицо?
Я ничего не мог ответить ему. Я заплакал. Узнав, что я голодаю четвертые сутки, Понтэ увел меня к себе. Его жена тотчас же накормила меня макаронами.
Съел я их невероятно много, хотя мне было стыдно перед женою Понтэ. Эта встреча с итальянцем, его радушие и макароны подкрепили мои силы. На другой же день я прочел афишу, которая извещала, что в таком-то саду будет разыгран любительский спектакль. Я пошел в этот сад, встретил у входа в него человека, одетого эксцентрично, как цирковой артист. Он почему-то обратил на меня внимание, стал расспрашивать, кто я, что со мною? Я рассказал. Тогда этот человек, оказавшийся актером Охотиным, увел меня в отдаленную аллею сада и предложил спеть что-нибудь и, послушав, сказал, что даст мне русский костюм, в котором я буду выступать на открытой сцене сада.
Садик был плохонький, тесный. Публика посещала его неохотно. Но я усердно пел, получая по 2 рубля за выход, раза два в неделю. Здесь я познакомился с служащими управления Закавказской дороги и, рассказывая им «за угощение» разные анекдоты, рассказал однажды о моей запутанной жизни. Этот рассказ вызвал общее сочувствие. Мои слушатели, узнав, что я знаком с канцелярской работой, предложили мне подать прошение бухгалтеру дороги. Я подал и был зачислен писцом на жалованье в 30 рублей. Это было тем более кстати, что в ту пору я жил не один. Незадолго перед этим я познакомился с хористкой Марией Шульц, очень красивой девушкой, но, к сожалению, великой пьяницей.
Однажды, в трудные дни голодовки, она предложила мне поселиться у нее. Она очень нравилась мне, хотя лицо ее отекло от пьянства и в поведении было что-то размашистое, неприятное. Но я чувствовал и видел, что у этого несчастного человека сердце доброе и милое. Когда я сказал ей, что нам неудобно будет жить в одной комнате, она просто заметила:
– Ну, какое же неудобство! Когда вы будете раздеваться, я отвернусь, а когда я буду раздеваться – Вы отвернетесь! Это показалось мне достаточно убедительным, и я переехал к ней, в маленькую конурку. Мария спала на кровати у одной стены комнаты, а я – на полу, на какой-то мягкой рухляди у другой. Вполне естественно, что мы через неделю перестали отворачиваться друг от друга. У нее были кое-какие сбережения, но, разумеется, мы скоро проели их. Потом она начала таскать в заклад свои юбки, простыни, и, наконец, мы очутились с нею в темном подвале без окон, куда свет проникал только через стекло в верхней филенке двери. Мучительно стыдно было мне жить на средства этой девушки, и велика была радость моя, когда я получил заработок. Теперь я жил «семейно». Возвращаюсь со службы, а Мария готовит на керосинке борщ и поет. Подвал наш чисто выметен. Мы начали понемножку заводить кое-какие хозяйственные вещи. Но мне было ужасно тяжко видеть Марию почти каждый вечер пьяной. Я уговаривал ее бросить пить. Да и сама она, я видел, хотела бы отделаться от пьянства, но воли у нее не хватало. И я добился только того, что она стала прятать водку под кровать, напиваясь ночью, когда я засыпал. Так мы и жили жизнью, в которой было кое-что приятное, но которую я не пожелаю даже и недругу. Я очень тосковал о театре, и когда ко мне явился кто-то из товарищей хористов с предложением устроить концерт в Коджорах, дачной местности в сорока верстах от Тифлиса, я с ра– достью согласился на это, взял на службе двухдневный отпуск и отправился с товарищами пешком в Коджоры. Собралось нас человек восемь. Нами пред– водительствовал хормейстер Карл Венд, отличный хормейстер, хороший человек и отчаянный алкоголик. Но концерт не состоялся вследствие глубочайшего равнодушия коджорской публики и потому, что на несчастье наше небеса разразились каким-то доисторическим ливнем, ураганом, стихийным безобразием.
Много я видел хороших дождей на своем веку, но никогда не испытывал такого ужаса!
Валились деревья, с гор текли пенные потоки, летели камни, ревел ветер, опрокидывая нас, с неба лились ручьи, чуть не в руку толщиной. Под этим ливнем мы возвращались в Тифлис, боясь опоздать на службу. Я боялся этого больше всех. Подвигались мы едва-едва. Иногда приходилось становиться на четвереньки, чтобы ветер и вода не сбросили нас с дороги в пропасть сбоку ее. Но все-таки дошли благополучно.
Обсушившись, я отправился на службу, но к полудню почувствовал силь– нейший озноб и боль в горле. Меня тотчас же отправили в железнодорожный лазарет и там поместили в отдельную комнату. Оказалось, что у меня дифтерит.
«Пропадет голос!» – с ужасом подумал я. Тревожило меня и то, что Мария Шульц, не зная о болезни моей, вероятно, страшно беспокоится. Я послал ей записку. Но когда Мария пришла, ее, конечно, не пустили ко мне.
В лазарете было мучительно скучно. Меня, кажется, забыли в нем. Доктор не приходил, и я валялся день за днем на койке, одетый в какой-то арестантский халат. Хотелось есть, а мне давали только какой-то жиденький супец, хотя я чувствовал себя вполне здоровым.
Я умолял, чтоб меня отпустили домой, но сторож заявил мне, что через неделю придет доктор и тогда – может быть.
Через неделю да еще может быть!
– Пойдите вы к черту! – решил я, тихонько пробрался в чулан, где лежало мое платье, переоделся, вылез в окно и убежал домой. Но когда я на другой день пришел на службу, меня не пустили заниматься, так как из лазарета дано было знать, что я убежал. Я чуть не со слезами доказывал начальству, что со– вершенно здоров, и, наконец, добился, что меня послали к доктору, который и признал меня здоровым.
Вскоре я получил письмо от Семенова-Самарского. Он писал, что если я хочу, он может устроить меня рублей на сто в Казани, в оперу Перовского на вторые роли. Можно получить аванс на дорогу. Я вспыхнул великой радостью и тотчас телеграфировал: «Жду аванса», и через некоторое время мне перевели из Казани четвертной билет. В тот же день я отказался от службы и объявил моей подруге, что уезжаю. Жалко было мне ее, очень жалко, но театр – прежде всего! Я купил банку какао, Мария сварила его, и мы устроили прощальный пир, попивая какао и распевая песни.
Но тут случилось нечто неожиданное. Давно уже сослуживцы мои говорили мне, что у меня хороший голос и что мне следовало бы поучиться петь у местного профессора пения Усатова, бывшего артиста императорских театров. И вот, в день отъезда из Тифлиса, я вдруг решил:
– Пойду к Усатову! Чем я рискую?
Пошел. Когда меня впустили в квартиру певца, прежде всего под ноги мне бросилась стая мопсов, а за ними явился человечек низенького роста, круглый, с закрученными усами опереточного разбойника и досиня бритым лицом.
– Вам что угодно? – не очень ласково спросил он. Я объяснил.
– Ну, что ж, давайте покричим!
Он пригласил меня в зал, сел за рояль и заставил меня сделать несколько арпеджий.
Голос мой звучал хорошо.
– Так. А не поете ли вы что-нибудь оперное?
Так как я воображал, что у меня баритон, то предложил спеть арию Валентина. Запел. Но когда, взяв высокую ноту, я стал держать фермато, профессор, перестав играть, пребольно ткнул меня пальцем в бок. Я оборвал ноту. Наступило молчание. Усатов смотрел на клавиши, я на него – и думал, что все это очень плохо. Пауза была мучительная. Наконец, не стерпев, я спросил:
– Что же, можно мне учиться петь?
Усатов взглянул на меня и твердо ответил:
– Должно.
Сразу повеселев, я рассказал ему, что вот – собираюсь ехать в Казань петь в опере, буду получать там 100 рублей; за пять месяцев получу 500 рублей; сто проживу, а четыреста останутся, и с этими деньгами я ворочусь в Тифлис, чтобы учиться петь.
Но он сказал мне:
– Бросьте все это! Ничего вы не скопите! Да еще едва ли и заплатят вам! Знаю я эти дела! Оставайтесь здесь и учитесь у меня. Денег за учение я не возьму с вас.
Я был поражен. Впервые видел я такое отношение к человеку.
А Усатов говорил:
– Ваш начальник – знакомый мой. Я напишу ему, чтоб он вновь принял вас на службу.
Окрыленный неизведанной радостью, я бросился с письмом Усатова к моему начальнику, но оказалось, что мое место было уже занято. Убитый этим, я снова возвратился к Усатову.
– Ну, что ж, напишу письмо другому! – сказал он и отправил меня к владельцу какой-то аптеки или аптекарского склада, человеку восточного типа.
Этот, прочитав письмо, спросил меня, знаю ли я какие-нибудь языки.
– Малороссийский, – сказал я.
– Не годится. А латинский?
– Нет.
– Жаль. Ну, Вы будете получать от меня 10 рублей в месяц. Вот вам за два вперед!
– А что нужно делать?
– Ничего. Нужно учиться петь и получать от меня за это по 10 рублей в месяц.
Все это было совершенно сказочно. Один человек будет бесплатно учить меня, другой мне же станет платить за это деньги!
С авансом из Казани у меня было 45 рублей. Усатов велел мне снять комнату получше и взять пианино напрокат. Если я возвращу аванс, я буду не в состоянии сделать этого. Тогда я написал в Казань, что внезапно захворал и не могу приехать.
Это, конечно, нехорошо. Но я утешаю себя тем, что многие и часто поступают гораздо хуже ради более низких целей
35
. Домашние мои дела шли довольно плохо. Моя подруга становилась все более несдержанной, и я ничем не мог помочь ей. В пьяном виде она была довольно сварлива, и часто это ставило меня в положения, которых я хотел бы избежать. Однажды она поругалась с женою городового, жившей на нашем дворе. Городовиха назвала ее кличкой, зазорной для женщины. Я, в свою очередь, обругал городовиху, а вечером явился ее супруг, начал угрожать мне, что упечет меня туда, куда Макар не гоняет телят, ворон не заносит костей, и даже еще дальше.
Наконец, он бросился бить меня, но, хотя я и очень боялся полиции, однако опыт казанских кулачных боев послужил мне на пользу, и городовик был посрамлен мною.
Дом, в котором жил я с Марией, был густо набит странным сортом людей, которые интересовались всем, кроме себя самих. Некоторые же из сожителей по дому усиленно интересовались мною. Так, например, какой-то бородатый, свирепого вида человек, одетый всегда в белую блузу и почти всегда полупьяный, любил науськивать на меня свою собаку. Человек этот смотрел на все так, как будто весь мир надоел ему смертельно, а я особенно. Собака у него была большая и тоже свирепая. Бывало, иду я по двору, а он убеждает собаку:
– Гектор, возьми его, дьявола, пиль, Гектор! Куси его, шарлатана!
Собака, не торопясь, шла ко мне. Я прижимался к стене и умоляюще смотрел на нее, на ее хозяина. Он рычал; собака подражала ему. Эта забава очень не нравилась мне, а человек возбуждал у меня чувство страха.
Особенно поразил он меня в тот день, когда я собрался идти к Усатову. Я очень много пел в этот день и, выйдя из комнаты в сени, услыхал сверху лестницы грозный голос:
– В дьякона бы тебя, чертов сын, а ты тут жить мешаешь всем, сволочь настоящая!
Я немедленно скрылся в подвал. Мне было тяжело среди этой дикой публики, а Мария делала мою жизнь еще более тяжелой, пропивая вещи, со всеми ссорясь. Однажды, проходя мимо какого-то духана, я увидал, что она пляшет лезгинку, а трактирные обыватели гогочут, щиплют ее, пьяную и жалкую. Я увел ее домой. Но она злобно сказала мне, что когда мужчина пользуется ласками женщины, он должен платить ей за это, а я – голоштанник и могу убираться ко всем чертям. Мы поругались, и Мария уехала в Баку. Очень огорчил меня ее отъезд. Она была единственным человеком, с которым я мог поделиться и горем, и радостью. Не скажу, что я очень любил ее, и не думаю, чтобы она меня любила, – нас вероятно связывала общность положения; но это все-таки была крепкая, дружеская связь. А кроме того, женщина, как я уже сказал, всегда являлась для меня силой, возбуждавшей лучшее в сердце моем.
На уроках Усатова я познакомился с его учениками. Их было человек пятнадцать. Все – люди разного положения и достатка: офицеры, чиновники, дамы из общества. Был среди них Иосиф Комаровский, теперь помощник режиссера в Большом театре, бас Стариченко, человек самонадеянный и до смешного самолюбивый, и Павел Агнивцев, который впоследствии сошел с ума. Я очень увлекался его чудесным голосом, и мне нравилась его солидная манера держаться на людях.
В доме Усатова все было чуждо и необычно для меня: и мебель, и картины, и паркетный пол, и чай с бутербродами, которые так великолепно приготовляла жена моего учителя, Мария Петровна. Очень удивляло меня и то, что ученики, нисколько не стесняясь, хохотали при профессоре и его жене, рассказывали друг другу разные истории и вообще держались совершенно свободно, как равные. Я впервые видел такие отношения, и, хотя они мне нравились, но усвоить их я не решался. Был я тогда очень отрепан и грязноват и хотя в баню ходил часто, но держать себя в чистоте не мог: у меня была одна рубаха, которую я сам стирал в Куре и жарил на лампе, чтоб истребить насекомых, прочно поселившихся в ней.
Однажды на уроке Усатов сказал:
– Послушайте, Шаляпин, от Вас очень дурно пахнет. Вы меня извините, но это нужно знать! Жена моя даст Вам белья и носков, – приведите себя в по– рядок!
Я был сконфужен до слез. Я тогда еще не понимал, что если мы делаем добро людям, так не стесняемся формой. Я взял сверток белья и на следующий урок пришел чисто вымытый, выбритый. Усатов снова обратился ко мне с предложением – обедать у него. Я поблагодарил, но обедать не пошел, это уж было совсем не по силам для меня! Видел я, как они обедают! За столом прислуживает девушка, подставляя разные тарелки; на столе лежат салфетки, масса ножей, вилок, ложек. А кто знает, какая ложка для чего и что каким но– жом нужно резать?
Но все-таки Усатовы заставили меня обедать у них, и я претерпел немалые мучения при этом. Подавались кушанья, не виданные мною. Я не знал, как надо есть их. В тарелке с зеленой жидкостью плавало яйцо, сваренное вкрутую. Я стал давить его ложкой, оно, разумеется, выскочил из тарелки на скатерть, откуда я его снова отправил в тарелку, поймав пальцами. Зрители смотрели на мои операции молча, но неодобрительно, я чувствовал это. Претерпев эти пытки несколько раз, я, конечно, научился есть, не смущая соседей такими выходками, как, например, погружение пальцев в солонку или выковыривание ногтем мяса из зубов. Но это дорого стоило мне. К тому же Усатов имел благородную привычку говорить обо всем с чарующей простотой, от которой у меня зеленело в глазах.
– Шаляпин, не надо шмыгать носом во время обеда! – советовал он.
Но платков у меня не было, а когда пища горяча и вкусна, как же можно не шмыгнуть носом?
– Если Вы будете есть с ножа, то разрежете себе рот до ушей, – поучал Усатов.
Затем убеждал меня сидеть за столом прямо, не трогать ножом рыбу и вообще очень усердно занимался моим светским воспитанием.
Однажды он велел мне разучить арию из «Фенеллы»
36
и романс Бахметьева «Борода ль моя, бородушка», а когда я разучил эти вещи, он отправил меня знакомиться с кружком любителей музыки, помещавшимся в доме Арцруни, на Грибоедовской улице. В этом кружке устраивались ученические и любительские спектакли, и он существовал независимо от известного «Тифлисского артистического кружка». Я познакомился с любителями и стал аккуратно посещать собрания кружка.
На одном из концертов пела барышня в пенсне, с черными глазками, задорно вздернутым носиком, одетая в какое-то воздушное платье. Пела она романс Брауна:
Плыви, моя гондола,
Озарена луной,
Раздайся, баркарола,
Над сонною рекой…
Певица показалась мне неземной красавицей. Ее маленький гибкий голосок очаровал меня. Я аплодировал ей, забыв все на свете, и ушел с концерта в со– стоянии восторга.
Между прочим, я видел, как она протянула из-за кулисы руку и некто на сцене поцеловал ее.
«Эх, – подумал я, – есть же такие счастливцы!»
Спустя несколько дней Усатов объявил мне, что я буду выступать на концертах кружка, а кружок даст мне за это стипендию. Он подарил мне фрак. Но Усатов был маленький и толстый, а я – длинный и худой. По счастью, у меня были приятели портные. Они довольно ловко приспособили фрак к размерам моего скелета.
Наступил день первого моего дебюта в кружке
37
. Я вышел на сцену и запел: «Борода ль моя, бородушка». Публика засмеялась, хотя и добродушно. Я был уверен, что смеются над фраком, но оказалось – надо мной: пел я о бороде очень трогательно, но никаких признаков бороды в ту пору на лице моем не было. Со сцены я казался совершенным мальчишкой. Но когда я покончил с бородой, мне охотно аплодировали, и, раскланиваясь, я заметил среди публики барышню, которая задела меня за сердце.
– Вот для кого надо петь! – решил я. – Но что петь? – и я спел на бис «Любви все возрасты покорны».
Мне показалось, что барышня аплодирует более восторженно, чем вся другая публика.
После концерта танцевали, и аккомпаниаторша вдруг предложила познакомить меня с этой барышней. Я молча согласился и пошел к ней, через весь зал, по блестящему полу, пошел на кривых подгибавшихся ногах. Барышня тепло пожала мне руку, наговорила комплиментов. Я отвечал ей невпопад и думал: «Какой я дурак, как я неуклюж!»
Если б она предложила мне проводить ее пешком из Тифлиса в Архангельск, я, конечно, согласился бы; если б я знал, где она живет, я ходил бы под ее окнами. Я был влюблен со всею силой юности.
Тут ко мне подошел итальянец Фарина, один из членов кружка, и объявил, что я буду получать у них 15 рублей в месяц, и предложил мне помогать им всем, чем я могу помочь. Разумеется, я с радостью согласился и стал принимать деятельное участие во всех затеях кружка: пел в концертах, играл в драме – Разлюляева в «Бедность не порок», Несчастливцева в «Лесе», Петра в «Наталке-Полтавке», – ставил декорации, чистил лампы, заведовал бутафорией и вообще работал на совесть.
Занятия у Усатова продолжались своим чередом. Профессор был чрезвычайно строг и мало церемонился с учениками, особенно такими, каков был я. Если у меня что-либо выходило плохо, он выковыривал дирижерской палочкой из банки нюхательный табак и громко нюхал, а то закуривал папиросу в палец толщиной. Это были явные признаки его недовольства и раздражения.
Слыша, что голос ученика начинает слабеть, Усатов наотмашь бил ученика в грудь и кричал:
– Опирайте, черт вас возьми! Опирайте!
Я долго не мог понять, что это значит – «опирайте». Оказалось, надобно было опирать звук на дыхание, концентрировать его. Увлеченный работой в кружке и переживая волнения влюбленности, я стал учиться менее усердно и частенько выучивал уроки не очень твердо. В этих случаях я прибегал к такой уловке: ставил на фортепьяно раскрытые ноты, а сам, отойдя в сторону, скашивал глаза и читал с листа. Но Усатов заметил это и однажды ловко встал между нотами и мною, закрыв их. Я перестал петь. Тогда он бесцеремонно начал колотить меня палкой, приговаривая:
– Лодырь, лодырь, ничего не делаешь!
Эти истязания стали повторяться довольно часто и понудили меня принять свои меры защиты. Инструмент стоял четверти на полторы от стены, я отодвинул его еще на вершок, и, когда Усатов замахивался на меня палкой, я убегал за фортепьяно. Он был толст и не мог достать меня, только кричал и топал ногами.
Но однажды я так рассердил его, что он швырнул в меня нотами и закричал неистово:
– Вылезай, черт проклятый! Вылезай, я тебя понял!
Я вышел. Он с наслаждением отколотил меня палкой, и мы снова начали урок.
Впоследствии, встречаясь с ним, мы вспоминали эти уроки палкой и оба хохотали. Хороший человек был мой учитель!
Усатов приготовил со мной третий акт «Русалки» для спектакля в музыкальном кружке, а кроме того, серенаду Мефистофеля и трио
38
. Худой и длинный, я был очень смешон в костюме Мефистофеля, но пение публике понравилось. Особенно же велико было ее впечатление, когда я начал петь Мельника: «Да, стар и шаловлив я стал».
И теперь помню, как жутко тихо стало в зале, когда я спел эту фразу. Мне страшно аплодировали, когда я кончил. Публика даже встала. А на следующий день я прочитал в газете «Кавказ» заметку, в которой автор ее сравнивал меня со знаменитым Петровым. Заметка была подписана – Корганов. Я знал, что это был офицер-сапер, знаток и любитель музыки. Впоследствии он написал книгу о Бетховене.
Прочитав эту заметку, я с трепетом душевным почувствовал, что со мною случилось что-то невероятное, неожиданное, чего у меня и в мечтах не было. Я, пожалуй, сознавал, что Мельник спет мной хорошо, лучше, чем я когда-либо пел, но все-таки мне казалось, что заметка преувеличивает силу моего дарования. Я был смущен и напуган этой первой печатной хвалой. Я понимал, как много от меня потребуется в будущем. Усатов тоже хвалил меня:
– Ну что, лодырь? – говорил он, похлопывая меня по плечу. – То-то, вот! Вот так-то!
Я не решился сказать ему, что читал заметку Корганова. Совестно было.
Тем временем я продолжал встречаться с барышней. Ее звали Ольга. Отец ее, присяжный стряпчий, относился к ней довольно равнодушно. Она жила с матерью, в маленькой красивой квартирке. Мамаша – простая женщина, смотрела на жизнь очень реально. Я скоро заметил, что ей больше всего нра– вятся те богатые армяне, которые обращают внимание на ее дочь. Вообще говоря, в мамаше было что-то странное и, пожалуй, противное.
Ольга училась в петербургской консерватории, играла на рояле. Она очень хорошо и картинно рассказывала мне о Петербурге, о том, как хорош этот город, как забавно кататься зимою на вейках, и вообще она была очень интересной, очень милой девушкой.
Но взгляд у нее был гордый, эдакий «расточающий презрение».
Я стал часто бывать у нее, хотя это не очень нравилось мамаше. Ольга аккомпанировала мне. Я пел. Я любил ее больше, чем она меня. Я чувствовал, ей что-то мешает отнестись ко мне так беззаветно, как я относился к ней. Но все-таки наши отношения вскоре приняли вполне определенный характер, после чего она рассказала мне, что у нее уже был роман с тем композитором, который написал любимый ею романс «Плыви, моя гондола».
– Теперь этот человек живет в Америке, – сказала она.
Мне подумалось, что, может быть, именно эта история мешала ей отнестись ко мне так искренно, как я относился к ней, и что теперь, когда я все знаю, моя возлюбленная почувствует себя ближе ко мне. Но этого не случилось. Покровительственное отношение мамаши к богатым армянам, возмущая меня, возбуждало мою ревность. Я начал нервничать.
Однажды мне показалось, что Ольга, аккомпанируя мне, нарочно фальши– вит и путает меня. Тогда я сказал ей довольно грубо:
– Не хочу заниматься с вами!
Она швырнула в меня коробку конфет и вышла из комнаты. Я остался один, ошеломленный. Это так странно было. Человек, который казался мне духовно тонким, который несомненно был интеллигентнее меня, швыряет в меня, как в собаку, чем попало. Посидев некоторое время один, я пошел домой, чувствуя, что случилось что-то непоправимое. Свет померк предо мною, и в течение долгого времени, до новой встречи с Ольгой, я чувствовал себя точно отравленным или в тяжелом похмелье. Спать я не мог. Кровать качалась подо мною, точно лодка на воде. Наконец, у меня не хватило сил, и я пошел к Ольге, но встретил ее на улице. Она первая подошла ко мне, протянула руку и дружески попросила меня не придавать значения ее глупой вспышке. Мы помирились. Но вскоре разыгралась история еще глупее. Однажды, когда мы с Ольгой ехали в фаэтоне, мы увидали, что нас заметила мамаша, которая не была осведомлена об отношениях между нами. Мы с Ольгой, несколько встревоженные, заехали в магазин, купили чего-то и отправились на квартиру. Дверь оказалась запертой, значит, мамаша еще не пришла. Я поставил самовар, и, ожидая мамашу, мы сидели, мирно беседуя. Я говорил Ольге, что мне хочется поступить на сцену, – тяжело мне все-таки учиться на чужие средства. Просил ее не оставлять меня и, если случится, ехать вместе со мною. В это время за шкафом около кровати раздался какой-то странный звук, как будто что-то лопнуло. Мы бросились к шкафу, и – каково было наше изумление, когда за шкафом оказалась мамаша.







