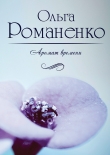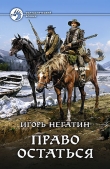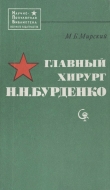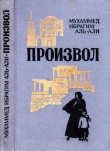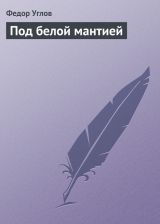
Текст книги "Под белой мантией"
Автор книги: Федор Углов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– И заметьте, – заключил я свой рассказ о Неручеве Сергею Александровичу, – в своём возрасте он пишет новые книги…. Да вот вы сейчас увидите.
С этими словами мы зашли на участок Неручева – калитка у него всегда открыта, дом тоже не заперт, хотя живёт он обычно во времянке, которую превратил в уютное жилище и рабочий кабинет.
Ещё у двери мы услышали стук пишущей машинки.
– Входите! – крикнул нам хозяин.
У Ивана Абрамовича был посетитель, старичок из соседнего села, хлопотал по пенсионному делу. Неручев как юрист дал ему консультацию, написал заявление в райсобес.
Старичок ушёл, а Иван Абрамович показал на бумаги, лежавшие на его столе:
– Кляузы разные. Приходится помогать людям, консультировать, хлопотать по инстанциям. Не убереглись мы от бюрократизма. Не убереглись. И много теряем от волокитства, бездушия.
Я представил ему своего гостя:
– Вот, знакомьтесь: Борзенко Сергей Александрович! Может, слыхали?..
– Как же! – вышел из-за стола Неручев. – Борзенко мы знаем: писатель, журналист – удостоен за подвиги в войне звания Героя Советского Союза. Личность, можно сказать, историческая. – И словно его осенило: – Вот кстати! На ловца и зверь бежит. Вы же в «Правде» влиятельный человек. Помогите нам ломоносовскую усадьбу отстоять. Предали её забвению, сносят, разрушают… Вот фотография, документы… Да я уж и статью написал…
Я взял его за руку, и он успокоился. Понял: нельзя же так с ходу атаковать гостя.
И потом, угощая нас чаем, говорил:
– Заканчиваю новую повесть, да не знаю, хорошо ли всё у меня вышло. Я, знаете ли, признаю только смелых писателей. Вот Лермонтов! Надо же ведь было всем сильным мира бросить в лицо:
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов!..
Я, знаете ли, люблю Лермонтова, как сына, как брата, как отца – да что там! – больше! Одно только сознание, что были у нашего народа такие сыны, наполняет моё сердце счастьем. Вот видите!..
Иван Абрамович показал на стены, увешанные портретами.
– Пушкин, Лермонтов, Некрасов… Поэты! Какие же это были люди!.. Или вон – Кондратий Рылеев!.. Когда оборвалась веревка, на которой его вешали, он сказал: «Я счастлив, что дважды умираю за Родину!..»
Иван Абрамович говорил страстно, горячо. Он походил на бойца, поднявшегося в атаку. Борзенко оживился – может быть, встретил брата по духу, товарища по перу, такого же чистого душой и светлого помыслами человека.
Они сидели друг против друга и говорили так, будто знакомы, были много-много лет.
Я вообще замечал: хорошие, смелые, благородные, талантливые люди, встретившись друг с другом, быстро находят общий язык, и между ними почти сразу же протягивается незримая нить взаимных симпатий, дружеского расположения, духовного родства. И наоборот: люди неискренние, некрасивые душой, встречаясь друг с другом, не испытывают взаимного расположения, они как бы слышат, чем дышит другой, и проявляют настороженность. И если уж обстоятельства понуждают их участвовать в каком-то общем деле, они поневоле идут друг другу навстречу. Однако настороженность в их отношениях остаётся, и в душе они всегда будут чужими.
Неручев и Борзенко – люди одного характера, одного строя мыслей. И случись им увидеться раньше, большая мужская дружба возникла бы между ними, но судьбе было угодно подарить им одну встречу, да и то короткую. Мы, посидев час у Неручева, стали прощаться.
На следующий день я отвёз Сергея Александровича на вокзал. Он уезжал в Москву. Перед самым отъездом вдруг загрустил, молчал и лишь изредка улыбался печально. Я обещал скоро быть в Москве, зайти к нему. Он согласно кивал, но взгляд его говорил: «Дни мои сочтены, я знаю это и спокойно иду навстречу своей судьбе».
Тягостным было это наше последнее расставание в Ленинграде.
Избрание на ту или иную научную должность всегда считалось делом исключительной важности. От этого зависела судьба не только данного научного учреждения, но и авторитет науки. И тот факт, что наши научные учреждения до последнего времени, как правило, возглавлялись крупнейшими представителями русской науки, есть результат борьбы за демократические принципы, борьбы, которую, начиная с М. В. Ломоносова, вели прогрессивные русские учёные.
Это было традицией в русской науке и обеспечивало избрание на должность директора научного учреждения самых выдающихся, самых талантливых её представителей.
Очень часто учёные сами создавали эти институты и руководили ими долгие годы, обеспечивая высокий уровень и авторитет русской науки.
Многим нашим учёным приходилось выдерживать большую борьбу с чиновниками, которым были в высшей степени чужды интересы науки и учреждения и которые, чтобы легче было проводить свою не всегда патриотическую линию, готовы были пренебречь эрудицией учёного, лишь бы иметь покладистого директора. Вспомним, какую борьбу приходилось вести основоположнику русской науки М. В. Ломоносову с Шумахером и другими иноверцами, приезжавшими в Россию за лёгкой добычей.
В традициях русской науки было строгое соблюдение демократических принципов, когда при избрании руководствовались исключительно научным потенциалом учёного, и нам трудно представить, чтобы И. П. Павлов, или Н. Н. Петров, или С. С. Юдин при избрании учёного в академики или на должность директора принимали во внимание родственные связи конкурирующего или его жены. Более того, они своих родственников не позволили бы рекомендовать к избранию, чтобы не вызвать ни у кого сомнения в беспристрастности своих суждений.
Нарушение этих правил, которые считались делом чести каждого русского учёного, приводит к тому, что в академики или на должность директора нередко выдвигаются ординарные учёные, не внёсшие никакого серьёзного вклада в науку. А если у руководства стоит такой директор, то и учреждение будет работать на том же уровне.
В традициях русской науки было правило: директорами научно-исследовательских институтов назначались умные, прославившие себя большими научными трудами учёные, внёсшие крупный вклад в тот раздел науки, по которому работает институт, и этим обеспечивался высокий уровень научной деятельности института.
Последнее время в ряде мест стала нарушаться эта прекрасная традиция. Иногда стали назначать на должность директора научного института какого-нибудь ординарного профессора, ничем не проявившего себя в научном мире. Вскоре после этого его избирают в академики, чтобы закрепить за ним должность.
И нередко бывает так: избрали такого-то директора в академию а затем, разобравшись в нём, его с директорства снимают, и он остаётся рядовым научным сотрудником, без серьёзных научных трудов и без должности. И все удивляются, почему тот или иной рядовой сотрудник оказался членом академии? За какие научные заслуги?
Такое отношение к избранию в члены академии тревожит многих учёных людей, которые привыкли смотреть на академика как на научную звезду первой величины.
Для меня лично был эталоном академик Н. Н. Петров. Большой учёный, автор научных трудов фундаментального значения и ряда монографий, по которым учится не одно поколение молодых специалистов и студентов, смелый экспериментатор, новатор в своей отрасли знаний, непрерывно открывающий новые пути и совершенствующий старые.
И в то же время удивительно скромный, никогда не выпячивающий себя, не требующий себе никаких преимуществ или привилегий. Таким академика представлял не только я, но и многие мои коллеги, большие русские учёные, также, как правило, скромные и даже застенчивые, когда речь идёт об их заслугах.
Не раз, встречаясь на заседаниях научного общества, мы в кулуарах обсуждали этот вопрос, и очень многих из нас возмущал тот факт, что на избрание того или иного учёного большое влияние оказывали родственные связи не только его самого, но и его жены. В связи с этим интерес к жёнам заметно повысился среди лжеучёных, и это не могло не волновать настоящих учёных, болеющих за престиж русской науки.
Как известно, не только хорошие, но и плохие примеры заразительны, и, к сожалению, в научных кругах некоторых провинциальных городов система необъективного подхода к избранию учёного на ту или иную должность получила довольно широкое распространение.
Как-то, возвращаясь с нашей поездки на Лену, мы приехали в провинциальный, но, правда, университетский город, куда меня приглашали товарищи хирурги. Я был в этом городе не раз. У меня там было немало добрых знакомых. На следующий день начиналось заседание научно-медицинского общества, его годичное собрание. В городе было много научно-исследовательских и учебных институтов, и учёные пользовались большим авторитетом и влиянием. Может быть, поэтому предстоящему собранию медицинского общества придавали большое значение и в медицинских кругах уже накануне живо обсуждались как научные доклады, так и предстоящие выборы нового правления.
Мы с женой получили приглашение и, не зная хорошо дороги до института, где должны были происходить заседания, вышли из гостиницы заблаговременно и, взяв такси, поехали по указанному адресу. Такси въехало в огромный двор, где на большом расстоянии друг от друга стояли великаны корпуса. У одного из них мы остановились и вышли из машины. Мы приехали рано. Люди, обслуживающие заседание, только готовили свои рабочие места. Постепенно стали подъезжать и приходить участники заседания. Вестибюль стал заполняться молодыми людьми, подготавливающими работу собрания, и учёными, которые, солидно улыбаясь, поднимали шапки и кланялись издали, увидев своих знакомых коллег. Молодые доктора, закуривая на ходу, то и дело вскидывали руки и по-разному улыбались и кланялись, увидев ли равного по рангу молодого или крупного учёного.
Вошёл по-деловому, слегка припадая на ногу, профессор Родинцев А. А. Спокойно, просто, не торопясь шёл профессор Ролев Б. В. Взбежал, на ходу пожимая руки по сторонам, Г. Е. Верхов; приветливо улыбаясь и поглаживая седеющие волосы, вошёл Д. Д. Блоков, по-деловому входили военные.
Вестибюль наполнялся учёными, которые, раздевшись и зарегистрировавшись, поднимались на второй этаж, где была организована продажа канцелярских принадлежностей, книг, медикаментов. У аптечного киоска образовалась очередь. К ней подошёл, важно откинув голову, профессор А. В. Альман.
– Зачем вы всё это берёте? – спросил он у знакомого в очереди. – Вы же здоровый человек, как я на вас посмотрю.
– Да я не себе. Я набираю всё это для своих больных. В аптеках этого не бывает, а ко мне без конца обращаются с просьбами.
Так, приветствуя друг друга и разговаривая о мелочах быта, участники сессии начинали подходить к обширному залу, где будут проходить заседания.
Раздался звонок, и учёные энергично заторопились в зал.
– Собрание объявляю открытым, – сказал седой, высокий, с сохранившейся фигурой председатель.
Президиум предоставил слово первому докладчику, директору одного из научно-исследовательских институтов.
На трибуну поднялся тучный учёный, который одновременно занимает и солидную административную должность.
Отметив достижения в области онкологии, докладчик перешёл к проблемам реанимации.
– У нас создаются барокамеры для лечения тяжёлых больных. Вот на этих диапозитивах перед вами целая система барокамер, которая стоит не один миллион рублей. Это пока единственная в нашей стране установка, созданная в нашем институте.
В СССР создаются крупные сосудистые центры, – продолжал докладчик. – Первая успешная операция была выполнена мною. Перед нами стоят большие задачи в области реконструктивной хирургии. В нашем институте производятся реконструктивные операции на трахее и бронхах…
Доклад продолжался долго. Не только в зале, но и в президиуме многие дремлют. Чтобы не уснуть, учёные начинают тихо переговариваться между собой.
– Опять саморекламой занимается, – говорит сухопарый, с бледным лицом и коротко подстриженными волосами учёный. – Как пример хорошей работы и современного оборудования приводит свой институт.
Ему бы этого стесняться, а он хвастает. Он же сам у нас в городе распределяет импортную аппаратуру. И не велико геройство снабжать свой институт не только в первую очередь, но и преимущественно за счёт других клиник. В его коридорах она стоит годами нераспакованная, а учёные задыхаются от недостатка оборудования, особенно импортного.
– Мне всегда грустно бывает, когда я слушаю его доклады, – тихо отвечает ему худощавый, с длинными седыми волосами сосед. – На какую бы тему ни говорил, а все примеры только из своего института, а своё оборудование показывает уже, наверное, пятый раз.
Последнее время взял моду – что ни проблема, он основной докладчик. Сами судите: хирургия, травматология, ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, переливание крови, пластическая хирургия… Вот далеко не полный перечень его докладов за последние несколько месяцев, которые он делал на самых авторитетных заседаниях.
– Неужели и по онкологии? Когда же он стал онкологом?
– А как же, лет тридцать назад он сделал несколько операций, при раке кардиального отдела желудка и пищевода. Этого вполне достаточно, чтобы считать себя крупным специалистом и на форуме онкологов сделать доклад о современном состоянии этого вопроса.
– А почему по переливанию крови?
– Когда-то он сделал переливание крови в аорту во время операции. И до него многие хирурги это проводили, но сенсации из этого не делали. Он же с этого времени считает себя настолько крупным специалистом, что делает доклад на высоком собрании.
Я его доклад по пластической хирургии слушал. Помощник сделал несколько операций на трахее и бронхах, и он стал первым специалистом в стране по пластической хирургии.
Когда утверждали докладчиков на международный конгресс, оказалось, что почти половина докладчиков, рекомендованных, из нашего города, были из его института.
Получается, что вся медицинская наука в городе создаётся только в его институте…
Раздались аплодисменты… Докладчик, окончив свою речь, с достоинством и сознанием огромной пользы, принесённой своим докладом, сел в первый ряд президиума.
Объявлен перерыв.
В вестибюле снова поднялся шум, как на стадионе, не слышно друг друга, даже стоя рядом.
Снова встречи, приветствия, оживлённые беседы.
Мы пришли в буфет. В углу, подперев рукой голову, профессор Раев о чем-то рассуждает с Ничковым.
У буфетной стойки очередь. Мы встали в конце её. К ней, толкаясь, подбежал Цаньвань, недавно ставший профессором.
– Эдик! – кричит ему профессор Минвипер. – Я тебе очень благодарен за полученную информацию.
– Да? Ты всё понял?
– Ну конечно! Это радостная весть! Пойдём вот за тот столик к Фогельсону. Надо с ним поговорить.
– По поводу выборов?
– Ну да.
Они направились к столикам. Раздался звонок. С нами поравнялся всеми уважаемый хирург, бывший ученик профессора С. С. Юдина – Д. А. Рапов.
– О, здравствуйте! Я недавно написал рецензию на вашу книгу.
Учёные занимали места. Мимо нас солидно прошла и села неподалёку профессор Н. П. Тегерева.
Заполнялся президиум. Вошёл и грузно опустился на центральное место заведующий облздравом. Брови у него всегда были приподняты, отчего на лбу образовалась гармошка складок. Толстое, крупное лицо устало, со скукой глядело в зал. К нему повернулись профессора Женевский и Ернух, и лицо заведующего расплылось в улыбке.
Доклад делал председатель. Он в речи обращался к заведующему облздравом с просьбой помочь организовать новый институт, поставив его во главе областного центра по аллергологии. Заведующий не реагировал. Но когда председатель сказал о необходимости вынести такой центр подальше, за пределы города, некоторые, сидящие поблизости, снисходительно заулыбались, ловя сочувствующий взгляд шефа.
В докладе председатель несколько раз весьма почтительно и даже восторженно упомянул заведующего, на что последний реагировал снисходительной улыбкой.
После доклада председателя открылись прения. На трибуну вышли несколько учёных, обычно выступающих на сессии. После чего был объявлен перерыв до следующего дня, на который был намечен ряд теоретических сообщений.
На следующий день было немного слушателей. Председатель вынужден был сделать замечание учёным и сказал, что надо регистрироваться два раза: при приходе и уходе. Учёные смеялись: «Совсем как школьники!» Тем не менее все они аккуратно приходили отмечаться. Участники собрания с нетерпением ждали административного заседания. Предстояло избрать членов правления общества, а также переизбрать президиум. К этому вопросу учёные всегда проявляли большой интерес: каждый понимал влияние персонального состава правления общества на всё развитие науки в области. Поэтому в перерывах между заседаниями часто можно увидеть группы учёных, живо обсуждающих вопросы избрания в правление.
Я подошёл к одной такой группе, где собралось несколько знакомых мне учёных. Одни из них в шутливом тоне говорили:
– Успех учёного в его продвижении в правление иногда зависит от того, насколько удачно он выбрал себе жену.
– Жёны во все времена помогали мужьям делать карьеру, это известно, – заметил Т. Ф. Федорович, мой старый друг ещё по Иркутскому университету.
– А вы что думаете, – вмешался А. К. Синяков, физиолог. – Когда посмотришь на научные труды иного учёного, то невольно думаешь, разве можно такого избрать? Значит, тут играли роль какие-то, как у нас говорят, «паранаучные» факторы.
– В самом деле, – вмешался в разговор молчавший до сих пой профессор А. М. Снегиревский. – На днях я слыхал забавную историю про учёного, который, как вы знаете, пробился у нас в большие начальники. И всё через свою новую жену.
– Этот случай получил у нас довольно широкую известность. Я не знаю, почему вы о нём ничего не слышали.
– В этой истории с профессором много справедливого. У него всего одна монография, выпущенная лет двадцать назад, и то не по тому профилю, по которому он избран на кафедру.
– Тут действительно что-то не совсем чисто, – согласились остальные.
В это время раздался звонок, призывающий учёных в зал заседания, и наш кружок распался, разойдясь по рядам большого конференц-зала.
Разговоры в нашем доверительном кружке меня заинтересовали. Слушая малоинтересные доклады, я невольно мыслями возвращался к рассказам моих коллег, думая о том, кто из учёных войдёт в правление общества. По-видимому, эти вопросы волновали не одного меня. Сидевший рядом со мной профессор А. И. Ребров нет-нет да и скажет мне что-нибудь, касающееся предстоящих выборов.
Александр Иванович Ребров – большой русский учёный и блестящий организатор. Ряд лет он работал заместителем директора онкологического института, основанного ещё до войны. С 1944 года, весь восстановительный период после войны, Александр Иванович в течение 20 лет был директором этого института, много сделав для его развития.
Он был учеником Н. Н. Петрова. Как большой учёный, он свою административную работу совмещал с активной научной деятельностью в области онкологической гинекологии. Им было впервые установлено, что рак шейки матки – одно из самых тяжёлых и распространённых онкологических заболеваний женщин – развивается чаще всего на месте послеродовых разрывов шейки матки, не ушитых в первые же часы после родов. Отметив этот феномен, Александр Иванович провёл наблюдения в ряде учреждений, где стали ушивать послеродовые разрывы. Изучив отдалённые результаты, он установил, что почти никто из этих женщин раком шейки матки не заболевал.
Это было крупнейшее научное достижение, которое спасло и продолжает спасать сотни тысяч женщин от ужасного заболевания. Опыт, опубликованный А. И. Ребровым, был воспринят большинством акушеров-гинекологов страны, чем удалось предупредить развитие рака у тех женщин, которым применяли этот метод.
Ряд других достижений в области онкологической гинекологии выдвинули А. И. Реброва в число самых выдающихся специалистов этой области в нашей стране. А будучи директором онкологического института, он мог оказывать влияние на развитие онкологической науки в городе и области. Александр Иванович отличался исключительной честностью и принципиальностью. Он не терпел фальши ни в науке, ни в общественных отношениях.
Вот и сейчас он был обеспокоен положением дел в правлении медицинского общества, видя, что здесь всячески нарушаются демократические принципы при избрании новых членов правления.
Когда был объявлен перерыв, он не пошёл в буфет, а, повернувшись ко мне, сказал:
– Боюсь, что на этих выборах правление будет проводить своих людей, не считаясь с научными достижениями кандидатов. После того, что с нами произошло, ни у кого не возникает охоты оказывать им сопротивление.
– А что с вами было? Расскажите.
– А вы разве ничего не слыхали?
– Я что-то слыхал, но через вторые источники, и не всё ясно представляю.
– Это было много лет назад. Но я всё так ясно помню, как будто это было только вчера, – начал Александр Иванович. – Были выборы в правление общества. В конкурсную комиссию вошли П. А. Прянов в качестве председателя, Б. Г. Горов, А. Г. Славин, ещё один крупный учёный, фамилию я не запомнил, и я. Обсуждались две кандидатуры: А. и Н. Мы потратили много времени, чтобы тщательно изучить научные труды того и другого. Перед работой комиссии, а также во время её работы руководящие работники области и старого правления недвусмысленно дали понять членам комиссии, что они хотят видеть избранным профессора Н. Однако когда члены комиссии познакомились с трудами обоих кандидатов, ни один из них не высказался в его пользу. Началось обсуждение.
– Мне кажется, что мы должны прислушаться к мнению облздрава и президиума, – сказал один из членов комиссии. – Не потому, что они правы, а потому, что они настоят на своём.
– Что они сделают, я не знаю, но я, во всяком случае, выполню свой долг учёного и честно выскажу свою точку зрения, основанную на документах да и на знании кандидатов и их научной ценности, – сказал другой.
– Это все, конечно, правильно. Но мы наживём себе врагов в облздраве и правлении общества, да ещё в лице кандидата, которого мы готовим на второе место, а он всё равно пройдёт!
– Что он пройдёт, в этом можно не сомневаться.
– За него многие хлопочут, даже непонятно почему. Тут, надо думать, на него большие виды имеются. Может, даже готовят его в президиум. Вот тогда он нам и отплатит за второе место, – сказал тот, кто первым выразил сомнение.
– В условиях, когда этому нет поддержки облздрава, наше поведение будет выглядеть как донкихотство и обязательно отразится на ком-нибудь из нас, а то и на всех, – мрачно сказал молчавший до сих пор член конкурсной комиссии.
– Как бы ни настаивал и президиум, и облздрав, нельзя же ставить на первое место человека, который не имеет ни одной серьёзной научной работы по своей специальности. Да и вообще он имеет всего одну монографию, написанную чуть ли не двадцать лет назад. Как же ему отдавать предпочтение перед профессором А., известным учёным, много лет работающим в этой области, имеющим солидные монографии и большое количество статей по этой проблеме? – с жаром заявил тот, кто говорил первый.
– Раз имеются такие суждения, проведём тайное голосование. Кого из этих двух кандидатов члены комиссии считают нужным поставить на первое место, – заявил председатель конкурсной комиссии профессор П. А. Прянов, раздавая всем чистые листы бумаги.
После того как каждый член комиссии написал фамилию кандидата, листки собрали, перемешали и развернули. На всей листках стояла фамилия профессора А.
Решение конкурсной комиссии надо было доложить президиуму. П. А. Прянов сказал, что его «вызывают в важное учреждение», на президиум не пошёл.
– Решение комиссии докладывал я, – продолжал Ребров. После доклада члены правления некоторое время молчали.
Первым заговорил профессор Аркисян.
– Ай-яй! – с притворным удивлением воскликнул он. – Я не знал, что вы так враждебно настроены по отношению к профессору Н.
– При чём тут враждебность и моё мнение? – удивился я. – Это единогласное решение всей комиссии.
Меня поддержал присутствовавший на заседании президиума профессор Горов Борис Григорьевич.
На собрании, как и следовало ожидать, профессор А. прошёл в правление абсолютным большинством голосов.
Наступила заминка. Объявили перерыв. Президиум вместе с облздравом пошли на совещание. Через некоторое время объявили, что имеется ещё одно место в правлении. На него, вопреки уставу, без объявления в газете, не принимая во внимание других кандидатов, поставили на голосование одну кандидату профессора Н. Несмотря на то что у него не было конкурентов, он прошёл в правление только после третьего тура голосования. Особенно настойчиво ходатайствовал за профессора Н. сам председатель правления общества профессор Акулов, который был избираем председателем двух созывов и пользовался большим авторитетом у медиков. Они предполагали избрать его опять.
Когда он пришёл на заседание конкурсной комиссии и стал просить поставить профессора Н. на первое место, один из членов комиссии и говорит:
– Что вы так хлопочете о нём? Просите, чтобы мы пошли против своей совести. А зачем это вам?
– Вы знаете, облздрав на меня нажимает. Требуют, чтобы его провели в правление во что бы то ни стало.
– Как бы он вас за ваше ходатайство не «столкнул» с председательского места да сам бы не сел на него, – сказал другой член комиссии профессору Акулову.
– Ну, до этого дело не дойдёт, – уверенно сказал председатель. – Но членом правления его можно избрать. Хоть учёный он и небольшой, зато очень активный молодой человек.
Через час после окончания выборов учёные снова собрались на общее собрание общества для избрания председателя и членов президиума медицинского общества.
Один из сидящих в президиуме встаёт и вносит предложение избрать председателем профессора Н.
Все учёные открыли рот от удивления. Председатель же сидел бледный, с красными пятнами на лице и шее. Похоже было, что это для него было совершенно неожиданно, что никто из инициаторов не нашёл нужным поставить его в известность о кандидатуре председателя. После нескольких перебаллотировок профессор Н. был избран председателем правления медицинского общества города.
В тот же день члены комиссии уже в кулуарах, стоя около лестницы, обсуждали итоги выборов. В то время по лестнице поднимался бывший председатель. Поравнявшись с членами комиссии, он, взглянув на того, кто его предупреждал о профессоре Н., сказал:
– Вы как пророк – далеко вперёд видите! Как вы это догадались, что они что-то замышляют, не согласовав со мной?
– Мы ничего не знали, но возня вокруг этой кандидатуры была слишком активной и показалась нам подозрительной.
Между тем председатель, привыкший, чтобы к нему относились с уважением – он своими научными трудами и самоотверженной работой заслуживал этого, – тяжело переживал эту историю. Сразу же после заседания он слёг в постель и долго не мог работать. Он, но существу, так и не поправился как следует после такого оскорбления. И все мы не сомневались, что его преждевременный уход от нас в значительной степени был связан с этим эпизодом.
Рассказ Александра Ивановича Реброва напомнил мне все эти и последующие события, которые происходили на моих глазах, но были мне тогда не совсем понятны. Только после рассказа Александра Ивановича всё это у меня встало на свои места, и становилось понятным поведение многих членов правления общества и облздравотдела.
Между тем Александр Иванович продолжал свой рассказ:
– Прошло несколько месяцев относительного спокойствия. Однажды, зайдя в правление медицинского общества, я увидел Бориса Григорьевича Горова, который казался несколько смущённым.
– Что-то в президиум меня вызывают. Не понимаю, зачем я им понадобился?
Через час мы снова встретились в коридоре общества. Борис Григорьевич был сильно взволнован.
– Вы представляете себе, Александр Иванович, такого ещё медицинское общество не знало. Когда я пришёл в президиум, они без всяких обиняков заявили мне, что меня снимают с должности директора института, где я работал 40 лет, из них 20 – в должности директора. Как вы знаете, я заменил умершего основателя этого института Николая Николаевича Руденко!..
– Какая же причина вашего увольнения? – с удивлением спросил я.
– Причин никаких нет. По возрасту, говорят, вам уже давно пора уходить. А место нам нужно для другого. По-моему, всё связано с прошлыми выборами.
– Это вы имеете в виду работу нашей конкурсной комиссии?
– Конечно.
– Не может быть, чтобы учёный показал себя таким мелочным.
– Нет, вы его не знаете. Чтобы сделать карьеру, он способен на всё.
– Кого же прочат на ваше место?
– Переводят из другого города нашей области профессора А. И. Рутяна, моего ученика, которого я всегда принимал у себя как родного и который клялся в своей преданности.
Так накануне своего 70-летнего юбилея был смещён с должности директора в полном расцвете творческих сил один из крупнейших учёных Б. Г. Горов.
Все были возмущены таким отношением к учёному. Он был в полной форме, физически здоровым и крепким, выглядел моложе своих лет, а главное, имел ясную, светлую голову.
Новый директор А. И. Рутян должен быть утверждён в этой должности на сессии правления общества путём тайного голосования. Абсолютным большинством голосов он не был утверждён директором. Однако, вопреки уставу, оставлен в этой должности. Три года подряд эту кандидатуру ставили на утверждение каждый раз проваливали абсолютным большинством голосов. Так непопулярна была его кандидатура и как учёного, и как человека. Однако на должности директора он оставался вопреки уставу.
Б. Г. Горов, окружённый симпатиями и сочувствием всех учёных, продолжал трудиться уже вне стен родного института, занимаясь в основном творческим трудом.
Но почему-то его лишили возможности отдавать народу в полном объёме свой талант и свои знания.
А в это время А. И. Рутян, который был моложе своего предшественника, только числился директором, а время проводил в больнице. За три года его баллотировки на должность директор он перенёс три инфаркта. При последнем у него началась фибрилляция желудочков, для снятия которой ему свыше тридцати раз применили дефибриллятор.
– Чем же объяснить, что у Рутяна сердце так сдавало? спросил я Александра Ивановича.
– Не каждый человек свой некрасивый поступок так легко забывает. Некоторых мучает совесть, всё это и отражается у них на сердце. А у профессора Рутяна и другие причины для переживания, ведь, по существу, медицинское общество относилось к нему с неприязнью за его поступок с Борисом Григорьевичем Горовым.
Но этим не кончились гонения на членов экспертной комиссии, – продолжал Александр Иванович. – Через год после снятия с должности Б. Г. Горова я, как директор онкологического института, случайно узнаю, что председатель правления общества разговаривал якобы в горкоме о новой кандидатуре директора нашего института, но даже не заглянул в наш институт.