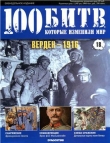Текст книги "Из писем прапорщика-артиллериста"
Автор книги: Федор Степун
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Снаряд разрывается сзади меня, и я вижу, что от той халупы, из которой я только что выехал, осталась всего только одна труба.
Я приехал на батарею в самый раз. По приказанию командира Вильзар ставил рядом с первым взводом еще второй и третий. Во время их выезда на позицию батарея обстреливалась, люди и лошади страшно волновались и бедный Вильзар разрывался от тщетных усилий привести[62]весь этот хаос в порядок. К довершению всего панически бежавшие из обстреливаемой Радомки провиантские двуколки порвали нашу телефонную связь с командиром батареи, и мы окончательно сели на мель.
В восемь часов вечера все. наконец, смолкло и успокоилось. Безмолвная и, как в Свиднике, безлунная, звездная ночь спустилась на землю. Мы отошли к нашим передкам, которые стояли саженях в ста за батареей; соорудили себе на обочине шоссе ширмы из попон и брезентов, поставили самовар, зажгли две свечи, достали ветчину, куличи, пасху, яйца и стали пить и есть. Из темноты в наше светлое пятно то и дело вступали то люди, то лошади и, промелькнув, снова терялись во мраке. Проходили усталые пленные со смутным образом той снежной Сибири перед глазами, о которой они слышали столько ужасов: проходили легко раненные, пронося сквозь крут нашего света свои руки, пальцы и головы в окровавленных бинтах; прошла, чуть не разорив наш домашний очаг, опаленная, местами в одной коже, лошадь; показались носилки с тяжело раненными. Раненые стонали и просили: «Ради Бога, потише»...
После ужина командир пошел спать в санитарную двуколку, а мы с Вильзаром, найдя более или менее сухое место близ шоссе под березой, велели денщикам разложить наши постели и легли одетыми, завязавшись в спальные мешки, покрывшись полушубками.
Стало совсем тепло и как-то колыбельно уютно. Сознание, что сюда вряд ли долетят тяжелые, разве только случайные, так и баюкало душу. Лежа рядом и смотря сквозь ветви березы на звезды, мы докуривали по последней папиросе. Было тихо-тихо. В ближнем лесу что-то не то заплакало, не то застонало. «Это сова?» – спросил я Вильзара. – «Нет, вероятно, неподобранные раненые стонут», – ответил он, помолчав. С этим странным диалогом на устах заснули мы с ним крепким честным и трудовым сном на второй день Светлого Христова Воскресения, кстати сказать, совпавшего на этот раз «у нас» и «у них».[63]
К жене. 1-го апреля 1918. Сосфюрет (Венгрия).
Я ужасно долго не писал тебе. После письма, переданного тебе Грациановым, написал еще два письма. Одно ты получила; получила ли второе – не знаю. Телеграмму к Пасхе послал в день Светлого Воскресения. Твою поздравительную получил вчера.
Маме я шлю с подателем сего большое письмо-хронику. Из него ты узнаешь все внешние события за последнее время: работу на Страстной, встречу Пасхи и бои на Святой. Тебе же я хочу написать нечто совсем другое, но сейчас мне мешает какая-то тяжелая усталость. Думаю лечь на время; быть может, после сна будет лучше писаться...
Уже восемь дней, как мы живем в окопах. Три холодных ночи я спал просто на шоссе под открытым небом; остальное время то торчал на позиции под дождем, то вертелся в нашей тесной и мокрой дыре, постоянно задевая локтями то один, то другой предмет. Не выдержал и третьего дня затеял себе отдельный от всех окоп. Взвод постарался, и у меня получился почти что дворец, т.е. комната в четыре шага ширины, в четыре с половиною длины, и такая высокая, что я могу в ней свободно стоять во весь рост. Печники сложили мне каменную печку, столяры сделали два стола, один обеденный, другой – «барыне письма писать», как объясняет Семен, еще какие-то специалисты вставили окно и выложили весь куб тесом. Сейчас я впервые забрался в мое новое помещение. Перед тем как сесть писать тебе, я чисто прибрал свою горницу: попросил вымыть пол, нарубил сосновых веток и все убрал ими. Затопил печку, закрыл дверь, и стало совсем уютно. Пахнет сосной, сигарой, которую мне подарил милейший Иван Дмитриевич, к моему величайшему огорчению, переведенный под Пасху во вторую батарею, одеколоном и мылом. На мне надета только что присланная тобою шведская курточка и новые желтые сапоги. Маленькое пасхальное яичко так и висит на пуговице куртки, как ты его повесила. Как грустно, что ты не можешь заглянуть ко мне. У меня, право, так хорошо, что я мог бы достойно принять тебя. Так уютна зеленая кровать среди зеленых лап сосны и можжевельника; так задумчиво разговаривает сама с собою[64]догорающая печь; так невелико окно, которым мой шалашик смотрит на лесистый овраг, что мы должны были бы тесно прижаться друг к другу, чтобы смотреть на тихий сыроватый осенний день...
1-го апреля. 10 ч. вечера.
Днем мое письмо прервали. Приехали два поручика второй батареи, пришел с наблюдательного пункта командир. Все забрались ко мне, весело поздравляют с новосельем, кричат хором, что достаточно писать. Я покорился, быстро подсунул письмо под газету и стал ждать вечера. Вечер наступил. Вильзар с вновь назначенным к нам поручиком пошли в свой окоп, а мы с командиром (он окончательно перебрался ко мне) сели каждый за свой стол; он достал Джека Лондона, а я письмо. Достать-то я его достал, но чувствую, что долго не пропишу. Я уже днем жаловался тебе на сильную усталость, к вечеру она возросла: болит голова, и какая-то круглая ложка выворачивает правый глаз из глазной впадины – знаешь, как мороженики вынимают летом свою шарообразную порцию сливочного или фруктового. Ты простишь потому, если строки мои будут сегодня совершенно не тем, чем они хотели бы быть.
Вчера, дежуря на батарее и лишь изредка постреливая по неприятельским окопам, я перечитывал «Дворянское гнездо». Наслаждался я бесконечно, и грустно мне было так, как, кажется, не часто бывало. Почему мне было так хорошо, почему мне было так грустно, мне тебе не сказать. Я сам еще не постиг ни этой новой открывшейся мне красоты, ни этой новой моей грусти* Когда я в последний раз читал «Дворянское гнездо» (это было много лет тому назад), для меня на первом плане стояла трагедия Лизиной любви. Помню, я досадовал на Лаврецкого и, ставя себя мысленно на его место, определенно чувствовал в себе волю к нашему с Лизой счастью, определенно ощущал свой долг вырвать Лизу у стен монастыря во имя подлинной святыни любви и страсти.
Теперь все было совершенно иначе. Меня потрясла вовсе не трагедия Лизиной любви, но совсем иная трагедия присужденности всего живущего к старости и смерти. Я понял, что Лиза уходит в монастырь совсем не потому, что к Лаврецкому вернулась Варвара Павловна. Совсем[65]нет. «Христианином нужно быть вовсе не для того, – заговорила не без усилий Лиза, – чтобы познавать небесное там, земное, а потому что каждый человек должен умереть».
Это «должен умереть» одни из первых слов, сказанных Лизой Лаврецкому. В ее остром чувстве страшного смысла этих слов и кроется только и замеченная мною на этот раз причина ее ухода в монастырь. И от этих слов неизбежной смерти, прочитанных мною между двумя батарейными очередями по окапывающимся австрийцам, совсем по-новому раскрылся мне весь роман. Я как-то совсем по-новому заметил, что в «Дворянском гнезде», за исключением пустого, бездушного, а потому и недостойного старости и смерти Паншина, совсем нет людей нестарых и, что важнее, не стареющих на глазах у читателя. Со страшной грустью увидел я, что в Васильевском Лаврецкому служат два обалделых от старости существа, что Марфа Тимофеевна и Настасья Петровна глубокие старухи, что Лемм одною ногою уже стоит в могиле, и что его слова «alles ist todt und wir sind todt» невероятны по жестокой своей выразительности. С новою грустью и новою взволнованною внимательностью следил я за тем, как прекрасно и тонко описаны у Тургенева признаки начинающейся старости у парижской львицы Варвары Павловны, как быстро зреет ее упрежденный в своем развитии городской ребенок, кукла-статуэтка Адочка. Знаменательным показалось мне и то, что у того мужика, который так истово молился в церкви в час последнего свидания Лизы и Лаврецкого, только что умер сын. Все это и многое другое, с какою-то новою зоркостью и новою бдительностью внимательно выслеживалось и выпытывалось мною у совершенно нового для меня романа и когда, наконец, оно, все это тайное, острое и неумолимое о старости и смерти вдруг собралось и вылилось в словах Лаврецкого: «здравствуй, одинокая старость, догорай бесполезная жизнь», то я безумно испугался за великую покинутость Лаврецкого в жизни и внезапно понял, как прочны и спасительны белые стены Лизиного монастыря. Как мне захотелось в монастырь, Наташа, как я остро почувствовал, что все стареет, и что я старею, и что жизнь уходит, и что жизнь ушла...
Вот сейчас разорвался за оврагом тяжелый. Это перелет по батарее.[66]
Теперь дальше все очень смутно в странно: жизнью я почувствовал в себе все неизжитое мною, все мои бедные мечты, так одиноко и сиро слоняющиеся по пустынному Божьему миру, а монастырем воссияла мне моя настоящая, реальная жизнь, моя любовь, мое счастье, ты. И, Боже мой, смогу ли сказать тебе, как страстно мне захотелось укрыться и от моей мечты, и от грядущей старости и смерти за крепкою, высокою и белою, за монастырскою стеною нашей любви. Да, здесь я понял, что нам с тобою нужно прочно держаться друг за друга, что мы друг для друга все, что больше у каждого из нас ничего нет. что пышный сад нашей любви уже задумался над ждущей его осенью, что он, хотя и не скоро, а все же уж завтра прострет свои ветви в зимнюю стужу....
Да, в сущности, вся жизнь есть умирание, «alles ist todt und wir sind todt».
Конечно, думал я обо всем этом не в первый раз. но вчера в моих осенних думах была какая-то новая яркость и небывалая острота. Может быть, потому, что рождавшейся во мне песне без слов о нашем счастье, все более и все безотменнее оковываемом смыкающимся кольцом грядущей смерти, так дружно аккомпанировали и вся моя теперешняя жизнь, и ранняя весна, похожая на глубокую осень... Сидел я в окопе с закрытыми глазами. Мокрый брезент у входа судорожно бился в холодном, осеннем ветре, свистевшем, казалось, у меня в позвоночнике. Ноги замерзали в мокрой соломе, а в голове и в висках разгорался какой-то не то нервный, не то лихорадочный жар.
Душу все еще стерегли воспоминания о пасхальных днях, когда после тяжелой боевой работы (я только чудом спасся) мы темною ночью пили чай на шоссе, создав уют и домашний очаг между двумя попонами, и чувствовали себя такими счастливыми и укрытыми по сравнению с проходившими мимо пленными, ранеными и теми еще неподобранными, стоны которых временами доносились до нас...
А над этими картинами ада возносился, как на старых иконах, райский мир только что прочитанного «Дворянского гнезда». Как странно, Наташа, что райский мир на этот раз мне рисовался миром смерти. Красота строгого искусства Тургенева как-то беспереходно сливалась с красотою моей жизни. И так отрадно мне было сознавать,[67]что когда я вернусь в свое гнездо, то не под моим пальцем и не в чужом доме, и не чужим одиноким стариком сочиненная раздастся песнь моей любви, но ты сама сядешь за наше старенькое пианино и сыграешь мне 3 этюда Шумана, вальсы Шопена и прелюдию Скрябина, что так часто играла мне, когда мы были молоды.
Я сидел, думал и грезил. Дождь хлестал все сильнее. Все злее и отчаяннее метался брезентовый парус у входа в окоп. Голове становилось все жарче, а ногам все холоднее, и так отчаянно хотелось комнаты с мягкой мебелью, свечами и ковром (ведь есть же, наконец, где-нибудь в мире комната, в которой свечи не гаснут от ветра) и твоей милой руки душистой и в знакомых кольцах. И так окончательно все это было недостижимо, и так ничего не ждало впереди, кроме ночи в улучшенном окопе и еще долгих дней войны. Мне чувствовалось, что со мною творится что-то неладное, что я заболеваю...
3-го апреля.
Я отпросился у командира отдохнуть и на сутки уехал в ближайшую деревню, где с величайшим наслаждением просидел свой отпуск в полном одиночестве. День выдался спокойный и ясный. Я с давно неиспытанным удовольствием ходил, ни с кем не сталкиваясь, по довольно большой избе и думал свою думу, ни разу не прерванную никаким грубым окриком на нижних чинов. О, если бы чаще были такие дни; как бесконечно легче было бы переносить войну. А то вот сейчас мы стоим на отдыхе, а душевно никакого отдыха не получается: в двух маленьких комнатах нас десять человек. Два командира беспрестанно кричат на оторопелых солдат и ставят несчастных под ранец за то, что в колодцах мутная вода; кто-то играет на фисгармонии, двое что-то поют, а двое других хмуро и зло ходят маятниками по комнате. Особенно раздражает ругань. Временами прямо-таки судорога схватывает горло. Сегодня снова очень болит голова.
5-го апреля.
Я всегда был и всегда останусь идеалистом в философском смысле этого слова. Я вполне согласен с нашими[68]академическими защитниками духовного смысла войны, или, вернее, я согласен с Платоном, Аристотелем, Спинозою. Малебраншем, Кантом. Фихте, Шеллингом, Гегелем и Соловьевым в том, что жизнь, факт, не есть последнее, ведомое сердцу и доступное постижению. В мире, конечно, наличествует нечто бесконечно превышающее жизнь, как факт, наличествует то, чему можно и должно приносить в жертву фактическую, эмпирическую жизнь. Это высшее дано вере – как Бог, философия – как идея, искусству – как образ, всякому обыкновенному смертному – как любовь и мечта, сыну отечества и патриоту – как родина, ну и т.д. Все это самоочевидности. Отсюда понятно, что война может быть событием хотя и трагическим, но праведным и священным, может быть делом священного принесения народами жизней своих сынов в жертву наджизненной национальной идее.
Но для того, чтобы осуществлялась такая священная война, в ее основе должны бить нерушимы следующие два условия: во-первых, идея, во имя которой люди приносят в жертву свои всегда и во всяком случае драгоценные жизни, должна быть действительно Божественной идеей, а не человеческой выдумкой, а во-вторых, каждый – исключения абсолютно не допустимы – кто несет свою жизнь к священному жертвеннику, должен быть безусловно охвачен и проникнут, более – должен быть всецело, во всем своем бытии и существе, убит и заново рожден этой идеей.
Я хочу сказать, что священная, да и просто честная воина возможна исключительно при условии свободной и добровольной отдачи каждым воином своей жизни в жертву той идее, в осуществлении которой он видит единственный или, по крайней мере, высший смысл своей жизни.
Между войною, которую мы переживаем, и нарисованною мною войною, сходства нет. Одно из двух: или то, в чем я участвую, не есть война, а ужасная бойня, или то, что я определил как войну, не есть война, а есть некое теургическое действо, или называй как-нибудь иначе, это все равно.
Когда защитники духовного смысла войны «творчески горят о войне», они вряд ли достаточно ясно видят, что здесь у нас происходит. Они вряд ли узревают, что здесь над миллионами людей, поставленных в ряды защитников родины, отнюдь не созерцанием идеи, а принудительной[69]силой государственной власти ежедневно приводятся в исполнение неизвестно кем по какому праву вынесенные смертные приговоры. Они не узревают, что подавляющее большинство воюет только потому, что попытка избежать вероятной смерти в бою ведет прямым путем к неминуемой смерти по суду через повешение.
Это «эмпирия», с которой нельзя не считаться. Пребывая в постоянном созерцании ее, я не могу не видеть, что о свободном приятии нашими солдатами в свою жизнь наджизненной идеи войны и жертвы могут говорить только самые неисправимые, слепые фанатики, или самые отъявленные, лицемерные мерзавцы.
Нет, я решительно отказываюсь религиозно или философски оправдывать не идею войны, а ее современное воплощение, и отказываюсь потому, что воочию вижу, как нашим «христолюбивым» воинам спускают штаны и как их секут прутьями по голому телу, «дабы не повадно было». Впрочем, зачем же сразу говорить о порке? Разве недостаточно того, что всех наших солдат ежедневно ругают самою гадкою руганью и что их постоянно бьют по лицу? Ну как же это так? Людей, доразвившихся до внутренней необходимости жертвенного подвига, да под ранец, да первым попавшимся грязным словом, да по зубам, да розгами... И все это иной раз за час до того, как бивший пошлет битого умирать и смертию сотен битых добьется чина или Георгия.
И это священная война? Нет, пусть ко мне не подходят с такими словами. Ей Богу, убью и рук своих омыть не пожелаю. Я уверен, что я ничего не окрашиваю в личный цвет; наоборот, мое личное самочувствие много светлее моей точки зрения на вещи. Я лично прежде всего страшно заинтересован всем происходящим во мне и вокруг меня. Я живу сейчас так интенсивно, как еще никогда не жил. Я безусловно сильно отстану от передовых людей науки в книжной начитанности, но я с каждым днем все яснее ощущаю, как я сам в себе крепну и утверждаюсь. Во мне сейчас много самого первозданного знания о самой сущности жизни. Тургенев прекрасно написал графине Ламберт: «возможность умереть в самом себе есть, быть может, одно из самых сильных доказательств бессмертия».
Очень легко, впрочем, отрицать войну, как дело, совершаемое всем человечеством. Много труднее отрицать ее,[70]как дело народа, которому брошен вызов. Страшно трудно сказать, что нужно было делать России в ответ на объявление ей Германией войны. По существу возможен только один ответ. Поднять со всей Руси все святые и чудотворные иконы и без оружия выйти навстречу врагу. Как ни безумно звучат эти слова, серьезных возражений себе я не вижу. О том, что неприятие войны с религиозно-нравственной точки зрения много выше, чем самое честное и даже вдохновенное приятие ее, не может быть и речи. Претерпевать страдания неприемлющим пришлось бы такие же, что и приемлющим, но им не пришлось бы их никому причинять. Что же касается практической точки зрения, то, во-первых, решать вопросы нравственно, прежде всего и, значит, решать их независимо от практических результатов принимаемых решений, а во-вторых, не страшное ли то заблуждение, что банкиры устраиваются в жизни практичнее юродивых? Наконец, вольны ли мы вообще ставить все эти вопросы, раз они абсолютно решены во Христе. Нельзя же действительно быть христианами и во имя Христа убивать христиан! Исповедовать, что «в доме Отца моего обителей много», и взаимно теснить друг друга огнем и мечом. Я всем своим существом чувствую, какая громадная правда жила в Толстом и в его утверждении, что воина, суд, власть – все это ложь, сплошная ложь, сплошное безумие. Кто это понял, тот понял навек. Я чувствую бессилие всех «мнений» о войне, я знаю о ней истину.
Не могу больше думать, расскажу тебе лучше, как я недавно не то в мечтах, не то в забытьи был в Москве. Приехал я на Брестский вокзал и вышел на платформу. В Москве стоят иногда прекрасные ранние весенние вечера. Мостовые чисты и влажны, небо сине, прутья и листочки дерев после короткого весеннего дождя как-то особенно свежи, за оградами... Я взял хорошего извозчика и тихо, обязательно тихо, поехал по Тверской к Страстному. Ах, как хорошо ехать, как мягко сидеть, как притаилось сердце, как глубоко затонула в захолонувшей крови всякая мысль. Я боюсь повернуть голову, боюсь снять ногу с ноги, безумно боюсь потревожить приснившийся мне сон наяву. Еду и все прошу тише, тише, и все смотрю, смотрю по сторонам. Странно, все настоящее, самое настоящее, привычное, московское. Так, значит, Москва еще есть, а ведь мне не верилось. Вот трамваи,[71]те самые, что шли по Тверской ранним весенним вечером, когда мы, встретив вернувшегося из-за границы Л., ехали с ним в коляске вдоль всех бульваров на Остоженку. А вот и нелепое, памятное здание счетоводных курсов Езерского, где я впервые слушал златокудрого дионисиста с его характерною походкой, изысканным наклоном львиной головы и прекрасными белыми руками с черным перстнем. Еду дальше и все смотрю. Особенно странно видеть изящных, нарядных женщин; почти непонятно, что это за существа. Помнится, я бывал когда-то среди них; впрочем, это, кажется, был не я. А вот направо ворота с двумя львами. Помню, были, кажется, в моей прежней жизни такие ворота. Был и тот книжный магазин, в котором я покупал книги, когда писал о Достоевском. Итак, я, правда, в Москве. Итак, я действительно я. Вот этот я, который едет сейчас на извозчике в серой шинели, в высоких сапогах, в усах и бородке, и есть тот же самый, который сидит с ним рядом, бритый, длинноволосый, в широкополой шляпе и широком пальто. Как странно, ах, как странно, как странно все. Но если я, правда, в Москве, почему же мой странный спутник-двойник не говорит мне самого главного; зачем он показывает мне трамваи, здания, а не везет меня прямо к тебе. Я хочу спросить его, но почему-то не спрашиваю. Наконец, я решаюсь... «Николай Федорович, вы, может быть, съездите завтра поискать боковой наблюдательный пункт»... Я встаюспостели, лежа на которой я грезил наяву; вся раскрывавшаяся предо мной жизнь внезапно отлетает, и в душе остается зияющая пустота, в которой мечется одинокая, злая тоска...
Я не знаю, что со мной случилось в последнее время, но мне стало много тоскливее. Думаю, что причина этой перемены в нашем новом командире, от которого в значительной степени зависит общебатарейное настроение. Когда нами командовал Чаляпин, мы жили прекрасно. Он такой милый, внимательный, уютный, и когда нет боев – такой веселый. А наш новый георгиевский кавалер, изумительный офицер в бою, в мирной жизни безнадежно мрачен, суров, угнетающ и страшно крут с солдатами.
Сейчас его нет дома, и у нас очень уютно. Вильзар сидит за фисгармонией и одним пальцем тянет разные ноты. Он очень удачно подражает всяким инструментам: то слышится скрипка, то флейта, то человеческий голос.[72]
Так ярко вспоминается, как в полутемном театральном зале, когда партер еще совсем пуст, в ложах бенуара и бельэтажа видны только дети и подростки, и лишь верхние ярусы уже набиты народом, настраивается великолепный оркестр Большого театра. Андрей Карлович очень музыкален и в свою шуточную импровизацию так незаметно и искусно вплетает один из лейтмотивов Тристана. А на моем столике стоят духи. И вот это сочетание музыки, театра, моих дум о Тургеневе и запаха духов как-то окончательно надрывает мою душу. Боже, что отдал бы я за то, чтоб быть в Москве с тобою... Сейчас я даже сомневаюсь в моем основном убеждении, что бесконечность любви на земле заключается в ее трагической необходимости отрицать любимого человека, как свой конец и свою вершину. Сейчас я верю, что любовь есть вовсе не любовь к тому, чего нет, а к тому, что действительно есть. Хотя, может быть, это только потому, что ты мне сейчас постольку же дана, поскольку и взята у меня. Как мне не хочется кончать это письмо. Но надо. Часов в шесть вечера наш фейерверкер отбывает в Москву. Как я хотел бы быть на его месте. Но это праздная мечта. В нашей дивизии отпускают очень туго; в других, более счастливых в этом отношении, уже все офицеры побывали в отпуску, а некоторые так и по два раза. Впрочем, и у нас ездили в Москву уже четверо офицеров. Может быть, если бы я очень похлопотал, то и мне удалось бы вырваться недели на две. Но я все еще внутренне не решил ехать ли мне. Во-первых, уж очень будет трудно возвращаться, а во-вторых, против поездки живет во мне какое-то странное, почти суеверное чувство. До сих пор я не разрешал себе в пределах моей военной жизни никаких личных желаний или нежеланий. И, мне кажется, что за эту покорность война была ко мне милостива. Я боюсь, если я разрешу себе по отношению к ней свою волю, то и она проявит в отношении меня свою темную, жестокую власть. Мне почему-то думается, что если я сам корыстно выхлопочу себе отдых и свидание, то у судьбы будет как будто больше права, не оставив от меня ничего, что можно бы было похоронить, закинуть мою руку на макушку сосны. Романыч, которого на днях чуть не убило, – разрывная ружейная пуля ударила в бинокль и искривила его – видел такую картину. Ты подумай, как странно: бинокль был совсем случайно как раз в этот день[73]неправильно надет денщиком Романыча на другую сторону ремня, за что денщику и попало утром.
Вот какие чувства не пускают меня в Москву. Однако думается мне и обратное: как раз потому, что каждую минуту может прилететь восьмидюймовая, мне абсолютно необходимо рассказать тебе все, что довелось мне пережить со времени нашей разлуки, что пришлось передумать, перечувствовать и заново создать в себе за эти тяжелые месяцы. Мне необходимо жизнью завещать тебе себя. Вот ты и подумай про себя, хлопотать мне о командировке или нет, и напиши, как решишь.
Сергею Г-ну.
10-го апреля 1918 г. Месциско (Венгрия).
Прости, что до сих пор не собрался еще написать тебе, хотя бы несколько слов. Большое тебе спасибо за память твою, за письма, за шоколад, папиросы и обещанную статью.
Не пишу потому, что слишком хотел бы писать и тебе, и В., и И., и еще очень многим. Минутами, когда голоса войны стихают, до меня явственно доносятся голоса «интеллектуальной» России. Я страшно жалею, что самые острые проблемы решаются и самые горячие споры протекают во время моего пребывания за границей, т.е. в Галиции, а теперь в Венгрии.
Я жалею, но у меня есть и одно большое утешение: если мне только дано будет вынырнуть живым и физически здоровым (за мое духовное равновесие я совершенно спокоен) из моря событий и случайностей войны, то моим пребыванием в первом ряду сражающихся я куплю право говорить о войне все то, что буду о ней думать, и возможность думать о ней то, что она на самом деле есть.
Мое основное сейчас убеждение то, что все, кто пишут о войне, решительно ничего в ней не видят и не понимают. Ты не можешь себе представить, до чего часто мы все, т.е. офицеры нашей бригады и наших полкон, громко и весело хохочем, читая в окопах получаемые нами «Русское слово», «Огонек», и др. органы. Я уже не говорю о таких «лапсусах», как утверждение, что «гранаты, разрываясь, осыпали окопы шрапнельными пулями», или о[74]рисунке с подписью «Наши казаки рассматривают неприятеля в дистанционную трубку». Таких курьезов в каждой газете десятки, причем, конечно, не важно, что есть люди, не знающие разницы между дистанционной трубкой и подзорной трубой, гранатой и шрапнелью (слава Богу, что такие еще есть), но очень важно, что как раз они пишут о войне. Не говорю я и о безответственных дедукциях наших побед резвым пером словоблудствующего М. Ведь его статьи – не статьи, все акты того доверия, которое русское общество оказывает нам, защитникам родины; ну как не соврать на почве нравственной поддержки общества и материальной поддержки себя. Хотя все-таки было бы лучше, если бы он писал лишь в расчете на профессиональную необразованность читателей, а не на их поголовную человеческую глупость. Однако еще решительнее и очевиднее скудоумие жанрописцев войны.
Заведуя с самого формирования батареи артельным хозяйством и все время покупая, т.е. отбирая за деньги, у нищих галичан их предпоследних коров, я отлично понимаю, почему, расставаясь с коровой, галичанка плачет, кричит, целует мои руки и кусает руки того солдата, который уже накидывает веревку на рога моей жертвы.
А вот Евгений Ч. не понимает этого и удивляется нежной любви галичанки к своей корове, удивляется, как это галичанка сохранила такую любовь к скотине среди зла, ужасов и смертей, взволновавших человеческую жизнь. Этакая, подумаешь, нежная душа у галичанки; душа подлинной русской женщины.
А вот публицист «Русского слова» рассказывает о том, как русский солдатик (до чего я ненавижу эту уменьшительную форму!), накормленный в Тарнове австрийскими сестрами милосердия, просит у них «счет». Узнав же, что его кормят не ради денег, а во имя Бога, все еще долго топчется на пороге и, наконец, смущенно сует сестре в руку пятиалтынный. Какая отвратительная двойная ложь! Во-первых, ложь эстетическая: что это за солдат, который просит «счет» (ложь образа); во-вторых, – ложь метафизическая: русский солдат прекрасно понимает, когда его кормят во имя Бога, и когда ради денег. Он не публицист и денег с Богом не путает.
Читали мы тут тоже, как русские солдатики ухаживают за юными добровольцами, как берегут им лучшие порции, как покрывают их ночью всяким тряпьем, чтобы[75]не мерзли хрупкие тельца. На самом же деле мы видели нечто совсем другое. В нашей же батарее было семь юных добровольцев (теперь ни одного не осталось, все «поутекали» обратно), что явились к нам с лозунгом «Или грудь в крестах, или голова в кустах».
Солдаты все, как один, относились к ним с решительным недоброжелательством, а подчас и с явным презреньем и ругали их самыми отборными словами. Я ни минуты не хочу сказать ничего скверного о наших солдатах. Прекрасные люди, нежные души. У меня с ними совершенно исключительно хорошие отношения. Но, прекрасные люди, они прежде всего настоящие реалисты, и им глубоко противно все зрящее и показное. Добровольцев они презирают потому, что добровольцы пришли в батарею «зря», потому что они ничего «настоящего» все равно делать не могут, потому что их привела в ряды защитников отечества не судьба, а фантазия, потому что для них театр военных действий в минуту отправления на него рисовался действительно всего только театром, потому, наконец, что добровольцы эти бежали от того глубоко чтимого солдатами священного, полезного и посильного им домашнего труда, который после их побега остался несвершенным на полях и в хозяйствах.
Так врут или, по меньшей мере, детонируют все газетные живописцы войны. Брюсов и А.Н.Толстой, к сожалению, тоже не исключение: читая их, получаешь впечатление, что они задались целью изобразить поверхностностью своих наблюдений быстроту автомобильного бега.
Хуже, однако, чем ложь фактописи ужаснейшая ложь нашей идеологии. «Отечественная война», «Война за освобождение угнетенных народностей», «Война за культуру и свободу», «Война и св. София», «От Канта к Круппу» – все это отвратительно тем, что из всего этого смотрят на мир не живые, взволнованные чувством и мыслью пытливые человеческие глаза, а какие-то слепые бельма публицистической нечестности и философского доктринерства. Вот тебе пример.
«Война объединила общею скорбью и общею судьбою русских, поляков и евреев» – это из газет, а вот что у нас. Галиция, весна, прекрасная погода. По каменистой горной дороге несутся вскачь паршивенькие санки. В санках, вытрепав наглый чуб из-под папахи, сидит[76]молодой казак. Верхом на запряженной в сани тощей кляче. у которой ребра как ломаные пружины в матраце, трясется в седых пейсах рваный, древний «жид» с окаменевшим от ужаса лицом. Казак длинным кнутом хлещет «жида» по спине, а жид передает удар лошади.