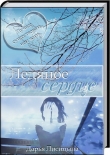Текст книги "Пятиэтажная Россия"
Автор книги: Евгения Пищикова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
Воскресная шляпка
Особенности приходской жизни

Воскресное утро вступает в свои права. «Оживление царит в церковном садике; дамы и мужчины парами и группами прогуливаются среди кустов сирени. Да и в доме полным-полно; веселые лица выглядывают из настежь раскрытых окон гостиной – это наставники и попечители, которым предстоит сейчас примкнуть к процессии. Возглавить же праздничное шествие учеников приходской школы должна мисс Килдар»; ей к лицу пышные розы, украшающие ее шляпку. Громко звонят церковные колокола, в тени колокольни стоят нарядные женщины. «Он подходит к окну посмотреть, как люди в отутюженных костюмах идут в известняковую церковь. Цветы на шляпках их жен как бы превращают невидимое в видимое».
«С Вязовой мы повернули на Порлок, где стоит наша церковь, наша старинная церковь с белой колокольней, целиком спертая у Кристофера Рена. Наш семейный ручеек ‹…› влился в полноводную реку, и теперь каждая женщина наслаждалась возможностью разглядывать шляпки других женщин». И как не разглядывать, когда в этих еженедельных смотринах заключено одно из главных приходских удовольствий!
«Мисс Мерридью уже было надела черную шляпу с пучком анютиных глазок, неизменный атрибут каждого воскресного утра, однако в последний момент решительно вздохнула и направилась к комоду – нет, сегодня службу будет вести новый пастор, а новый пастор, безусловно, заслуживает новой шляпки. Она вспомнила, что и жена причетника, и дамы из комитета по убранству церкви цветами собирались сегодня принарядиться».
Приходская жизнь Англии и Новой Англии течет по старому руслу; Шарлотта Бронте, Апдайк, Стейнбек, Агата Кристи (а бытописательница Агата Кристи поистине недооцененная) отправляют своих героев на праздничную службу с той же уютной обязательностью, с какой, надо полагать, посещали ее и сами. Старинная церковь, белая колокольня, нарядные дамы. Феномен воскресной шляпки. Эта отрада европейской прихожанки несет в себе и на себе все, чем щедра традиционная, давно устоявшаяся приходская жизнь. Воскресную шляпку украшают цветы упорядоченного добронравия, флер обычая и привычки, плоды честной общественной работы, пурпур достатка, филантропические кущи, пух и перья добрососедской злонаблюдательности, гроздья праведного гнева, нежный муар религиозного волнения.
Территориальная, муниципальная, общественная жизнь пересекается с жизнью духовной, горизонталь пространства пересекается с вертикалью времени; в точке пересечения стоит церковь и церковный приход. Перед нами центр местности, и, помимо всего прочего, еще и средоточие оправданного интереса к чужой жизни. Не таким ярким светом озарен престол английской королевы, как паперть деревенской церкви. Старинная эта пословица – о свете деятельной и неутомимой социальной любознательности.
У той же Агаты Кристи читаешь: «Где ты успел побывать? Благотворительный базар… воскресная служба… поместье… Да ты не терял времени даром в этой деревушке!» Ее же перу принадлежит обширнейшая галерея портретов приходских дам. Властная филантропка, гроза пастората. Честная, но недалекая энтузиастка, гордящаяся членством во всех имеющихся в приходе комитетах. Профессиональная христианка, столп добродетели. Всё это мягкие, иронические образы (хотя однажды, ведомая криминальным сюжетом, Кристи позволила одной из дам-патронесс отправить нескольких почтенных соседок на тот свет – и лишь оттого, что соседки эти, соратницы по приходу, отказали монструозной активистке в месте распорядительницы палестинской корзинки).
***
– А вы как чистите облачения, Валентина Ивановна?
– А «Ванишем» для ковров лучше всего, Дашенька. Очень удобно: разводишь в воде по инструкции, взбиваешь пену и губочкой, губочкой. Епитрахиль и поручни – в стиральной машине, только, конечно, в сеточке для деликатных вещей.
– А меня батюшка благословил перед стиркой полоскать облачение в тазу, чтобы в воде этой растворилось все то, что осталось на нем из церкви. А воду из таза благословил сливать на землю, но только в те места, где никто не ходит, не топчет. В траву лью, в снег. Спаси Господь. А правда, Валентина Ивановна, что наша матушка волосы покрасила?
Так говорили меж собой приходские активистки, стоя возле нарядной московской церкви. Воскресное утро вступало в свои права.
Церковь свежеокрашенная, сливочная, невысокая. Бледное золото купола слепит глаза. Приходской дом к Рождеству покрыли черепицей, на первом этаже – актовый зал, офис приходского совета, воскресная школа. На втором этаже живет настоятель храма. За домом на веревке сушатся детские колготки. Храм многоштатный, из крепких, благополучных, славится обширным баптистерием, новым иконостасом, одним из самых мощных в округе приходов. Облик прихожанок (Валентина Ивановна работает в просфорне, помогает матушке по хозяйству; Дарья убирает храм и поет на клиросе) дышит благочестием. Темные юбки, на головах – ладные платочки. Ничего лишнего, никакой косметики. Вид положительно не светский.
– Что ты, что ты! – удивляется Валентина Ивановна – Наш благочинный больше всего не любит, когда красят волосы. И особенно, мне рассказывали, если в цвет «красное дерево». Зовет таких женщин «свеклами», а на исповеди такую прихожанку обязательно спросит: что с вами случилось? Та пугается: а что? А благочинный: вы голову в борще полоскали? Они краснеют до слез – так им стыдно становится!
– Ну а если седина – в свой цвет тоже нельзя? Мне одна наша же прихожанка говорит: трудно зимой совсем без косметики, кожа портится.
– А я губы мажу мазью, сваренной из воска с лампадным маслом. Рецепт простой: 100 граммов лампадного масла, 40 – пчелиного воска, 5 граммов сахара. Все прокипятить, процедить, перелить в баночку, и в холодильник. А еще можно добавить маслице с мощей.
Между тем к началу занятий в воскресной школе начали приводить детей. Даже в толпе прохожих сразу узнаешь «приходских» детишек – на девочках поверх комбинезонных штанишек надеты юбки. Ох, эти детские одежки – на форуме «Простой разговор» (прекрасное, кстати, чтение, светлый и почтенный форум, на котором жены священников обсуждают тяготы и радости приходской жизни) этому маленькому вопросу отведено немаленькое место. Как правильно одевать девочек зимой? Вот прихожанка пишет: «Нам в храме сделали замечание – мол, понятно, что мороз, но надо в юбку одевать девочку. Ну неужели православного человека смутит детский комбинезон? Или поступать как мои знакомые – одевать поверх штанов юбки? Матушки, милые… жалкое зрелище! Как цыганята. А потом моего ребенка чучелом обзовут невоцерковленные дети. А дети ведь скажут, что взрослые смолчат».
А более сознательная форумчанка отвечает: «Недавно мы ездили с воскресной школой в паломничество, так батюшка в монастыре отказался помазывать всех девочек в комбинезонах. И очень пристыдил родителей. И мне досталось за трехлетнюю дочь в комбезе. Крайность, конечно, но я задумалась. На следующий год буду дочь одевать в пальто».
К чему о таких мелочах? К тому, что они не мелочи. И если говорить о разнице меж европейским и российским приходом – то все дело в шляпке. Европейская прихожанка, надевая воскресную шляпу, предъявляет общине свои верительные грамоты. Она – как все. Она поступает так, как положено. Европейский приход социализирует новообращенного, помогает ему укорениться в местном обществе. Новичок, наряжаясь к воскресной службе, присягает на верность общепринятой традиции повседневности.
Отечественный же приход, напротив того, новоначальных православных из привычной повседневности вырывает. Воцерквленный человек и выглядит-то иначе, не как все.
И когда протоиерей Максим Козлов говорит: «Мы решительное меньшинство в социуме», а протоирей Аркадий Шатов: «В приходе начинается здоровая жизнь. И если вокруг нас много греха и грязи, в приходе появляются ростки новой жизни», то очевидно, прихожанин должен рассматривать церковь не как центр общественной жизни, а как центр «другой» жизни. Пусть даже и бесконечно более правильной, но – другой.
Обстоятельства эти делают приходской быт для людей светских закрытым и таинственным. Дух захватывает от щекотного любопытства, когда читаешь в «Простых разговорах» беглое описание вечера в семье молодого священника: «Сейчас планирую на Престольном облачении Крест подшить. А батюшка мой мелочь считает».
***
Протестантский священник больше чиновник, организатор, соционом. Православный – молитвенник, духовный отец и вдохновитель. Ну, предположим. Но меня-то по обыкновению интересует младшая реальность, без мистических экстазов. Как строится бытовая жизнь прихода? Какую такую мелочь считает батюшка, сидя поэтическим вечером в домашнем своем кругу? Тарелочный сбор пересчитывает? Выручку церковного ящика? Плату за совершение треб? Нужно сказать, финансовая сторона приходской, храмовой жизни никогда не была более закрыта, чем сейчас. Опытные люди рассказывают, что «спичечный» доход (речь идет именно что о церковном ящике, о продаже свечей), довольно ощутимый в советские годы, сейчас составляет ничтожную часть церковного бюджета («не хватает на зарплату сторожа»). В Москве тарелочный сбор прекратился повсеместно, но в провинции все еще обносят паству тарелкой – «и редко когда попадется бумажка старше пятидесяти рублей». Плата за совершение треб во многих приходах считается личным доходом батюшки, совершившего богослужебный обряд. Иной раз, в многоштатном храме, с помощью треб настоятель поддерживает молодого священника, образовывающего семью – благословляет его освятить (по приглашению верующего автовладельца) машину, обвенчать состоятельную пару. Однако для небогатых прихожан требы в большинстве храмов совершаются бесплатно. В сельских приходах в ходу натуральный обмен: «Однажды я видел в маленькой деревенской церкви бочку засоленных крутых яиц». Финансово епархии не поддерживают храмы – наоборот, храмы отчисляют часть дохода на нужды епархий. Новоназначенный «в руины» батюшка, пока приход не укрепится, освобождается от этой обязанности. Храмы живут на спонсорские пожертвования, «в отдельных областях и районах» помогают местные власти, аккумулируя и перераспределяя предназначенные на благотворительные нужды средства подначальных предприятий. Поиски спонсора – тяжелое испытание для застенчивого или созерцательного батюшки. Отец Михаил Панкратов рассказывал мне: «Я понимаю причину своеволия состоятельных людей. „Мое дело“ – это звучит гордо. Но разве „моя служба“ – менее важное занятие? Я иногда призываю своих собеседников к смирению. Говорю, что, казалось бы, в русском языке слова „дело“ и „работа“ почти синонимы. Но почему же тогда такая разница в понятиях „обработался“ и „обделался“? Наверное, для снижения пафоса». Бывает, что молодой клирик, посланный «на стояние перед народом», не справляется с поиском денег, приход не складывается (случается, приходской совет набрать не из кого, старосты церковного нет, матушка одна-одинешенька стоит на клиросе) – что ж, тут ничего не поделаешь, батюшку отзывают… Это самая грубая, самая приблизительная схема, но даже из нее понятно, насколько важен храму приход.
Собственно говоря, храм без прихода существовать не может, а приход без храма – вполне. В Екатеринбурге община во имя Святого Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных уже несколько лет как сложилась и зарегистрировалась, а молитвенного помещения у общины все нет. Проводят Литургии под открытым небом, в парке. В праздничные дни проходят Крестным ходом по улицам микрорайона Заречный.
В округе, живущей все больше плотскими устремлениями, молитвоходцев, нужно сказать, прозвали «общиной небесных сил беспилотных», и склонны поглумиться. Но житие екатеринбургского бездомного прихода – истинное подвижничество, а из чего же обыкновенно складывается внебогослужебная жизнь общины? Что, помимо чаепитий после литургии, чаще всего объединяет прихожан? Социальное служение – совместное посещение, или (в лучшем случае) волонтерская работа в больницах, детских домах, интернатах. Воскресная школа или православная гимназия, родительский клуб при школе. Богословские чтения. Иногда – детские спектакли, очень редко – благотворительные базары. В лучших воскресных школах, кроме Закона Божьего, преподают иконопись, пение, рукоделие, иконографию, историю церковного зодчества. Чрезвычайно популярны паломнические поездки.
Для физиономии прихода огромное значение имеют личные пристрастия, склонности и умонастроения батюшки.
Вот поглядите: Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, в былом музейный работник. И важное «социально-культурное» служение прихода – церковный музей. Благочинный Барышского района Ульяновской области Игорь Ваховский – человек с безусловной хозяйственной жилкой, за что прозван бумагомараками «градообразующим батюшкой». Бригада его церковного прихода уже отреставрировала несколько храмов, построила четыре дороги, два моста и гостиничный комплекс в селе Ханинеевка. Исключительные деловые качества свойственны бывают клирикам и самым высокопоставленным. Например, митрополит Астанинский, Алма-Атинский и Семипалатинский Мефодий в недавнем прошлом возглавлял Воронежскую-Липецкую епархию. Запомнился как хозяйственник исключительных способностей. После его отъезда в городе по-мирски дерзко, но с добрыми намерениями говорили: «Нашего архипастыря хоть в голую степь высади, он у сусликов деньги соберет и храм с подворьем построит».
Отец Михаил Панкратов пишет стихи – стоит ли удивляться, что в его приходе учреждена православная литературная студия? Настоятель Екатеринославского прихода отец Никандр увлекается кролиководством, и приход увлекается вместе с ним кролиководством; настоятель храма святой Троицы отец Тимофей Фетисов носит под рясой камуфляж и, согласно своим предпочтениям, основал православный центр военно-патриотической подготовки молодежи Таганрогского благочиния.
Ну, а атмосфера приходской жизни зависит от матушки.
Отношения же между матушкой и прихожанками складываются внешне благолепно, но не без подводных течений.
Причина тому – тщательно скрываемая ревность.
Прихожанка vs. матушка: «В храме, особенно сельском, Батюшка (простите!) является кумиром, странно, да? Поэтому и за матушкой особый надзор»
Матушка о прихожанке: «А еще бывает, прихожане достают, совсем меры не знают. Представляете – одиннадцать часов вечера, после всенощной, исповеди и целого дня на ногах, подходит какая-нибудь дамочка (из тех, кто из храма не выходит целыми днями) и начинает мучить батюшку всякой ерундой. Ой, а можно в банку из-под компота святую воду налить? Не понимает, что батюшка тоже человек, а не ангел бесплотный, что устал смертельно, что дома его ждут жена и дети, и им тоже нужно иногда батюшкино внимание. Вот от таких прихожаночек матушки совсем одинокими становятся».
***
Прихожанка vs. матушка: «У батюшки вся ряса обтрепалась, а матушке и дела нет. Мы говорим ей: матушка, позвольте, мы денег на новую рясу соберем, а то что у него все такое драное?»
Матушка vs. прихожанка: «Говорят, что у священника дом со стеклянными стенами, причем стекла – увеличительные. Мало того, что батюшкино благосостояние всегда «укрупняется» наблюдательницами, так еще и к матушке – внимание особое. Так что запасаюсь набором доброжелательных, но отстраненных улыбок и ответами типа «Все в Божьей воле» и «Как Бог даст».
Прихожанка vs. матушка: «Ехала в поезде, так соседи вызнали, что я на приходе служу, и давай сказки придумывать. Недавно, говорят, ехали мы в одном купе с батюшкой, так он сразу выставил бутылку кагора. А я отвечаю: „Глубины сатанинские, что вы плетете? Официанты ненавидят шампанское, врачи не выносят коньяк, а батюшки не пьют кагор. Они водку пьют!“»
Матушка vs. прихожанка: «Сегодня первый раз в нашем храме я пела на КРЫЛОСЕ, как говорит наша просфорница. Служба пролетела за час! Мне так понравилось, я так старалась! Все прихожанки сказали, что пою я точно соловей! А супруг мой, батюшка, сказал, что пою я ужасно. Медоточивые какие».
Прихожанка vs. матушка: «После водосвятного молебна у нас весь храм мокрый стоит, так батюшка много его окропляет! А в конце службы, когда крест все подходят целовать, он еще и каждого лично обольет! Какой ХОРОШИЙ храм у нас!»
Матушка vs. прихожанка: «Спрашиваю мужа: «Ты водичкой запасся, а то знакомые просить будут?» А он: «Ага, и бабушки в храме ананасы просить будут». Я: «Чего просить?» Муж: «Да это когда идешь, освящая воду, а прихожанки к тебе тянутся и кричат: „А на нас? А на нас?“»
Так у нас. А у них? Разумеется, расстояние между приходом европейским и отечественным мало кто меряет в шляпках. Может быть, и зря. Англиканская, протестантская община (по мнению многих и многих) значительно более светская, живет теорией малых дел; призрением, презрением (крайней формой общественного суда), но никак не прозрением. Православная церковь – самая мистическая, но заглянули мы в приходское окошко, а там и светло, и тепло, и уютно. Там свои житейские чудеса, свои воскресные шляпки. И разница лишь в том, что их не выставляют напоказ. За горами и лесами, за синими морями каждое воскресенье дамы и господа, нарядившись в самое красивое и распрямив плечи, отправляются в храм. В церковь – как на Светлый Праздник. А у нас матушки и прихожанки повяжут свои платочки и, опустив голову долу, пройдут на службу. В церковь – как на Страшный Суд. Но и там, и там «под шумным вращением общественных колес» мы угадаем «неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все».
Анализантка
Визит к психоаналитику
I.
– Вы же знаете, Сергей Борисович, что я не вижу никаких таких особенных снов.
– Оля, мы же с вами договорились, что категорию «особенный» из наших разговоров исключаем. Вы говорите о себе: жизнь у меня обычная, не особенная. Я обычная, ничем не особенная. Снов особенных не вижу. Это, Олечка, важное для вас слово, мы должны еще будем поговорить об этом. Это у нас типичненькая персеверация наблюдается.
– Ох, ну хорошо. Но бытовые ведь снятся сны – так, возвращение дневных ситуаций, что-то из воспоминаний. Хорошо, хорошо. Приснилось мне, что я стою в очереди за пирожками в магазине, который раньше был на первом этаже высотки на площади Восстания. Или нет, даже не на первом, а в цокольном. Высотка эта нас, девочек, притягивала своей красой – мы жили поблизости, но в пятиэтажках. В Шмитовском проезде мы жили. Чудесный в цоколе был «Гастроном», и продавались там жареные пирожки с мясом – самые вкусные в Москве. Только очередь приходилось занимать заранее – они всегда очень быстро кончались. Как же я их девчонкой любила! А году в девяносто третьем пирожки пропали – наверное, мясо кончилось.
– А во сне вам удалось купить пирожок?
– Не помню, Сергей Борисович. Кажется, нет.
– Оля, Оля! Давайте-ка вместе разберем, что же именно вам приснилось. Вы увидели высотку, вертикаль, устремленную в небо. Это дом, знаменитый, но недоступный. Он не ваш, он не для всех. Для кого-то он свой, родной, а вам доступен только самый нижний этаж. И где наша высотка расположена? Вслушайтесь – на площади Восстания! И вы стоите со своей скромной пятиэтажкой в самом низу, у подножия этой восставшей вертикали, и боитесь, что вам не достанется чего-то вкусного, горячего, желанного, продолговатого. Того, что у вас в юности отняли. Потому что кончилось мясо, плоть, и это плотское утекло из вашей жизни. Вам понятно, о чем я? Инсайтик случился у нас?
– То есть что мне приснилось?
– Это, Олечка, у вас тоска по могущественному фаллосу.
Да и не только. Еще страх, что фаллосы более доступные, помельче, могут кончиться. И подсознательная уверенность, что за ними нужно стоять в очереди.
– Сергей Борисович, а вот сценка из сказки «Красная шапочка», когда девчушка села на пенек и съела пирожок, это тоже про это?
– Оля, Оля, без переносов, пожалуйста. Вы меня такой простотой не зацепите – к тому же и «Красная шапочка» давно осмеяна. Мы с вами не в «Аншлаг» тут играемся. Вы просто говорите, не пытайтесь мне понравиться. Прошлая сессия на чем у нас кончилась? Кажется, на том, что вы всех ненавидите.
– Да. Я стала замечать, что всех ненавижу. Буквально всех.
По улице иду, и все меня раздражают. Тетки с поджатыми губами, простые, уверенные в себе, набитые здравым смыслом. Силеночкой от них веет, такой мелкой семейной властностью. Молодухи в дешевых ботфортах и в стрингах, вросших в жопу, потому как они сразу после памперсов в стринги влезают. Подруги раздражают. Воплощение житейского пафоса, «полезная» зависть, глухое имущественное соревнование. В «Одноклассниках» одна подписала свою фотографию: «Мы с мужем и дочей жжжжом в Ягепте» – а девицей была веселой, легкой, с какими-никакими мозгами. Няня, мною же ребенку нанятая, раздражает чудовищно – руки трясутся, когда ее вижу. Озорница. Сыплет новомодными поговорками, ребенку моему говорит: «Не ссы в бассейн, пригодится воды напиться». Желания появляются несимпатичные…
– Какие же?
– Хочется, например, полить подсолнечным маслом лестницу в Грибоедовском дворце бракосочетаний или забраться на подиум и дать пинка манекенщице. В самолете всегда хочется сделать стюардессе подножку.
– Вы говорите, говорите…
– Да я уже все сказала.
– Вы про что-нибудь другое говорите. Например, вы в детстве во что играли? В куклы играли?
– Нет, мы в «Трех мушкетеров» играли.
– Устраивайтесь поудобнее и расскажите, как. Хотите, я вам плюшевого мишку дам?
– Зачем?
– Для уюта. Кого же вы в «Трех мушкетерах» изображали?
– Когда как. Чаще всего – Миледи. Ну, не знаю, чего тут рассказывать. Играли на даче, возле пруда. Луг был с лютиками. Однажды ночью, по уговору, выбрались из дачных своих окон, собрались на лугу, разыграли сцену казни Миледи. Ох, как же мама моя кричала! Понимаете, она проснулась, а меня дома нет. Побежала искать. В итоге нашла нашу компанию на пруду, а я уж на коленях стою, голову наклонила, волосы свесила – все как в фильме. Только шея моя в темноте белеет. Рядом, естественно, мальчики наши стоят с палками. Мама как закричит! Ужасным криком. А я испугалась и тоже закричала. Потому что именно в этот момент голову мне и отрубили.
– Дальше, дальше!
– Дальше ничего и не было. Как-то у меня из памяти выпало, что было дальше. А ведь мама, скорее всего, устроила потрясающий скандал. А вы к чему меня спрашиваете – думаете, то была сцена символической кастрации, и я с тех пор так и живу без головы?
– Когда кастрируют, не голову отрезают. Но слово-то вы зацепили верное. Нет, не случайно вы забыли последствия этого происшествия, не случайно. А вам не кажется, что с тех самых пор вы совершенно напрасно считаете голову наиболее ценной частью вашего тела?
– Почему же напрасно?
– Оля, Оля, я не в том смысле, что голову надо ценить меньше, а в том, что остальные части тела надо ценить больше. Вам не кажется, что вы немного не цените, не любите себя в своей плотской ипостаси? Ваша приятная полнота вас абсолютно устраивает?
А может быть, вы боитесь полнее участвовать в жизни? Боитесь потерять свою шапку-невидимку?
– Потеря шапки-невидимки – надо же. Звучит довольно непристойно. Век живи, век учись.
– Вот что, Оленька. Я вам расскажу одну, так сказать, корпоративную притчу. Жила-была одна женщина, которая с детства очень сильно боялась своего папу. Ну, и не любила. Папа у нее, нужно сказать, человек был так себе – грубый, невнимательный, волосатый мужчина. Так вот, наша анализантка выросла, и ничего у нее в личной жизни толком не складывалось. Партнеров она выбирала противоположных отцу – вежливых, тихих, гладко выбритых.
Все хорошо, а любви нет, в постели ничего не выходит. Более того, даже у таких, можно сказать, безволосых мужчин ее раздражала любая растительность. До тошноты. Кому это понравится? И вот доктор, который с ней работал, подумал – а нет ли тут контрастной картины ее репрессированных сексуальных желаний к сердитому и сильному отцу? Не испытывала ли она подсознательного влечения к нему, которое, после того, как был поставлен барьер защиты, перешло в отвращение? Запретное или недоступное может восприниматься одновременно и как чрезвычайно привлекательное, и как безобразное – на разных уровнях сознания.
И верите, доктор оказался прав. Она поняла себя, зафиксировала проблему, вышла замуж за волосатого мужчину и обрела гармонию и счастье.
Видите ли, ее суперэго (а это, знаете ли, моральные установки, совесть, стыд), как и у всех, является следствием успешного преодоления эдипова комплекса. Инстинктивные стремления, которые могли бы представлять опасность, буде, как у младенца, на свободе, были подчинены, втянуты в эго и десексуализированы. Понимаете меня?
– Приблизительно.
– Стимул к формированию суперэго – это опасность кастрации, опасность, угрожающая всему эго, потому что эго идентифицировано с гениталиями. Борясь с инстинктами, смиряя их, эго получает любовь и защиту. Поэтому-то эго часто позволяет суперэго мучить себя – за защиту и любовь. Оно соглашается с ограничением инстинктов, которого сначала требуют родители, а потом суперэго, потому что в виде компенсации получает нарциссическое удовлетворение. Например, удовлетворение от того, что в итоге вы являетесь порядочным человеком.
Ференци называет это «моралью сфинктера»…
– О Господи, почему?
– Потому что ребенок учится контролировать акт дефекации за похвалу. Для достижения любви. Это одна из первых побед суперэго.
– Сергей Борисович, помилуйте, к чему вы это?
– Давайте, Олечка, подумаем с вами, а не является ли ваша ненависть к прохожим тайной любовью к ним и страхом не понравиться любимому объекту? Страхом не получить похвалы? И ведь «не любите-любите» вы женщин. Вспомните ваше перечисление…
– Я люблю женщин?
– Вы тайно вожделеете к окружающим вас людям, страстно хотите их внимания и любви, просто мужчин вы стараетесь вообще не замечать (из страха им сразу не понравиться), а женщин боитесь разочаровать. Кстати, поговорим о позиции – а вы выше или ниже дам, которых не любите?
– Ну, в чем-то выше, а если трачу на них свою эмоции, свою ненависть, то и ниже.
– А как быть с пинком манекенщице? Вы залезаете на подиум, на высоту – к ней, и пинком спускаете ее вниз, к себе. Так в чем же вы выше ее?
– В том, что не виляю задницей на высоте, а спокойно сижу со своими деньгами внизу. Она – обслуживающий персонал – так, на минуточку.
– Но на нее устремлены глаза мужчин, правда? Наверное, и вашего мужа?
– Ох, Сергей Борисович! Так что ж я все-таки делаю – страстно жду одобрения от этой манекенщицы, или боюсь, что ее страстно одобрит мой муж? Да меня просто раздражает, что она дура. Она дура, понимаете? Высокая дура. Дура на высоте. Минетчица-высотница. Дмитрий. Ублюдок. Роза. Анус. Д-У-Р-А.
– О, какие у вас симпатичные ассоциации, Оленька!
II.
В кабинете психоаналитика уютно – белая кушетка, клетчатый плед, полусвет. Полусвет бывает в этой комнате частенько и в других своих ипостасях – Сергей Борисович – психоаналитик относительно дорогой, среди его клиенток много элегантных дам. Если и не самого высшего света, то тянущихся к олимпийским вершинам. Сама Ольга – женщина работающая, но тоже далеко не бедствует. Сессия (одна встреча) стоит две тысячи рублей, а стоимость всего сеттинга (курса анализа) может достигать размеров впечатляющих, так как к психоаналитику принято ходить месяцами, если не годами. А почему? А потому, что повод для обращения к этим достойнейшим специалистам чаще всего бывает довольно размытый и предполагает помощь не скорую, но вдумчивую: «я не несчастлив, но и не счастлив»; «чувствую, что способен на большее, но мешают какие-то запреты, спрятанные внутри». И лишь в меньшей части случаев к психоаналитику идут с депрессиями, сексуальными расстройствами, реальным гореванием, разводом или страхом развода. Правда, в процессе сеттинга врач бодренько обнаруживает, что недостаток счастья у заскучавшего здоровяка или подверженной сплину удачницы объясняется именно что загнанной вглубь депрессией, сексуальными расстройствами и страхом развода – а это значит, тем более месяцем-другим никак не обойдешься! Героиня наша, Ольга, обратилась к Сергею Борисовичу в связи с легоньким унынием – близится сороковник, утекает воля к жизни, центры удовольствия поистрепались, цели поистаскались, муж сделался хорошим приятелем, любовника не предвидится, подруги осточертели. Ольге захотелось купить собеседника – что в этом плохого?
Это модно. В Америке и во Франции (странах, бывших безусловным оплотом психоанализа) интерес к бессознательному в последнее время несколько угас, зато Россия подхватила венскую болезнь и понесла дальше эстафетную, так сказать, палочку. Что и не удивительно для страны, упивающейся младобогачеством. Психоанализ – популярное увлечение людей более или менее состоятельных, лекарство богачей.
«Будет хлеб, будет и песня», – так начиналась книжка Леонида Ильича Брежнева «Целина». Ну, а будет трюфель, будет и поток сознания.
Новый русский психоанализ молод – одиннадцать лет минуло с того дня, как Б. Н. Ельцин подписал указ «О возрождении и развитии философского, клинического и прикладного психоанализа», клиент «пошел» лишь лет пять как, процедуры лицензирования частной психоаналитической практики, подобной общемировой, в России нет. Стандарты Международной психоаналитической ассоциации требуют от соискателя специального образования и специальных усилий (будущий психоаналитик сам должен пройти полный курс анализа у старшего коллеги и несколько лет практиковать под его же руководством). Сейчас в Москве работают лишь несколько аналитиков, получивших лицензию МПА. А психоаналитических кабинетов и клиник – сто семьдесят. И что за чудесные там иной раз предлагаются услуги: психоаналитическое сопровождение бизнес-процессов, групповые игры «Анализ Псюхе»… Кстати, и наш Сергей Борисович не может ведь считаться психоаналитиком «правильным», типическим – слишком словоохотлив.
Нет, классический, великий, бесконечно осмеянный западными интеллектуалами психоаналитический сеанс аскетичен – врач, анализант, кушетка и несколько лет впереди, чтобы возненавидеть друг друга. Психоаналитик – платный попутчик, значимый взрослый, добрый судья, «хороший» отец, идеальный, понимающий мужчина. И (одновременно) – докучливый допросчик, свидетель твоих неудач: «Я вечно весь в говне, а он всегда в белом костюме», утомительный всезнайка, ментор, охочий до твоих денег.
Психоаналитический кабинет, как спальня, укрывает двоих ото всех, бессознательное врача и клиента переплетаются в схватке приязни-неприязни, в бой вступает психическая энергия, чавкают бездны, мешаются грехи спальни и исповедальни. А греховные возможности исповедальни разнообразны – от сценки «итальянская проститутка на исповеди у семинариста-девственника», где, разумеется, речь идет не о грубом телесном контакте, а об «инфицировании раскаянием», и до тягостной жажды тепла, измучившей лавропосадскую иерейскую обожалку.