Чай
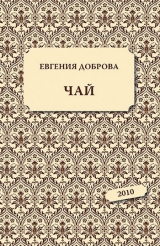
Текст книги "Чай"
Автор книги: Евгения Доброва
Жанр:
Лирика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Евгения Доброва
Чай
Грохольский переулок
На брандмауэр соседнего дома
нацепили рекламу колготок.
Наши со счетом ноль – два
проиграли княжеству Лихтенштейн.
Дожили, мама. Я вышла из дома под вечер —
была суббота —
обедать с русским поэтом Петровым,
влюбленным в еврейскую даму Шейн.
Я вышла из дома
и шла по Грохольскому переулку,
любезно расчищенному таджиками,
которым платят американцы.
Кохиноры сосулек
точило опасно и гулко
огромное лезвие в небе,
оскверненном «Люфтганзой».
И мне улыбалась,
а может, кривилась, домовая арка.
Таджики бросали лопатами снег
под огромные древние ели.
Их держат янки, купившие несколько га
у дирекции старого парка,
основанного Петром в аптекарских целях.
Файв-оклок в ресторане у парка —
это заведено годами, —
в час, когда солнце сажает на кол
флагшток префектуры.
Ростбиф – дрянь,
но традиции требуют дани
серебром, пушниной, пенькой,
а лучше, кхе-кхе, натурой.
Парк оцеплен с утра. Именитые гости
в восторге от новых оранжерей.
Это пальмы графьев Разумовских,
на этой скамейке сиживал Пушкин.
Эту пайн-три – внимание, плиз! —
посадил сюда Питер де Грейт.
Тойлет слева. Вон там, на углу,
продают безделушки.
Каппучино? американо? Спасибо, не надо.
Мясо – дрянь, но нельзя
нарушить традиций.
Показалась в просвете аллеи
делегация нью-Фердинанда,
а за старой петровской сосной
притаился убийца.
2005
Хорошие манеры
– Умоляю, оставьте мальчишке хоть сотню на чай!
Суд присяжных небесный, увидите, это зачтет.
Мельхиоровой вилкой у времени выколот час.
Пианино раскрыто, осклаблено, ждет.
Выметает уборщик с террасы опавшие листья лип.
– Мог бы жить только с вами, я знаю вас столько лет.
Саша-даша-наташа – химеры; но вы… я, кажется, влип…
– Не могу запретить вам мечтать. Подайте, пожалуйста, хлеб.
Злая?! Терплю десять лет вторжение в личную жизнь,
куда вас, простите, вообще-то никто не звал.
Вот и ваше рагу. Подгорело? – решается парой клизм.
Заодно вымывают купаж восхищений, обид и похвал.
На саксонском фарфоре приносят яблочный пай.
Мы есть центр, магнит, добыча внимательных слуг.
– Тридцать мало, оставьте хоть сотню на чай!
– Сразу видно, что вы не работаете, мой друг.
2005
Трое
Он снимет трубку после первого же звонка.
Через полчаса? Последний вагон. Ладно, пока.
Проходите… А вот женских тапок – здесь нет.
Но ничего, уже топят, это не страшно… —
он будет носиться по кухне и варить им сосиски и кашу:
ужин, перетекающий в завтрак, и завтрак – в обед.
Если в той кухне закрыть глаза – будто летаешь
среди запахов пряностей… – Извините, не ждал;
сейчас здесь не очень с едой…
Я все вымою сам! – а она ему: – Ну, как знаешь… —
Но холодные пальцы уже встретятся в раковине
под бегущей горячей водой.
– Жуйте! – придвинет тарелки.
– А можно я кашу не буду? —
И она отвернет капризный веснушчатый нос.
Нос и ресницы… Где он нашел это чудо?
На Красной площади или в смешной стране Оз?
Гости уже удалились в соседнюю дверь на ночевье.
А он – не заснув в эту ночь и на пару минут —
будет думать о том, как сейчас там займутся любовью,
а потом, чтоб его не будить, тихо-тихо под утро уйдут…
1996
«Мы не поймем друг друга никогда…»
Мы не поймем друг друга никогда.
Мы будем жить, как два китайских мудреца.
Один другому говорит:
– Смотри!
Как радуются рыбки, как резвятся!
На что второй в ответ:
– Скажи, в чем радость рыб?
1997
«Были у меня разные друзья и подруги…»
Были у меня разные друзья и подруги,
они думали,
что я – главная встреча в их жизни,
но десять тысяч однажд,
просыпаясь, я знала внезапно:
это – всё…
и они становились чужими:
эта – всё… этот – всё… эти —
чужаки… И надо скорей уезжать.
1998
Склиф
Занесло под крыло исполинской плиты,
поставленной на попа́,
институт скорой помощи, Склиф, стиль советский
экспрессионизм —
архитектор района отметился,
выдал медвежье па,
отдавив Аргунову с Назаровым ноги
до самых яиц.
В воздухе носятся души, орут, верещат,
сквозь пальцы струятся.
Сначала я думала, пыль, – но нет, оказалось,
не пыль.
Теософ Склифософ варит варево реинкарнаций:
кому руку подаст, кому – венчик, кому – костыль.
Варит-варит, мешает, попробует, отхлебнет…
Воздух густ, населен, как улица
в праздничный день.
А не страшно вот этим дышать?
Отчаянный коловорот
не тревожит? Да нет: отмахнешься —
и схлынет виденье.
2006
Девочка с курицей
Девочка с курицей ходит гулять после двух.
Курица трепана, мучена – в чем только дух?
Девочка с курицей в нашем подъезде живет.
Рыжая девочка, волосы цветом как йод.
Стоит ей только в дверях показаться, и тут
дети бросают свои самокаты и скейты, бегут:
– Дай посмотреть, подержать, поводить где трава!
Нитка за ножку привязана, тянется метра на два.
Медленно дом свою тень на лопатки кладет.
Рыжая девочка томно беседу ведет.
Слов не услышать, но ясно, все ясно и так:
в нашем дворе появился разменный пятак.
Девочка, кто же тебе эту птицу живую принес?
Бабушка? Мама? Сестра? Даррелл? Брем? Дед Мороз?
Помню ее немигающий ягодный глаз.
Ходит, словно в рапиде, – битая, видно, не раз.
Ни червяков не клюет, ни прочую мошкару.
Думает: сдохну, к чертям, я в такую жару.
Ни одной лужицы нет во дворе, ни ручейка.
Бестолочь за ногу дергает, и не слегка.
– Аня, обедать! – мама с балкона кричит, и весь разговор.
Девочка дергает нитку. Как труп, волочит через двор,
но, спохватившись, игрушку под мышку сует.
– Клюнет! – мальчишки кричат, но курица не клюет.
Курица думает: как бы из Аниных рук —
и на картину, что накалякал Бурлюк…
Август кончается, вот уже в школу пора,
да и дворовая всем надоела игра.
Солнце проело в газоне янтарную плешь.
Осенью мама не скажет тебе, что ты ешь.
2008
«Как много в детстве потребностей разных…»
Как много в детстве потребностей разных:
вырезать ромбик из мамина платья,
выкрасить стул анилиновой краской,
выстирать в луже парадную скатерть…
Но – вижу взгляд недобрый в очках,
грозящий мне палец, сверкающий лаком,
и я, некрасивая хмурая девочка,
прячусь под стол и не смею заплакать.
1997
Бык на крыше
ВДНХ, дворец «Животноводство». Бык на крыше.
Есть такой балет… у Де Фалья.
Пока вспоминала его фамилью,
не знала, какая рифма повиснет ниже.
Неправильно вспомнила – «Бык» у Мийо.
Повиснет другая – полыхает жесть.
Крыша, солнце, птичье мумие.
Бык – в таком странном месте.
Бык вознесся в небо, тяжело копыто, но не тянет.
Как воздушный шарик, гелевый, прибился к туче.
Поднимите головы, мамы, няни,
ближе к небу – лучше.
2010
«Зажил обкусанный яблочный бок…»
Зажил обкусанный яблочный бок,
жизнь обернулась к мажорному ладу.
Деньги в кармане свернулись в клубок,
галстук влюбился в губную помаду.
1997
Соседняя комната
I.
Он нерешительно входит в ее спальню,
принюхивается к разлитому там запаху ее духов,
садится на край дивана,
взглядом скользит по ее полкам и книгам,
по раскинутым тут и там ее платьям,
платкам и шалям,
по тюбикам, кремам и пудрам, заведующим ее красотой,
по пустым упаковкам таблеток,
их слишком много даже для самой тяжелой болезни,
их слишком много на тумбочке,
на журнальном столе,
на промятом сиденье кресла,
их слишком много,
много,
много.
– Ну когда же она, переодевшись,
вернется из соседней комнаты?
Ну когда же она, переодевшись,
вернется из соседней комнаты?!
II.
И она вернулась и сказала:
– Бывают же несносные дети!
Устроят дома госпиталь куклам,
а потом нигде не найдешь
ни одного аспирина!
«Задрожал свет…»
Задрожал свет.
Нежирная осень (нарядные губы),
шаркая листяными ногами,
пролезает в дымоходы и трубы.
В Москве окна двустворчатые,
в Волгограде – трех;
в Рязани – кремль,
у Эли – эллипс,
у Юли – Юпитер.
Чавкают ноги в лужах.
Туфли больны ангиной.
Бальные хороводы уток
выкрашены рыжей сангиной.
Отбрезжил рассвет.
И – обидно! – сразу сумерки
бархатными пальцами прикрывают глаза,
и все – как будто бы – умерли.
1995
Замок
Снова дубовой листвы растревожены улья.
Вот уже осень, а встретились мы в июле.
Холод. Горчичного цвета поля. Такой же горчицей
обиты кресла, диван…
Как так могло случиться,
что существует жена —
Марина ли, Вероника…
И в результате: тебя поди попробуй верни-ка!
Я пытаюсь унять – не выиграть – эту войну,
будучи продана в рабство вчерашнему сну
о прекрасном замке, парящем
над склоном холма.
Донжоны венчают вершину,
как голову шейха – чалма.
Ветра контральто… Пригорки,
овраги и пашни,
хотелось бы вас созерцать
из высо-окой башни
с ее барбаканами, окнами в небо, зубцами,
рвом, крепостною оградой и лютыми псами…
Громко звонит телефон, и с высокого склона
в бездну летят барбаканы, порталы, колонны…
1998
Чай
Приходи к чаю, мама,
выбирай пряник самый
расписной-резной,
будь со мной.
Приходи к чаю, сестра,
завари зелье из трав,
сахар положи,
ворожи.
Приходи к чаю, брат,
в наш родной Вертоград,
отдыхай, играй —
это рай.
Приходи к чаю, душа.
Соли горсть, дегтя ушат —
все тебе, держись:
это жисть.
2010
Актриса
А вот и столик прикроватный.
На нем моя богиня держит
сосалки, склянки, валерьянки,
потертый томик взрослой книги,
вишневый, пухлый, коленкорный,
брошюру детскую
Бианки про синичек
и церковку из спичек.
Панно из накладных ногтей
Уж не шокирует гостей.
Нет, не квартира – косметичка!
По вечерам еще шарманка.
Все эти скрипки, фортепьянки,
шиньоны, шпильки, пузырьки
мое терпенье прогрызут!
И – изведут, сотрут мечту,
как неприличную тату.
Но что поделаешь – актриса.
И я, как раб у ног покорный,
ее, богиню, не осмелюсь…
И с горя – пиво и поп-корн…
Спи, ласточка моя.
1998
«В зимнем загородном доме…»
В зимнем загородном доме,
в тишине и полудреме,
дни как нитка-канитель,
что в руках твоих неспешных
вьется долго и прилежно.
Лишь полночная метель,
дней поток нарушив мерный,
шлет неясный сон химерный.
Скрип калитки, стук петель —
полуночная метель
усыпляет чисто поле,
распадаясь на триоли.
1997
«Ты танцуешь ногами…»
Ты танцуешь ногами,
я танцую словами.
Мой журавль в небесах,
а твой – оригами.
1997
Кронштадт
Вот наконец собрались, добрались
посмотреть край земли,
где мачты и якоря, и Гумилев, мечтающий на корабли.
Бели заливом пройти по искрению, блеску воды —
можно сразу в таверну имени мичманской бороды,
взять по холодному пиву и сидеть, и смотреть,
как осеннее солнце вскрывает блестящую твердь.
Глянец вечерней воды. Уходящая роскошь.
Мысли, бликуя от моря, роятся о прошлом.
Ветер с залива, в парке играют мальчишки, вместо
шума авто – грохот привязанной к велосипедам
консервной жести.
И вдруг замечаешь: у тех, кто живет
среди штилей, штормов и закатов, взоры
имеют тавро цвета волн,
бирюзы Морского собора…
Возвращаясь, мы долго смотрели, как в небе
расцветки тигровых лилий
плыл над заливом, кренясь, купол северной Айя-Софии.
2001
Петергоф
В этот раз
мы приехали в парк ближе к вечеру.
Уже выключили фонтаны.
Мы гуляли по берегу и по аллеям
и вдыхали липовый цвет.
Ровно в семь в парке появились дети,
Наводнили весь Петергоф.
На рулях их велосипедов
висели пакеты, в них звенели бутылки.
Каждый по своему маршруту,
они объезжали скамейки и урны.
И я подумала, что все они станут поэтами.
Как же иначе, если
все детство собирать бутылки
в приморских парадизах.
2001
Туфли
О, как долго меня не было дома!
Подхожу и вижу издалека:
горят наши окна.
Липа и клен, скамейка у клумбы – все те же.
Хлопает дверь, замок сыплет ржавчиной.
Вот я в прихожей.
Кошка вышла встречать, трется о пуфик холщовый.
Я снимаю пальто.
Разуваюсь.
Ставлю на место ботинки.
Рядом с ними, в углу,
в обувном каре у порога —
новые, ни разу еще не надетые
черные туфли сорокового размера
источают
едва уловимый
дух породистой кожи,
блестят лакировкой
при свете старинного бра.
– Петр, это твои? Тебе в школу купили? —
спросила младшего брата.
– Это дедушкины, – на ходу сказал Петька
и убежал по своим петьским делам.
«Туфли… – подумала я, – значит, туфли…
Зачем ему туфли, когда он восемь лет не встает…»
1999
Пайетки жизни
Лионель Месси не будет играть с нашей сборной.
Кличко станет драться с Чемберсом, а не с Поветкиным.
Задержаны турки, приплывшие в Россию за пивом
на спасательном круге.
Свиным гриппом заразился президент Коста-Рики.
В центре Москвы горит музей-квартира Немировича-Данченко.
Задымление не нарушило график движения поездов
в метро Петербурга.
Труп мужчины обнаружен в шасси самолета
«Владивосток-Авиа».
Одного из выживших в крушении Су-27 пилотов
снимали с дерева.
Меркель и Медведев осуждают убийства в Чечне.
Городские вороны колют орехи трамваями.
Страна вспоминает погибших моряков «Курска».
Успенский пост начинается у православных.
2010
«Аненербе»
В сиянии и дрожи воздуха,
в Богемии воздушных нитей
и в Севре неба, близкой Мойки, облаков
оно было прекрасно,
это здание.
Прекрасно и величественно: охра
при белых ордерах,
парадный вход,
фронтон, пилястры,
портик…
Его парадный силуэт,
густыми долгими тенями
удлиненный, —
то было в шесть утра —
меня пленил.
– А что за здание? —
спросила я прохожих.
– Ленэнерго.
И я изумилась —
послышалось «Аненербе»…
2001
«Златобокое яблоко…»
Златобокое яблоко
венчает
барочную башенку
новомодного дома.
Когда пойдем на Кузнечный,
обязательно надо купить
полкило яблок.
Яблоки…
Да, именно яблоки!
Пожалуй, самый
эстетичный плод.
И архитекторы это знают.
И художники.
И неизвестно, как бы сложилась
судьба мирового искусства,
если бы Еву
пришлось рисовать
с дынькой или морковкой.
2001
Гэндайси
Ах, отчего я не японская поэтесса
и не знаю иероглифов и каллиграфии,
а то пила бы саке
и писала гэндайси
на рисовой тонкой бумаге,
целый час по утрам завязывала пояс оби,
потом раздвигала бы сёдзи —
не подумайте ничего плохого,
это у них так дверь называется,
которая у европейцев купе, —
и выходила во дворик,
пусть это будет в самой
глухой деревеньке,
чтобы
в ближайшей харчевне перекусить
парой кусочков теленка,
который, наверно,
так ласково хлопал ресницами,
слушая Баха или просто
дворцовую музыку,
а потом бы опять
шла домой
и писала гэндайси,
они были бы нежными и бескровными,
как мясо теленка.
2002
Ня
Официант в ресторане турецкого
трехзвездочного отеля,
невдалеке от Антальи,
тот самый,
которому я нравлюсь
(позавчерашняя дискотека),
подошел, пока меня не было,
к нашему столику
и спросил по-русски подругу:
– Светта,
твою подругу зовут Ня?
– Же.
Я услышала «Же».
– Что «Же»? – спросила, когда он ушел.
– Женя, – сказала подруга. —
Я говорю,
что тебя зовут Женя.
Но он так и звал меня Ня —
«Же» никак не давалось.
2000
Алеша
Позвонила другу,
а подошла его мама.
– Простите, Алексея можно к телефону?
– Алешу? – так тихо и изумленно
переспрашивает она,
как будто там их двое,
и Алексей, и Алеша,
причем мне-то, конечно, нужен второй,
а то, что у них есть еще Алексей,
я просто не знаю.
1999
Пленница
Маша Петелина
застряла в лифте в общежитии.
И я решила скрасить ее плен.
Пошла к соседу:
– Егор! А нет ли у тебя
какой-нибудь хорошей книжки почитать?
Но только тонкой:
там Петелина
застряла в лифте
и толстую мне ей не пропихнуть:
заклинило дверные створки,
осталась
ма-аленькая щель.
Егор дал «Томасину».
И предложил, немножко издеваясь,
совсем чуть-чуть:
– А может, свечку ей еще?
Церковную?
А служба все не едет…
Книжка кончилась.
И Маша захотела есть.
– А как же раньше столпники? Терпи!
Но выход все же найден:
пленница
накормлена бульоном «Кнорр»
через соломинку.
Потом просунули поштучно сухари
и ниточки наушников —
Миша из пятьсот десятой
дал плеер;
по просьбе узницы
поставили Вивальди.
Когда приехали лифтерши наконец —
она уже привыкла к новой жизни.
2001
Новенькая
К нам в класс
пришла новенькая.
Красавица, стерва и гадина.
Все мальчики
были в нее влюблены.
Однажды она
подошла к моей парте
и заметила книгу.
Артюр, – было написано маленькими буквами;
а Рембо – большими.
Пьяный корабль, впрочем, тоже большими.
– А, Ре́мбо! – воскликнула
новая девочка,
не удостаивавшая меня до этого
ни словом, ни взглядом. —
Дашь почитать?
Сталлоне она уважала.
2001
Ой!
Иду по улице и пью баночный вермут,
банку за банкой,
и напиваюсь,
и, кажется, даже икаю.
Хорошо – никого.
Улица эта пустынна,
пусто, как на Луне,
целый квартал выселенных домов,
немного страшно,
но, в общем, не все ли равно,
можно идти и насвистывать
«Сказки Венского леса»,
Geschichten aus dem Wienerwaid,
икать меж реприз и кричать «помогите!» —
никто не ответит,
это мертвый квартал,
нормальные люди здесь ночами не ходят,
а я – срезаю дорогу.
Ой!
… … … …
1999
Крыльцо
В холодную мрачную безлунь
курю на больничном крыльце.
Во двор твоих окон прицел
льет свет над горячечной бездной.
Все листья в кострах сожжены.
В ухоженном парке просторно,
и снег идет тихо и скорбно,
как нищий за гробом жены.
1998
«В автобусе, пустом, как лес, и жарком…»
В автобусе, пустом, как лес, и жарком,
я загляделась беспардонно на красавца.
Он зло заметил это. Я ему:
мол, вы красивы. – «Вы же – безобразны».
«Какой, вы, право, пересмешник, – говорю, —
я пошутила, глянь: и он – туда же».
1999
«Яндекс» говорит с моей anima
На дорогах свободно, новых писем нет.
2009
«Круг скоро замкнется…»
Круг скоро замкнется.
Сейчас уже первые числа марта.
Я – готовлюсь к весне:
зашиваю дырки на прошлогодних колготках,
узнаю рецепт пасхального пирога,
редко тоскую.
Летом —
разбираю ветошь и хлам
у нас в доме на чердаке,
раскаленном от солнца;
нахожу в огороде, в земле,
дореволюционные деньги;
закупаю на зиму мед.
Осенью я наконец-то
чувствую в себе легкость,
хрустальную легкость —
как и в воздухе.
Тоска уже где-то рядом,
она приходит из дыма костров,
в которых я жгу старый мусор,
замечтавшись
о чистоте декабря.
1996
Загс и морг
Каждый раз,
когда иду от Сухаревки домой
и сворачиваю с проспекта
у загса, —
душит дьявольский хохот:
наверное,
нигде больше загс и морг
не соседствуют так близко.
Идея захватила,
и однажды
я стала мерить расстояние
в шагах.
Оказалось
семьдесят пять.
Да два бреха собаки,
Да вороны одиннадцать карканий.
2010
«Дом, в котором кривилась мне арка, недавно снесли…»
Дом, в котором кривилась мне арка, недавно снесли,
под старые ели префект подогнал самосвал
жирной черной земли,
на месте пустом построили терем резной, расписной,
внизу, под сосной,
Аджимушкай – три этажа —
подземного гаража,
над ним вознеслись купола под самые небеса,
смотрю из окон: краса,
подворье Саровского монастыря. А жаль,
теперь не увидишь гирлянду огней – транспортная река
питала Садовое, Третье и облака,
текла мимо нас, лизала голыш-особняк,
его сорок лет занимал «Букинист», корешками маня,
а ныне плацдарм маргиналов, кофейня,
то ли пегасня, то ли орфейня.
Сколько всего изменилось за время, сигналящее под окном,
помнит выжившийдом.
2008







