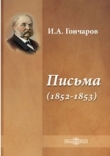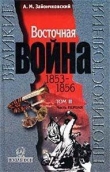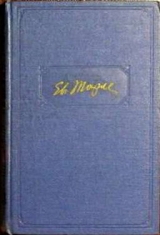
Текст книги "Сочинения в двенадцати томах. Том 8"
Автор книги: Евгений Тарле
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 47 страниц)
Глава I. Накануне Крымской войны
1
Инициативная роль, которую сыграл Николай при возникновении Крымской войны, была не случайным явлением, но строго обусловленным обстоятельствами и почти неизбежным историческим фактом.
Припомним хотя бы вкратце основные черты дипломатической деятельности и настроений Николая перед началом конечной катастрофы и прежде всего постараемся уяснить себе, каковы были сильные и слабые стороны его как дипломата. Сильной стороной являлись: некоторая способность к дипломатической деятельности, уменье вести переговоры в соответствующем случаю тоне, уменье (утраченное им впоследствии) вовремя понять ошибку и свернуть с опасного пути, уменье (тоже потерянное в последние годы царствования) терпеливо ждать, не теряя из виду поставленной цели, но и не форсируя событий, наконец, стремленье до последней возможности стараться достигнуть желаемого результата чисто дипломатическим путем, не прибегая к войне. Что касается слабых его сторон как руководителя внешней политики империи, то одной из главных – была его глубокая, поистине непроходимая, всесторонняя, если можно так выразиться, невежественность.
Гнусная, истинно варварская жестокость, с которой он расправлялся со всеми, в ком подозревал наличие сколько-нибудь самостоятельной мысли, палочная дисциплина в армии и вне армии, режим истинно жандармского удушения литературы и науки – вот чем характеризовался его режим. Ни русской истории, ни России вообще он не знал. Царь понятия не имел об истинном состоянии великой державы, которой обладал, и хотя знал о многих царивших в России вопиющих безобразиях и злоупотреблениях, но даже и не начал догадываться, до какой степени внутренний строй, который он считал своим долгом поддерживать самыми жестокими мерами, понижает боеспособность и внешнюю силу империи. Лишь к концу жизни его стало прямо удручать – моментами – неистовое казнокрадство, с которым он ровно ничего не мог поделать. Еще гораздо более невежествен был Николай во всем, что касалось западноевропейских государств, их устройства, их политического быта. Его неосведомленность вредила ему неоднократно. Он вступил в жизнь, почти ничего не зная, и упрямо не хотел признавать самой необходимости ученья. «Мне нужны не умники, а верноподданные», – этот афоризм он повторял неоднократно.
Младшие сыновья Павла отличались оба полной свободой от каких бы то ни было приобретаемых из книг познаний. Грубый и невежественный солдат Матвей Иванович Ламздорф мог научить Николая и Михаила, к которым был приставлен, только тому, что он сам знал. А сам он ничего не знал. «Ламздорф бесчеловечно бил великих князей линейками, ружейными шомполами и пр. Не раз случалось, что в своей ярости он хватал великого князя за грудь или воротник и ударял его об стену так, что тот почти лишался чувств. Розги были в большом употреблении, и сечение великих князей не только ни от кого не скрывалось, но и заносилось в ежедневные журналы».
Николай впоследствии говорил: «Ламздорф… не умел ни руководить нашими уроками, ни внушать нам любовь к литературе и к наукам… Бог ему судья за бедное образование, нами полученное»[47]47
Русская старина, 1896, июнь, стр. 451.
[Закрыть]. Однако чем увереннее с каждым годом Николай чувствовал себя на престоле и чем более возрастало его влияние в Европе, тем более он начинал признавать науки вообще делом не только совершенно излишним, но даже определенно вредным. Об этом нам говорят вполне точно самые разнообразные свидетели. «Мне не нужно ученых голов, мне нужно верноподданных», – заявил Николай, когда пред ним ходатайствовали за провинившихся воспитанников Гатчинского сиротского института на том основании, что они – лучшие ученики института[48]48
Эвaльд А. Рассказы о Николае I. – Исторический вестник, 1896, июль, стр. 55.
[Закрыть]. «Мне не нужно умных, а нужно послушных», – в различных выражениях повторял он.
С этим вполне согласуется показание правдивое, нелицеприятное и исходящее от человека, далекого от какой-либо «оппозиции»: мы говорим об известном историке России С. М. Соловьеве. Вот сцена с натуры, зарисованная Соловьевым: «Посещает император одно военное училище; директор представляет ему воспитанника, оказывающего необыкновенные способности, следящего за современной войной, по своим соображениям верно предсказывающего исход событий. Что же отвечает император? Радуется, осыпает ласками даровитого молодого человека, будущего слугу отечества? Нисколько. Нахмурившись, отвечает Николай: „Мне таких не нужно, без него есть кому думать и заниматься этим; мне нужны вот какие!“ С этими словами он берет за руку и выдвигает из толпы дюжего малого, огромный кус мяса, без всякой жизни и мысли на лице и последнего по успехам»[49]49
Соловьев С. М. Цит. соч., стр. 117.
[Закрыть].
Павел Лукьянович Яковлев, деятельный сотрудник журнала 20-х годов XIX в. «Благонамеренный» (поминаемого Пушкиным в «Евгении Онегине»), приписывает Пушкину слова: «Поэты – сверхкомплектные жители света!»[50]50
Яковлев записал это в своем рукописном Хлыновском наблюдателе. См. Русская старина, 1903, июль, стр. 214 (Кибасов И. Павел Лукьянович Яковлев).
[Закрыть]
При Николае Павловиче «сверхкомплектными» оказались очень скоро не только Пушкин и Лермонтов, но столь же «сверхкомплектным» было и все, что отдаленно напоминало о свободном полете мысли, о научном добросовестном исследовании. В особенности в армии наука, даже чисто военная, была почти объявлена официально предметом решительно «сверхкомплектным». Если еще для конца александровского царствования и самых первых лет Николая была возможна шутливая жалоба Дениса Давыдова на молодых гусар («Послушаешь любого – Жомини да Жомини, а об водке ни полслова»), то с течением времени водка одержала окончательную победу над «Жомини». Основанная в Петербурге, при Главном штабе, усилиями и по инициативе этого самого Жомини, Военная академия влачила к концу царствования Николая поистине жалкое существование.
Подозрительное и более чем холодное отношение царя к науке, к печатному слову, ко всему книжному было хорошо известно. У великого князя Михаила Павловича, любимого младшего брата и друга Николая, стоял в кабинете книжный шкап красного дерева, обращавший на себя внимание странной деталью: он был не только заперт на ключ, но и забит большим гвоздем, как бы в доказательство, что его владелец отныне обязывается книг более никогда в руках не держать. Вбит был этот гвоздь Михаилом Павловичем – человеком, не лишенным своего рода юмора, – в день его производства в полковники: это было им сделано как бы в знак любезности и благодарности по отношению к старшему брату. Гвоздь тут имел значение символическое. Если ученый вообще был несколько подозрителен, то ученый офицер был уже совсем явлением беспокоящим и подлежащим пристальному наблюдению. При этих условиях существование Военной академии казалось несколько парадоксальным. Да это заведение и было при Николае I каким-то посторонним наростом, вне органической связи с русской армией. Ни малейшим вниманием и расположением самодержца академия не пользовалась и была отдана под строгий надзор полуграмотного генерала Сухозанета, принципиально отрицавшего пользу науки для военного человека.
Вот классическая по законченности мысли и отчетливости ее выражения речь президента Военной академии Ивана Онуфриевича Сухозанета, произнесенная им 14 ноября 1846 г. на экстренном собрании всех учащихся в академии офицеров и всего профессорского и административного состава: «Я, господа, собрал вас, чтобы говорить с вами о самом неприятном случае. Я замечаю, в вас нисколько нет военной дисциплины. Наука в военном деле не более, как пуговица к мундиру; мундир без пуговицы нельзя надеть, но пуговица не составляет всего мундира». Сухозанет всеми мерами старался отвратить офицеров академии от ошибочной мысли, будто наука военному человеку на что-либо нужна, и в приказе его по Военной академии от 14 февраля 1847 г. мы читаем: «Не лишним считаю здесь повторить еще то, что я говорил уже несколько раз при сборе офицеров в Академии, без науки побеждать возможно, но без дисциплины – никогда».
Николай хорошо понимал и недостаточность природных своих талантов, и убогую скудость своего образования, и полнейшую свою неподготовленность к грандиозным функциям, выпавшим на его долю. И несмотря на это, а точнее, как это ни странно сказать, именно поэтому царь был болен самой безнадежной, наиболее ослепляющей и отупляющей формой самоуверенности: ему всегда везло, всегда, до последних двух лет жизни, все удавалось, и он не только ощущал, но и выражал точными словами, что если при ограниченности личных своих способностей он достигает всех главных своих целей и выходит, в конечном счете, без повреждений из самых трудных обстоятельств, то значит само провидение бдит над ним и вдохновляет его.
«Никто не чувствует больше, чем я, потребность быть судимым со снисходительностью, но пусть же те, кто меня судят, имеют справедливость принять в соображение необычайный способ, каким я оказался перенесенным с недавно полученного поста дивизионного генерала на тот пост, который я теперь занимаю… Но я имею твердую уверенность, что божественное покровительство, которое проявляется по отношению ко мне слишком осязательным образом (d'une manière trop palpable), чтобы я мог не заметить его во всем, что со мной случается, – вот моя сила, мое утешение, мое руководство во всем»[51]51
ГПБ, Рукописи., отд., архив Н. К. Шильдера, К – 4, № 11. Имп. Николай I – цесаревичу. С.-Петербург, 29 ноября (11 декабря) 1827 г.
[Закрыть]. Так писал Николай в поучение своему сыну и наследнику еще в начале своего царствования. А сколько лести окружало его с тех пор! Сколько раз он чувствовал себя, вплоть до 1853 г., царем не только в границах половины Европы и половины Азии, которые дала ему судьба, но и кое-где за этими необъятными пределами… Николаю Павловичу тем легче было успокоиться в сознании этой прочной гарантии и помощи со стороны сверхъестественных сил и примириться с ясно сознаваемой своей полной необразованностью, что самые сложные вопросы представлялись ему крайне ясными и простыми. Что такое Россия? Как она создавалась? Прочна ли его держава, и если прочна, то почему? На все это у Николая были точные, определенные, хотя и несколько лаконичные ответы. Никаких иллюзий относительно того, чем держится целостность его колоссальной империи, Николай себе не создавал. Российская империя, согласно воззрениям Николая, создавалась завоеваниями и будет держаться, пока будет в состоянии охранять старые завоевания и предпринимать новые, и физическая сила одна только подчиняет неограниченной власти русского царя весь пестрый конгломерат его подданных. В бумагах Михаила Максимовича Попова сохранился, а оттуда попал в архив Шильдера, следующий рассказ, который тут должно привести уж потому, что он не нуждается ни в малейших комментариях.
«К. И. Арсеньев преподавал наследнику статистику. Раз читал он о народах, из которых составлена Россия. Показался император Николай, проходивший через классную комнату. Услышав предмет чтения, он остановился и начал прислушиваться. Когда Арсеньев объяснял, что поляки, литовцы, прибалтийские немцы, финляндцы и другие племена по вере, языку, историческим преданиям, характеру и обычаям совершенно различествуют друг от друга и от русского народа, – государь стал… приближаться. Но, – продолжал Арсеньев, – все эти народы под мудрым правлением наших государей так связаны между собою, что составляют одно целое. „А чем все это держится?“ – спросил государь сына своего, быстро подойдя к нему. Наследник дал заученный ответ: „Самодержавием и законами“. – „Законами, – сказал государь, – нет, самодержавием – и вот чем, вот чем, вот чем!“ – и при каждом повторении этих слов махал сжатым кулаком. Так понимал он управление подвластными ему народами»[52]52
Там же. Из бумаг М. М. Попова.
[Закрыть].
Точно так, добавим, понимал он и «покровительство» православным подданным султана, если бы эти православные перешли окончательно под его руку. Сомнений в этом никаких быть не может. Эта упрощенность взглядов, проистекавшая из отмеченного всестороннего невежества, особенно сказывалась в его усилиях по борьбе с революцией в Западной Европе, прежде всего в приемах этой борьбы. О том, что с освободительным движением западноевропейской буржуазии, с ее борьбой против феодальных пережитков и абсолютизма дворянских монархий победоносно справиться в конечном счете невозможно, о том, что его, Николая Павловича, позиция в данном случае очень походит на борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами, – об этом царь никогда даже и не начинал догадываться. Но он совершенно лишен был вообще исторического инстинкта, ощущения перемен, которые происходят и которые делают в данном поколении абсолютно невозможным то, что очень хорошо удавалось предшествующему поколению.
Все революции происходят от слабости и снисходительности правителей, всякая уступка гибельна, идеи и идеалы Священного союза должны быть единственной умственной пищей человечества и единственным содержанием политической жизни Европы. Все ничтожнейшие не только по реальным результатам, но даже и по первоначальным намерениям поползновения Николая подойти к вопросу о «смягчении» крепостного права показывали только, что царь считает не весьма нормальным крепостное рабство для большинства своих подданных.
А жалкая участь всех этих «секретных комитетов» была результатом сознания Николая, что шевелить вопрос о крепостном праве слишком опасно и что лучше мириться с чем угодно, но не трогать основ существующего порядка вещей. Напротив, необходимо жесточайшими мерами эти основы ограждать. Собственно, Николая серьезно волновала, раздражала и тревожила лишь одна особенность возглавляемого им строя: то неслыханное по своим размерам и своей широчайшей распространенности казнокрадство, которое его окружало и в борьбе с которым, как упомянуто, он оказывался вполне бессилен. А что это явление серьезно и уж непосредственно подрывает силы правительства, это он хорошо понимал.
Ведь дело доходило до появления эпидемий голодного тифа, истреблявших полки, что было вызвано исключительно безудержным грабежом. Ни в одной абсолютистской державе в Европе того времени все-таки подобных явлений в таких фантастических размерах не было: нигде не было такой безысходно тяжелой обстановки солдатской службы, как в России.
В русской армии, стоявшей в 1854—1855 гг. в Эстляндии и не бывшей в соприкосновении с неприятелем, большие опустошения производил объявившийся среди солдат голодный тиф, так как командующий состав (die kommandieren Offiziere) воровал и оставлял рядовых на голодную смерть, говорит правдивый современник[53]53
Bernhardi Th. Briefe und Tagebuchblätter aus den Jahren 1834—1857. Leipzig, 1893, стр. 352.
[Закрыть].
В мою работу о Крымской войне я не могу вставить, как хотелось бы, подробное большое исследование вопроса о том, как питался, одевался, работал, жил, служил русский солдат в последние годы Николая. Скажу лишь вполне категорически: все общие намеки и указания о притеснениях, истязаниях, голоде, непрерывных побоях, доходивших иногда до садистского издевательства, о нищенском существовании целых полков, обворовываемых своими командирами, целых дивизий, обкрадываемых генералами, – все это не дает даже и приблизительного понятия об истинном ужасающем положении вещей. Ни старая дворянская и буржуазная русская историография, так мало вообще сделавшая для серьезного изучения России в XIX в., ни новая историография не дала до сих пор строго исследовательского типа работ о русском солдате и русском матросе на протяжении последнего столетия существования монархии. Этот долг былым мученикам и героям, отстаивавшим своей кровью жестокую к ним родину, еще совсем не оплачен нашей наукой.
Человек с большими административными способностями, впоследствии лучший военный министр, какого когда-либо имела императорская Россия, Дмитрий Алексеевич Милютин пишет в своих записках: «Говоря совершенно откровенно, и я, как большая часть современного молодого поколения, не сочувствовал тогдашнему режиму, в основании которого лежали административный произвол, полицейский гнет, строгий формализм. В большой части государственных мер, принимавшихся в царствование императора Николая, преобладала полицейская точка зрения, т. е. забота об охранении порядка и дисциплины. Отсюда проистекали и подавление личности, и крайнее стеснение свободы во всех проявлениях жизни, в науке, искусстве, слове, печати. Даже в деле военном, которым император занимался с таким страстным увлечением, преобладала та же забота о порядке, о дисциплине, гонялись не за существенным благоустройством войска, не за приспособлением его к боевому назначению, а за внешней только стройностью, за блестящим видом на парадах, педантичным соблюдением бесчисленных мелочных формальностей, притупляющих человеческий рассудок и убивающих истинный воинский дух»[54]54
Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Рукописный отдел, № 7812, л. 22.
[Закрыть].
Солдата истязали, учили совсем ненужным и нелепым приемам и готовили к парадам и смотрам, а не к войне. А кроме того, армию систематически обворовывали, и это обстоятельство стояло в теснейшей связи с общим для всех ведомств в России неслыханным разгулом хищничества, принимавшего постепенно совсем уж сказочные размеры. Еще Александру I упорно приписывали афоризм, сказанный им, как утверждали, в конце его жизни об окружавших его сановниках, и эти слова особенно часто повторялись в западноевропейской памфлетной литературе именно в 1854—1855 гг., во время Крымской войны: «Они украли бы мои военные линейные суда, если бы знали, куда их спрятать, и они бы похитили у меня зубы во время моего сна, если бы они могли вытащить их у меня изо рта, не разбудив меня при этом»[55]55
Ср. Gilsоn A. The czar and sultan, стр. 30. (Серия памфлетов: The subject of the day).
[Закрыть].
И прежде всего во враждебной Николаю европейской прессе останавливались именно на хищениях во флоте и в военном ведомстве. Знаменитое расхищение миллионного капитала инвалидного фонда Политковским поразило Западную Европу. Николай ничуть не скрывал ни от себя, ни от других, что он окружен хищниками, взяточниками и казнокрадами. Но дело Политковского все-таки совсем вывело его из равновесия, потому что ни за что не соглашался он поверить, будто подобное, годами длившееся преступление могло быть совершено без покровительства и сочувствия самых высших лиц военного министерства. Может быть, дело Политковского так потрясло царя потому, что оно разразилось непосредственно после потушенного им самим дела Клейнмихеля.
Любимец Николая, главноуправляющий путями сообщения, один из гнуснейших негодяев, палач, истязавший розгами и солдат, и военных поселенцев, и рабочих, и воспитанников Главного инженерного училища, главный казнокрад путейского ведомства по положению, вор и мздоимец по определившемуся с юности призванию, граф Петр Андреевич Клейнмихель как раз в 1852 г. попал в неприятную и хлопотливейшую историю, тоже очень взволновавшую царя. Клейнмихель имел неосторожность в свое время украсть почти полностью суммы, ассигнованные на обмеблирование большого Зимнего дворца, который был выстроен после пожара 17 декабря 1837 г., истребившего старый дворец. Правда, Клейнмихель и его помощники уворовали тогда же, еще в 1838 г., очень много казенных денег именно при самой постройке нового дворца, так что уже в августе 1841 г. внезапно обрушилась в только что отстроенном дворце целиком вся крыша и потолок над огромным Георгиевским залом, да и потом дворцовые потолки и печи не обнаруживали долговечности, – но чисто бухгалтерским путем доказать эти хищения было очень трудно. Во-первых, подрядчики и поставщики, которым недоплачивал Клейнмихель, отыгрывались зато уж сами при расчете с рабочими, а во-вторых, окончательное сведение счетов значительно упрощалось и облегчалось тем, что рабочие мерли сотнями и сотнями при этой постройке, так как им велено было спать в строящемся здании, чтобы высушивать, обживать и обогревать своим дыханием и своими телами сырые еще апартаменты. Этот клейнмихелевский способ осушки дворца вызвал немало комментариев в свое время и в России и за границей. Но неосторожность увлечения графа Петра Андреевича на сей раз заключалась не в этом (потому что рабочие и при жизни так же мало могли жаловаться, как и после смерти), а в том, что он счел целесообразным присвоить себе, сверх строительных ассигновок, также и суммы, отпущенные на покупку и изготовление дворцовой мебели. Четырнадцать лет подряд поставщики не могли добиться уплаты следуемых им денег. В 1852 г. долготерпение их лопнуло, и каким-то способом дело дошло до царя. Николай, несомненно, знал, что подвиг Клейнмихеля не только коллективен, но и индивидуален и что фаворит его нагло лжет, сваливая все на своих подчиненных. В первый момент царь был прямо потрясен этой историей с дворцовой мебелью и кричал, что он теперь уже не знает, принадлежит ли ему тот стул, на котором он сидит. Несколько недель подряд Николай не допускал к себе Клейнмихеля и не разговаривал с ним. А затем все уладилось и пошло по-прежнему. Царь закрыл на все глаза и прикинулся убежденным, будто Клейнмихеля обманули его чиновники, а сам Петр Андреевич виновен лишь в излишней доверчивости, что составляет трогательный недостаток, свойственный вообще чистым душам и неисправимым идеалистам.
Николай со своим бесспорным, хоть и узким, неглубоким, односторонним умом, своей подозрительностью, наконец, со своим богатейшим (к концу царствования) опытом твердо знал, что он окружен ворами, взяточниками, казнокрадами, предателями, лживыми и своекорыстными людьми, но всякий раз, когда это очень уже эффектно обнаруживалось воочию, его явно угнетало сознание, что и на самом верху, ближайшее его окружение ничуть не лучше, что некого даже послать для контроля, для правильного расследования, для наложения кары на кого нужно.
Когда внезапно 1 февраля 1853 г. открылось, что директор канцелярии инвалидного фонда Политковский похитил около 1 200 000 рублей серебром, Николай был потрясен не суммой кражи, а тем, что она совершалась много лет подряд, что на роскошных кутежах Политковского присутствовал весь сановный Петербург во главе с Леонтием Дубельтом, фактическим начальником III отделения, что казнокраду явно попустительствовал аристократ старого рода, взысканный милостями Ушаков, личный доверенный генерал-адъютант царя, правда, юридически вывернувшийся из беды. Современники передают нам, что кража Политковского поразила государя, как громовой удар. «Когда военный министр привел председателя Комитета, генерал-адъютанта Ушакова, государь весь изменился, и даже похолодели его руки. „Возьми мою руку, – сказал он Ушакову, – чувствуешь, как холодна она? Так будет холодно к тебе мое сердце!“»[56]56
ГПБ, Рукописн. отд., архив Н. К. Шильдера, К – 4, № 11. Из бумаг М. М. Попова.
[Закрыть].
Все члены Комитета о раненых были преданы военному суду. «Сам комендант Петропавловской крепости Мандерштерн считался под арестом. Государь Николай Павлович занемог от огорчения и воскликнул: „Конечно, Рылеев и его сообщники со мной не сделали бы этого!“»[57]57
Из дневника и записной книжки П. X. Граббе. – Русский архив, 1889, № 2, стр. 634.
[Закрыть]. Это в первый раз Николай в феврале 1853 г. вспомнил о повешенных им 13 июля 1826 г. декабристах. В его словах не было, конечно, настоящего раскаяния, и сам царь едва ли мог точно определить, какое именно чувство вырвало у него из уст эту гневную и горькую фразу раньше, чем он спохватился и совладал с собой. Может быть, ему пришлось засадить скомпрометированного по воровскому делу коменданта Петропавловской крепости в ту самую камеру тюрьмы, где некогда сидел в ожидании виселицы Рылеев. Но во всяком случае до очень большой растерянности и до слишком уж острого раздражения был доведен этот самолюбивый человек, если решился на такое признание.
Но власть, блеск, лесть, величие положения быстро изгоняли беспокойство и гнев, возникавшие в душе царя всякий раз, когда он наглядно убеждался, какой систематический обман его окружает со всех сторон. И если, с одной стороны, к концу царствования нервы Николая явно сдавали и он все болезненнее переносил «громовые удары» в духе истории Политковского, то, с другой стороны, никогда его внешняя политика не казалась ему такой удачной, никогда влияние царя не являлось таким устрашающим для Европы, никогда, наконец, он не представлялся и друзьям и врагам за рубежом до такой степени могущественнейшим человеком на всем земном шаре, как именно после 1849 г. Этот блеск (так представлялось не только царю, но и многим ненавидевшим его людям) вознаграждал за все, оправдывал все и гарантировал прочность всего. И чем больше становилась явной Николаю полнейшая для него невозможность, сохраняя крепостное право и другие основы строя России, что-либо поправить или улучшить внутри страны, тем более безраздельно отдавался он интересам упрочения и дальнейшего увеличения внешнего могущества своей империи.
Когда в присутствии князя Долгорукова, русского посланника в Копенгагене, выразили надежду тотчас после смерти Николая, что Александр II положит предел злоупотреблениям, которые терпел его отец, – Долгоруков воскликнул: «Боже его от этого упаси, беспорядок и замешательство – это стихия, в которой мы живем (le désordre et la confusion, c'est l'élément dans lequel nous existons)»[58]58
Gerlach L. Denkwürdigkeiten. Bd. II. Berlin, 1892, стр. 336.
[Закрыть].
И Николай фактически действовал именно так, как должен был действовать человек, вполне разделяющий это мнение Долгорукова. «Разбитый, обкраденный, обманутый, одураченный шеф Павловского полка отошел в вечность», – писал о Николае впоследствии Герцен. Все эти эпитеты, кроме первого, в точности были применимы к нему, «шефу Павловского полка», уже и тогда, когда он вовсе еще не был разбит, и когда один свинцовый взгляд его холодных, подозрительных, всегда поражавших странным беспокойством суровых глаз смущал, а иногда и пугал представителей первостепенных европейских держав. Разложение в окружении царя было велико, но и речи не могло быть о какой бы то ни было борьбе с этим явлением. Следовательно, нужно было поменьше приглядываться и не ворошить гниющую массу, а поскорее закрыть глаза и обратиться туда, где все было так лучезарно, так светло, так благополучно, – к внешней политике, хозяйничанью в европейской вотчине, о чем верный приказчик канцлер Нессельроде писал такие успокоительные и лестные для царя доклады в форме своих ежегодных обозрений международной политики.
И не только сам император видел в долгих успехах своей внешней политики главное доказательство, что, значит, и внутри государства все идет как следует, несмотря на ежегодные все учащавшиеся убийства помещиков и волнения крестьян, несмотря на больших и маленьких Политковских, несмотря на голодный тиф в полках, несмотря на совсем безудержный грабеж и развал в администрации и суде и несмотря на прочие тому подобные неприятности. Даже очень критически настроенные посторонние наблюдатели сплошь и рядом успокаивали свое возмущенное сердце, когда обращались от внутреннего состояния николаевской России к ее положению в области международной политики и дипломатии. Сенатор Н. К. Лебедев, обер-прокурор сената в 1848—1850 гг., человек, много видевший, много знавший, на каждой странице своих интимных, не для печати предназначавшихся записок говорит о неслыханных безобразиях, царящих во всех ведомствах, о чудовищных хищениях, о полном отсутствии правосудия и порядка, о ничтожествах, которым дана на поток и разграбление вся Россия, о бездарных и невежественных генералах, которым за удачный смотр дают высшую награду, какая есть в государстве, – звезду Андрея Первозванного. Нет числа, меры и предела гнусностям и злоупотреблениям, которые сохранило для потомство это правдивое перо. Но – все прощено Лебедевым, и во всем утешен Лебедев: «Приятно русскому сердцу, когда услышишь как чествуют государя в Вене и Берлине. Наш великий государь – глава Европы в полном смысле слова. С 1830 года можно признать в истории век Николая I»[59]59
Из записок Н. К. Лебедева. – Русский архив, 1888, № 4, стр. 623.
[Закрыть]. Это писалось в 1852 г., накануне катастрофы.
И люди совсем других кругов общества часто разделяли настроения Лебедева. «Некоторые утешали себя так: Тяжко! Всем жертвуется для материальной, военной силы; но по крайней мере мы сильны, Россия занимает важное место, нас уважают и боятся»[60]60
Соловьев С. М. Цит. соч., стр. 150.
[Закрыть], – вспоминал С. М. Соловьев – молодой, но уже широко известный историк – о настроениях России накануне Крымской войны.