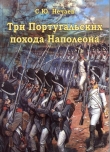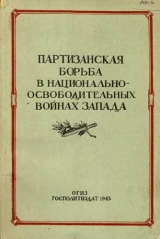
Текст книги "Партизанская борьба в национально-освободительных войнах Запада"
Автор книги: Евгений Тарле
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Французская армия, по удачному сравнению Мармона, сама уподобилась стаду, которое вынуждено менять свое пастбище всякий раз после того, как оно объедает занимаемую ранее местность. Но «пастбищ» нехватило для армии Мармона на огромной оккупированной ею территории. Маршал бомбардировал Жозефа требованиями о снабжении. Жозеф посылал ему продовольствие из центра, что привело к опустошению складов Мадрида, к значительному повышению цен на хлеб в столице и к огромному количеству голодных смертей на улицах Мадрида. Таким образом французская армия всюду несла с собой разорение, опустошение и смерть для испанского народа.
Но испанский народ, как и португальский, не дал французским захватчикам надеть на себя чужеземное ярмо. С приближением французских войск деревни пустели. Население уходило, угоняя с собой скот, пряча все свое имущество, – армия занимала пустыню. Управлять было, собственно, некем, взыскивать контрибуцию – не с кого. Солдаты сами пускались в «экспедиции» за продовольствием. Когда им случалось поймать какого-нибудь местного жителя, его подвергали пыткам, вынуждая указывать, где спрятаны продукты. Нередко эти допросы кончались смертью допрашиваемого. Население жестоко мстило французам за их зверства. Каждый день крестьяне убивали по нескольку солдат, а иногда захватывали и целые части. В Португалии население обрекло на голод французскую армию. Продукты и урожай были сожжены, а поля остались незасеянными. Наступая в октябре 1810 г. на линию Торрес – Ведрас, маршал Массена нашел страну, «все ресурсы которой были уничтожены, откуда жители ушли, оставив позади себя только голод да землю на могилы» [32]32
Thiebault, op. cit., v. IV, p. 458.
[Закрыть].
Испанское сельское население решительно отказывалось от всякого общения, а тем более какого-либо сотрудничества с французами. Все французские генералы жаловались на исключительные трудности, например, на трудность организации разведки в Испании. «Каждый житель являлся врагом. Повсюду нас окружала ненависть, которая все скрывала от нас, – писал маршал Сюше. – Обещания и угрозы были почти всегда одинаково бессильны вырвать полезную для нас тайну» [33]33
Sachet, op. cit., v. I, p. 24.
[Закрыть]. Мармон, сравнивая положение французских и английских войск в Испании, с горечью замечает: «Веллингтону, несомненно, случалось не один раз узнавать раньше меня то, что происходило в двух лье от моего генерального штаба» [34]34
Marmont, op. cit., v. I, p. 24.
[Закрыть]. Действительно, столь же энергично, как они скрывали от французов нужные им сведения, испанские крестьяне сообщали эти сведения союзникам – англичанам и своим собственным партизанам. Маршала Сюше очень раздражало, что, как только его войска приходили в деревню, крестьяне принимались считать количество французов. Понятно, насколько важно было для испанцев вести счет своим врагам.
Таковы были относительно «пассивные» формы борьбы испанского народа против своих захватчиков. Активной формой этой борьбы была знаменитая герилья («малая война») – понятие, ставшее интернациональным.
Испанский крестьянин – прирожденный партизан в силу условий его жизни. Крепкий и выносливый, настойчивый и смелый, живущий обычно в нищете и способный поэтому легко переносить самые большие лишения, привычный в обращении с оружием и легко хватающийся за него для защиты своей семьи, чести и свободы; проникнутый, наконец, глубоким чувством собственного достоинства, гордости и независимости, – испанский народ не мог дешево продать свою свободу и подчиниться игу французского захватчика. Каждый округ формировал свой партизанский отряд для защиты своей территории и участия в общей обороне. В отряды входило не только все мужское население, но нередко и женское. Партизаны выбирали из своей среды начальника отряда и подчинялись общему руководству местных хунт. По мере того как борьба затягивалась, герильи превратились в постоянные отряды, составленные из остатков разбитых испанских армий, бывших контрабандистов, крестьян, монахов, студентов и др. Отряды были различны по своей численности – от нескольких десятков и даже единиц до нескольких тысяч человек (особенно к концу войны). Численность одного и того же отряда менялась в зависимости от его военного счастья: то уменьшаясь, то увеличиваясь. Крупные отряды были у наиболее прославленных вождей герильи – Мины, Эмпесинадо, Ласи, Вильякамцы и др. Отряд Мины, с 1809. г. и до конца войны удерживавший в своих руках провинции по берегам Эбро, насчитывал в 1812 г. 10 тыс. человек. Резервом герильеров являлось все население, и каждый раз, когда предстояла какая-нибудь крупная или сложная операция, из народной массы выходили сотни и тысячи смельчаков, которые присоединялись к партизанам на время операции и по миновании надобности так же быстро возвращались к своим обычным занятиям. Герильеры прекрасно знали местность, в которой им приходилось действовать, все ее выгодные и невыгодные позиции: леса, горы, ущелья, холмы, рощи и т. д. Кроме того, к их услугам было и население, следившее за каждым шагом французов и поставлявшее партизанам тысячи добровольных разведчиков. Тьебо жаловался, что герильеры «имели на своей стороне все население и вследствие этого знали заранее все наши намерения и каждое наше движение, в то время как свои собственные действия им удавалось скрывать от нас с легкостью, приводящей в отчаяние» [35]35
Thiebault, op. cit, v. IV, p. 540.
[Закрыть]. Действительно, ни посулами, ни угрозами, ни пытками французы не могли добиться от испанского населения сведений относительно партизан.
Герильеры не вели регулярных сражений с французской армией: они не могли им противостоять как в силу отсутствия военных знаний у большинства командиров, так и вследствие недостаточной дисциплинированности бойцов, отсутствия опыта и навыков регулярной войны. Но они показали себя мастерами в малой войне, в обороне городов, в перерыве коммуникаций противника. Они вели войну на истребление противника, войну, не ограниченную во времени, но постоянную, без отдыха и передышки, войну неожиданностей, ловушек, засад. Им важно было не столько удержать определенное поле боя, сколько уничтожить побольше своих врагов. Они убивали одиночных французских солдат, захватывали курьеров, прерывали французские коммуникации, всячески мешали снабжению войск и сбору контрибуции с населения, захватывали обозы, истребляли или брали в плен небольшие отряды, а иногда и значительные вражеские соединения. Герильеры жестоко расправлялись с предателями родины, служившими врагу. Мина издал приказ о расстреле всякого, кто подчинится распоряжениям французских властей, не будучи принужден к этому силой оружия. Герильеры уделяли внимание и мелкой и крупной добыче: иногда они захватывали письма, но случалось, что в их руки попадали французские генералы, как, например, комендант Сюидад Родриго и вице-король Наварры.
Эта война истощала французскую армию. «Так как ни один приказ, ни одно письмо не может быть отправлено без сопровождения 150 или 200 солдат, – писал маршал Мармон, – ни одна порция продовольствия не может быть добыта без непосредственного применения внушительной силы, то все войска непрерывно находятся в движении; и они утомляются на самом деле больше, чем во время кампаний, хотя кажется, что они спокойно пребывают на одном месте» [36]36
Marmont, op. cit., v. IV, p. 245–246.
[Закрыть]. Эта необходимость постоянно употреблять значительную часть войск для поддержания «спокойствия» в «завоеванной» стране очень раздражала генералов и ставила их в безвыходное положение. Так, маршал Мармон не решался снять необходимых ему для кампании 7 тыс. солдат с тех постов, на которых они были расставлены для поддержания «порядка» в стране, так как боялся, что это приведет к «потрясению всей страны и потере всех средств существования» [37]37
Ibidem, p. 220.
[Закрыть]французской армии.
Справиться с партизанами французы были совершенно не в состоянии: партизаны были неуловимы. По образному выражению Вальтера Скотта, преследовать герильеров было «делом столь же безнадежным, как гоняться за ветром, а пытаться окружить их – то же, что черпать воду решетом» [38]38
Walter Scott, Vie de Napoleon Bonaparte, v. III, p/52.
[Закрыть].
Приступая к какой-либо операции, герильеры всегда обеспечивали себе преимущество в борьбе – превосходство в количестве бойцов или более выгодные позиции. Они всегда нападали неожиданно и брали врага врасплох. Если им случалось встретиться с более сильным врагом, они рассеивались. Но и в таком случае они отнюдь не отказывались от борьбы. Наоборот, они так же быстро собирались снова, перегруппировывались, перестраивали свои планы нападения и кончали всегда тем, что преследовали своих врагов. Скрывались герильеры в густых лесах, в скалистых горах, в глубоких ущельях, в убежищах, известных местным жителям, но недоступных для врагов.
В борьбе против партизан и скрывавших их и помогавших им жителей французы прибегали к чудовищным жестокостям. Сульт издал прокламацию, в которой угрожал поступать с герильерами не как с солдатами регулярной армии, а как с бандитами. Тьебо оправдывал зверские расправы французской армии над испанским и португальским населением.
Зверские расправы с испанским населением, как и организованное ограбление его, являлись не эпизодами, а методической системой всей военной практики французской армии в Испании. Генерал д'Арманьяк ставил в центре города виселицы, на которых постоянно раскачивались трупы повешенных партизан, причем, когда семьям погибших удавалось взять тела своих близких и похоронить их, сейчас же вешались другие жертвы, независимо от того, в чем они обвинялись, – лишь для того, чтобы виселицы не оставались пустыми и всегда внушали населению страх. Деревни и города, оказывавшие французам сопротивление, подвергались жестоким репрессиям. Деревни сжигались, города разрушались. Солдаты грабили, насиловали, убивали. Попадавшие в плен партизаны и население, заподозренное в оказании им помощи, подвергались чудовищным пыткам.
И все же за шесть лет французской оккупации Наполеону и его армии не удалось внушить страх испанскому народу. Наоборот, все творимые зверства и насилия вызывали у испанцев еще большую ненависть, еще большую решимость изгнать захватчиков со своей земли, еще большее усиление активности герильеров.
Никакие поражения не могли сломить мужество испанского народа, его волю к сопротивлению. Даже пленные испанцы поражали победителей своей гордой осанкой, взглядом, полным гнева и ненависти. Не испанцы, а французы испытывали страх. Испания показала миру, что великой армии Наполеона можно не только сопротивляться, но и бить ее и побеждать.
Война испанского народа против французского нашествия нанесла серьезные удары великой империи, положила начало ее концу. В то же время она явилась началом возрождения Испании. «Благодаря Наполеону страна избавилась от короля, королевской фамилии и королевского правительства. Были разбиты оковы, которые мешали испанскому народу проявить свою врожденную энергию» [39]39
Маркси Энгельс, Соч., т. X, стр. 725.
[Закрыть]. Возникло первое конституционное правительство – произошла первая буржуазная революция в Испании.
Война за независимость в Испании выковала и самую активную революционную силу первой четверти XIX века – национальную армию. Самые лучшие, активные, патриотические элементы испанского общества, особенно из молодежи, влились во время войны за независимость в армию и партизанские отряды. Пребывание их там и борьба против национального врага еще больше укрепляли их патриотические чувства, их желание видеть свою родину не только независимой, но и свободной.
Национальная армия и герилья выдвинули целую плеяду патриотов, ставших впоследствии вождями и активными деятелями революции. В галисийской и каталонской герильях отличились герои Порлиер и Ласи, сложившие свои головы в мрачные годы реакции 1814–1819 гг. в борьбе против тирании Фердинанда VII. В борьбе против французов, за свободу и независимость своей родины проявили блестящие военные дарования самородки из крестьян Хуан Мартин (Эль Эмпесинадо) и Франсиско Мина, ставшие крупнейшими вождями герильи. Занимавшийся до 1808 г. земледелием Эмпесинадо после вторжения французов собрал несколько своих соседей-крестьян, образовал партизанский отряд и повел его против французов. Этот отряд, сопутствуемый постоянной удачей, скоро вырос в крупную единицу. Подвиги Эмпесинадо во время войны за независимость принесли ему легендарную славу, признание его военного таланта как друзьями, так и врагами. Активный деятель революции 1820–1823 гг., Эмпесинадо дольше всех вел партизанскую борьбу против роялистов после гибели конституционного строя в 1823 г. и, попав в руки врагов, был повешен в 1825 г. после долгих и мучительных пыток.
Не меньшей славой покрыто имя Мины – великолепного организатора и стратега партизанской войны, талантливого полководца, действия которого везде сопровождались неизменным успехом. Удостоенный кортесами в 1813 г. звания генерала, Мина в 1814 г. был вынужден бежать из Испании после неудачной попытки восстановить отмененную Фердинандом конституцию. Мина был одним из преданнейших деятелей революции 1820–1823 гг.
Война против Наполеона воспитала патриотические чувства и свободолюбие целой плеяды молодых офицеров, ставших впоследствии руководителями революции 1820–1823 гг. Самое яркое имя, выдвинутое этой революцией, имя, «которое всегда будет сопутствовать борьбе за свободу испанцев» [40]40
Слова депутата испанских кортесов 1821 г., Мунеса Арройо.
[Закрыть]и которого никогда не забудет испанский народ, – имя Рафаэля Риэго.
Сопротивление испанского народа французскому вторжению явилось серьезным ударом по могуществу и славе Наполеона. Героическая защита Сарагосы, Валенсии, Кадикса и других городов, поражение французской армии при Байлене, непрерывная партизанская война и непрекращавшееся сопротивление испанского населения поколебали легенду о непобедимости армий Наполеона, вдохнули в покоренные народы Европы новую веру в свои силы, в возможность успеха в борьбе и победу над французами.
Придя в Россию и опять увидев перед собой опустевшие поля и села, сожженные города, французы тотчас же вспомнили Испанию. «Это была еще одна Испания, но далекая, бесплодная, бескрайняя, которая находилась на другом конце Европы» [41]41
Segurde, La campagne de Russie, p. 86.
[Закрыть]– писал Сегюр. В России наполеоновские генералы поняли то, что едва начинало доходить до их сознания в Испании, а именно что пока Наполеон имел дело с королями, ему легко было одерживать победы, но когда пришлось столкнуться с народами, положение изменилось: их Наполеон победить не мог.
Е. Адамов
Гарибальдийская «тысяча» в Сицилии
В середине XIX века правительственный режим Неаполитанского королевства на материке и в Сицилии представлял собой худший образец разлагающегося феодально-абсолютистского строя. Это было одно из семи государств, на которые тогда была разделена Италия, находившаяся под гнетом австрийского государства. Метод управления государством в Неаполитанском королевстве сводился к устрашению и порабощению подданных. Полиция с ее бесчисленными шпионами и погромными бандами безнаказанно арестовывала и истязала кого хотела под любым предлогом и без всякого предлога. Английский посланник писал в 1858 г.: «Страх и коррупция, порожденные этим режимом, столь велики, что никто не доверяет своему соседу» [42]42
«Синяя книга». Correspondence relating to the affairs of Naples. 1857, p. 8.
[Закрыть].
Неаполитанский король Фердинанд II – «король-бомба», как называли его неаполитанцы, испытавшие на себе действие королевской артиллерии в 1848 г., – был вероломным, нагло невежественным, «кровожадным идиотом», воображавшим, что он постиг все тайны политической мудрости, освободившись благодаря иезуитскому воспитанию от «предрассудков» морали и законности.
Неаполитанские тюрьмы доводили своим режимом десятки тысяч пожизненно заключенных в них республиканцев и либералов самого умеренного толка до мучительной смерти или до последней степени человеческого падения, когда из пяти заключенных один кончал тем, что становился шпионом своих палачей. Генерал Филанджери, один из высших чинов королевской армии, убедившись, что армия, как и церковь, – это не более, как вспомогательный орган полиции, отказался от королевской службы и резюмировал опыт своей государственной службы словами: «Величайшее несчастье для честного человека родиться неаполитанцем».
Эта система злоупотреблений, нарушения законов охранялась покровительством австрийского правительства, державшего в своих руках Италию. Австрийцы утверждали, что в Ломбардии, которой они владели полностью, они защищают южную «естественную» границу Германии.
За Австрией стояла Германия.
«Под австрийским флагом – писал Энгельс в 1848 г., – немцы держат в рабстве Польшу, Богемию и Италию… На всем протяжении от Сиракуз до Триента и от Генуи до Венеции немцев ненавидят как презренных ландскнехтов деспотизма… Тот, кому воочию пришлось видеть, какая смертельная ненависть, какая жажда кровавой и совершенно справедливой мести царит в Италии против „тедески“, уже по одному этому должен сам смертельно ненавидеть Австрию…» [43]43
Маркси Энгельс, Соч., т. V, стр. 256.
[Закрыть]
Французский император Наполеон III, выступавший в войне 1859 г. на стороне итальянского королевства Пьемонт после побед над Австрией, был больше всего озабочен тем, чтобы не допустить победы разраставшегося объединительного движения в Италии. Во главе этого народного движения стоял Джузеппе Гарибальди. Наполеон III сделал все, чтобы оставить «Австрию сидеть на шее Италии почти так же прочно, как прежде» [44]44
Маркси Энгельс, Соч., т. XI, ч. 2, стр. 221.
[Закрыть], заключив виллафранкскую сделку с Австрией о создании итальянской конфедерации под главенством папы.
Гарибальди в кампанию 1859 г., когда Франция в союзе с Пьемонтом воевала против Австрии, был генералом пьемонтской армии. Он командовал корпусом Альпийских стрелков, состоящим из добровольцев. Оставленный союзниками без артиллерии и кавалерии, не имея оружия для партизан, присоединившихся к нему, без всякой поддержки среди врагов, в 5 раз, а потом в 10 раз превосходящих его числом, он дважды разбил австрийцев у Варезе, выгнал австрийского маршала с 8 батальонами, артиллерией и уланами из Комо, заставил отступить весь 1-й австрийский корпус, опережая на 11 дней движение французских войск, прорываясь в глубокий тыл австрийцев. Ни лучшие австрийские генералы, ни предательства Наполеона и Кавура не могли помешать Гарибальди и его волонтерам: они одерживали победу за победой и не знали поражений. «Гарибальдийская легенда» овладела сердцами во всей северной Италии; уроженцы ее по окончании кампании 1859 г. последовали за своим вождем в армию, организованную Гарибальди в средней Италии. Они составили подавляющее большинство в отряде, получившем название «Тысячи» и сыгравшем решающую роль в объединительном движении итальянского народа.
Убежденные республиканцы, в том числе и маццинисты, составляли основу гарибальдийских «егерей», или «стрелков» (Cacciatori dei Alpi). Доктор Бертани организовал медицинскую часть Альпийских стрелков; он же был одним из главных организаторов сицилийской экспедиции «Тысячи». Медичи, «молодой ветеран 1849 г.», был одним из командиров «Тысячи». Нино Биксио, чудом отделавшийся только ранами в кампанию 1849 г., участвовал как в ломбардской, так и в сицилийской кампаниях. В первую он командовал батальоном, в последнюю его называли «вторым в „Тысяче“». Маццинисты Бронцети, Сакки, Корфино и многие другие ветераны Римской и Венецианской республик с радостью приняли командные должности у Гарибальди в 1859, а затем и в 1860 гг.
Гарибальди был военным вождем демократического национально-освободительного движения. В его автобиографии при упоминании о критическом, решающем моменте каждого сражения встречается неизменная фраза: «Надо было победить». «Либо победа, либо смерть», – говорил он в такие моменты на поле сражения. Все его мысли, планы, чувства, стремления концентрировались на победе: победа во что бы то ни стало над жестоким, подлым, хищным врагом, в котором он видел воплощение всего, что уродовало, калечило, отравляло страстно любимую им родину.
Надо было победить Австрию, наполеоновскую интервенцию, папство, неаполитанско-бурбонский деспотизм и вождя пьемонтской буржуазии – Кавура. Поэтому Гарибальди полюбил войну как единственное средство спасти страдающую родину, защитить измученный народ, завоевать свободу. «Я не солдат, – говорил он впоследствии итальянцам, подносившим ему шпагу в Лондоне в 1864 г., – и я не люблю солдатского ремесла. Я видел мой отчий дом, наполненный разбойниками, и схватился за оружие, чтобы их выгнать… Я работник, происхожу от работников и горжусь этим!» [45]45
Garibaldi, Memorie autobiografiche, Prefazione alle mie memorie, Firenze 1888, p. 4.
[Закрыть]
Значение ломбардской кампании 1859 г. (во время войны Франции и Пьемонта против Австрии) для сицилийской кампании велико не только тем, что сейчас же после нее Гарибальди явился в Сицилию, как долгожданный вождь, увенчанный лаврами, непобедимый; кампания 1859 г. создала кадры волонтеров, уверенных в себе и в своем вожде, скрепленных неразрывной связью с ним и между собой.
Гарибальди положил в основу боевого воспитания своих волонтеров твердые правила, от которых отступления не было. Приказ, отданный «Тысяче» на борту «Пьемонта», по пути в Сицилию 10 мая 1860 г., гласил:
«Альпийские стрелки должны помнить, что первые приказы, при вступлении в славную кампанию 59 года, предписывали как можно меньше стрелять днем и не стрелять ночью. Основной чертой характера отважного стрелка должны быть хладнокровие и быстрота удара».
«Стреляя в неприятеля, надо убивать его потому, что стрелять, не поражая его, значит ободрять врага и внушать ему неуважение к нам. Поэтому надо быть скупым на выстрелы и пользоваться, когда бой начался, более верным средством – штыком» [46]46
Edizione nationale degli Scritti di G, Garibaldi, v. IV, Bologna, 1934, p. 243. (Подчеркнуто нами. – E. A.).
[Закрыть].
Гарибальдийский метод боя проверен был в ломбардской кампании, во время которой «стрелки» с жалкими ружьями, служившими им «прикладами» для штыков, без пушек, без кавалерии, разбивали превосходившие их в 2 с половиной, а иногда даже и в 10 раз силы вымуштрованных австрийцев, прекрасно вооруженных современными ружьями, полностью снабженных артиллерией и кавалерией, и совершенно парализовали 11-тысячную австрийскую армию, лишив ее возможности участвовать в решающих сражениях. Таков факт, немедленно учтенный прусскими профессионалами войны (например, князем Гогенлое-Ингельфингеном в «Письмах о стратегии») и опровергающий басню, будто бы Гарибальди мог побеждать только неаполитанские регулярные войска [47]47
Генерал Мантейфель (впоследствии начальник генерального штаба германской армии в 1870/71 г.) в «Истории франко-германской войны» писал: «Тактика генерала Гарибальди характеризовалась, главным образом, большой быстротой движений, разумными диспозициями в огнестрельном бою, энергией и огненной стремительностью атаки. Конечно, успехи генерала были успехами частичными, но если бы генерал Бурбаки действовал согласно его советам, Вожская кампания была бы для французов самой счастливой из всех сражений 1870/71 гг.» (Цит. по А. Лурье, Гарибальди, Москва, 1938, стр. 295).
[Закрыть].
Основой политического воспитания стрелков стала ненависть к австрийско-иезуитской реакции. «Fuori i Tedeschi!» (Вон немцев!) был вопль всего итальянского народа, превратившийся у гарибальдийцев в боевой победоносный клич.
Сицилия в это время, как писал Маркс, «истекала кровью» под игом «кровожадного неаполитанского идиота», «гнусного Бурбона и его столь же гнусных, духовных и светских любимцев, иезуитов и гвардейщины». Особенно тяжело было положение сицилийского крестьянства, которое находилось в полурабской зависимости от помещиков и церковников, владевших всей землей в Сицилии. «Средневековая система землевладения до сих пор сохраняется в Сицилии, с той лишь разницей, что земледелец не является крепостным; он вышел из крепостного состояния уже почти в XI столетии, когда он стал свободным арендатором. Но условия аренды по большей части настолько тяжелы, что огромное большинство земледельцев работает исключительно на сборщика податей и на барона, почти ничего не производя сверх того, что необходимо для уплаты налогов и рент. Сами они живут или в полной нищете, или, по меньшей мере, в сравнительной бедности» [48]48
Маркси Энгельс, Соч., т. XII, ч. 2, стр. 56.
[Закрыть]. На этой почве в Сицилии происходили вспышки крестьянских волнений, которые особенно усилились в апреле 1860 г.
С 1854 г. директором полиции, всесильным владыкой острова, был Манискалько, энергично проводивший практику сотрудничества полиции с наихудшего сорта предателями народа. В порядке самообороны от организованных полицией погромных банд («Compagni d'armi») возникли дружины («скуадры») из молодых крестьян («picciotti»), возглавлявшиеся выдающимися вождями из их среды, как Пьедискальци из Пианы деи Гречи, или же кем-либо из оппозиционно настроенной части местного дворянства.
Разгром Австрии и в особенности славные победы гарибальдийских Альпийских стрелков вызвали во всей Сицилии волнения.
4 апреля 1860 г. палермский комитет поднял восстание. Демократические члены его вышли на улицу с оружием, «аристократия» же ограничилась «сочувствием». Восстание в самом Палермо подавлено было в тот же день, но в его окрестностях, особенно в гористой внутренней части острова, оно продолжалось около двух недель. Дольше всех продержалась дружина в районе Пиана деи Гречи, возвратившаяся в родное селение лишь 19 апреля. На другой день, когда предводитель ее Пьедискальци собирался распустить дружинников, в Пиану явился Розалино Пило, ближайший друг Маццини, с известием о скором прибытии в Сицилию Гарибальди. Пьедискальци тотчас же дал знать во все стороны о возобновлении борьбы и ушел со своей дружиной в горы Инсерры (к западу от Палермо), ожидая с запада движения Гарибальди на Палермо.
Оживилась деятельность палермского комитета, появились прокламации, усилились и полицейские преследования. На казнь 13 участников восстания 4 апреля город Палермо ответил единодушной демонстрацией. Дружинники перестреливались с полицией, сборщиками налогов и солдатами. Полиция и солдаты врывались в дома, убивали женщин и детей. Сицилия истекала кровью.
С января этого года Гарибальди выражал сицилийским эмигрантам в Генуе готовность принять участие в восстании. Его именем созданы были два учреждения в Пьемонте: «Национальная лига» и «Миллионный фонд ружей». 2 февраля Розалино Пило сообщил Гарибальди о своем намерении поднять общее восстание в Сицилии, если Гарибальди согласится им руководить. Гарибальди 15 марта ответил согласием и поручил Розалино Пило сговориться с директорами «Миллионного фонда» в Милане о заготовке оружия.
Немедленно началась очередная интрига против Гарибальди со стороны главы пьемонтского правительства Кавура и короля Виктора-Эммануила, которые поддерживали связи с сицилийскими патриотами, рассчитывая воспользоваться плодами победы Гарибальди в случае его успеха. С другой стороны, боясь Наполеона и силы народного движения и популярности Гарибальди, они чинили последнему всякие препятствия. Кавур пытался навязать сицилийцам в качестве руководителя восстания своего человека, либерального генерала, но от этой попытки ему пришлось быстро отказаться. Тогда он запретил через своего друга миланского губернатора д'Азелио выдавать оружие из «Миллионного фонда» в руки Гарибальди. Вместо 12 тыс. энфильдских винтовок, приобретенных именем Гарибальди для этого фонда, погружены были на два парохода гарибальдийской экспедиции ящики, в которых при вскрытии в пути оказалась тысяча с небольшим гладкоствольных проржавевших мушкетов, переделанных когда-то из замковых в курковые ружья и затем проданных пьемонтским интендантством «Национальной лиге» (которой распоряжался рабски преданный Кавуру агент его Лафарина) в качестве негодных к употреблению в войсках. В ящиках не оказалось ни патронов, ни свинца, ни пороха.
Затем король, боясь угроз Наполеона III, запретил Гарибальди принимать в добровольческий корпус не только полк, в котором соединились гарибальдийцы, оставшиеся на королевской службе, но даже отдельных военнослужащих. Однако пять офицеров, нарушив королевское запрещение, ушли из армии в «Тысячу».
Пароходы «Пьемонт» и «Ломбардо» для экспедиции в Сицилию Гарибальди должен был захватить якобы тайком, для отвода глаз Наполеону III.
Уйдя в море, Гарибальди оставил в Генуе директорам «Национального пароходства» письмо, в котором писал:
«Будучи обязан предпринять операцию в помощь итальянцам, сражающимся за родину, которыми правительство не могло интересоваться в силу ложных дипломатических соображений, я был вынужден завладеть двумя пароходами, находящимися в вашем управлении, без ведома правительства и чьего бы то ни было». Затем Гарибальди выразил уверенность, что «вся страна одобрит образ его действий и что убытки компании будут возмещены либо специальной подпиской, либо из средств „Миллионного фонда“» [49]49
Garibaldi, Edizione nationale degli Scritti, v. IV; Scritti e Discorsi politici e militari, v. I, Bologna 1934, p. 239.
[Закрыть].
Численный состав отряда при поверке в пути определился в тысячу с небольшим человек [50]50
1150 – самое правдоподобное из мало между собою различающихся показаний гарибальдийцев. В. King в «History of Italianunity», London, 1899, v. II, p. 140 определяет их число в 1 072, – повидимому, не принимая во внимание высадку на берег в Тоскане «диверсионного» отряда Самбианки, выделенного из «Тысячи» для отвлечения внимания неаполитанского правительства от главной цели экспедиции.
[Закрыть]. Неаполитанские силы определялись в 24 тыс. в Сицилии и в 100 тыс. на материке.
850 бойцов «Тысячи» явились к Гарибальди из Ломбардии, Венеции и Эмилии. Неитальянцев числилось в ней 33 человека, в том числе сам Гарибальди и его сын Меннотти. Гарибальди потерял гражданство Ниццы с передачей ее Наполеону III и был избран гражданином ряда городов. Меннотти записался американцем, так как был рожден еще во время пребывания Гарибальди в Южной Америке; 14 итальянцев из Трентино должны были считаться австрийскими подданными; венгерских (кошутовских) революционеров было 4; неаполитанцев – 46; столько же приблизительно сицилийцев; генуэзцев – 156; миланцев – 72; жителей Брешии – 59 и Павии – 58.
Больше всего в «Тысяче» было рабочих – около 50 %, вторую группу по численности составляли студенты, юристов было 150, врачей – 100, инженеров – 50, судовых капитанов – 30, художников – 10, бывших священников – 3, аптечных работников – 20, торговых служащих и торговцев – 100, остальные – писатели, журналисты, учителя, ремесленники.
«Тысяча» первоначально разделена была на семь пехотных рот; в пути была сформирована восьмая. Штаб состоял из 13 человек (начальник – Сиртори, бывший священник, потом юрист, получивший образование в Париже), 23 разведчика, полсотни генуэзских карабинеров, интендантская часть – 4 человека, медицинская – 3 (при наличии среди бойцов 100 медиков и 20 аптекарей). Роты формировались преимущественно по территориальному признаку (неаполитанцы, сицилийцы и т. д.); только седьмая рота называлась «студенческой», так как в ней было 52 студента, 36 рабочих и ремесленников. Командиры сами выбирали младший командный состав, но с утверждением каждого главнокомандующим. Первой ротой командовал «второй из „Тысячи“» – неукротимый в бою и гневе Нино Биксио; он же командовал и первым батальоном из четырех рот. Вторым батальоном командовал способный офицер, сицилиец Карини.
5 мая экспедиция вышла в море. На переходе от Генуи до единственной остановки в Таламоне (Тоскана) Гарибальди издал 7 мая на борту «Пьемонта» приказ, в котором говорилось:
«Миссия нашего отряда будет, как и в прежние времена, всецело основана на полном самоотречении во имя возрождения родины. Храбрые альпийские стрелки служили и будут служить своей стране преданно и с дисциплиной наилучших воинских частей, не ожидая ничего другого, не претендуя ни на что другое, кроме того, что им дает их незапятнанная совесть. Ни чинов, ни почестей, ни наград не ищут наши храбрецы; они возвратятся к скромной частной жизни, когда минует опасность. Но если пробьет час новых битв, то Италия снова увидит их в первой линии огня – веселыми (ilari), решительными, готовыми пролить за нее свою кровь» [51]51
Garibaldi, Scritti е Discorsi, v. I, p. 242.
[Закрыть].