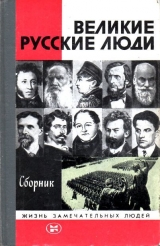
Текст книги "Великие русские люди"
Автор книги: Евгений Тарле
Соавторы: Александр Мясников,Николай Асеев,Сергей Марков,Лев Гумилевский,Вадим Сафонов,Сергей Дурылин,Николай Гудзий,Василий Струминский,Алексей Сидоров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 35 страниц)
14 апреле 1930 года, в 10 часов 15 минут, в своем рабочем кабинете на Лубянском проезде выстрелом из револьвера он покончил с собой.
В оставленном письме, адресованном «всем», он писал:
«В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил…»
Этим заканчивается его временная биография и начинается другая, более полная и величественная, – в веках.
КОМУ РОДНЯ МАЯКОВСКИЙ
Маяковский начал свою деятельность еще до Октябрьской революции. Его вступление в литературу было ознаменовано возмущением и отрицанием со стороны того общества, в недрах которого он был рожден, но строй которого был ему ненавистен в своих застывших, переставших расти и развиваться формах.
К тому времени умер Лев Толстой. Им был проложен новый путь в искусстве – путь внутреннего показа вещей и явлений, вне зависимости от установленных на них общепринятых взглядов и мерок. Выворотив подкладку общественного строя, обнаружив без пощады ту правду, которая была спрятана за пышной и лицемерной внешностью его, Лев Толстой тем самым подготовил в литературе поколение людей, увидевших трезвыми глазами всю гниль и неправду правящих классов, всю несправедливость взаимоотношений трудящейся массы населения и правящей, привилегированной его верхушки.
Еще никому из исследователей литературы не приходило на мысль проследить эту связь на первый взгляд так далеко отстоящих явлений, какими были Толстой и Маяковский.
А между тем связь эта явна и непреложна, если подойти к этим двум людям без предубеждения. С силой, небывалой до него, Лев Толстой обнажал в своих произведениях ложь и фальшь, заплесневелость, ханжество и несправедливость в окружающем его обществе. Был ли это суд в «Воскресении», семейный быт в высших слоях общества, отображенный в «Анне Карениной», ореол славы завоевателя и придворный быт, разоблаченный в «Войне и мире», – всюду великий писатель, взрыхляя сознание русского человека, обращал его разум к одной главной мысли: вот этого не должно быть. Это было требование разрыва с общественной неправдой, и последний шаг в жизни Толстого был, как известно, попыткой физического ухода от всего прошлого, от всего, что его окружало всю жизнь.
Конец жизни Толстого был началом времени Маяковского.
Нельзя предположить без натяжки, что методы художественного воздействия, политическое мировоззрение Маяковского складывалось совсем под другими – революционными – влияниями.
Но где, как не у величайшего художника своего времени, мог он воспринять правдивость и прямоту выражения, точность гневного обращения, адресованного к определенным явлениям жизни? А главное – это непреодолимое стремление повернуть предметы и явления той неожиданной стороной, которая обществом считалась неудобной, скрываемой от художественного освещения или в видах неэстетичности показываемого, или из-за того, что показ грозил бы подорвать самые «основы» общества.
Стоит вспомнить хотя бы то же самое «Воскресение», или «Смерть Ивана Ильича», или «Живой труп», или сцены петербургских салонов в «Войне и мире», разоблачающие пружины общественного механизма и всей деятельности государственных и частных людей, чтобы понять, почему так жадно воспринимались сотнями тысяч читателей прямота и резкая правда в описании и крупнейших общественных явлений, и мельчайших деталей окружающего, свойственные художественному методу Льва Толстого.
Но именно эта взятая от величайшего художника нашего времени прямота и правда легла в основу художественного метода Маяковского. После короткого периода «бунтарства в искусстве» Маяковский сразу взял бескомпромиссный, социально-обличительный тон. И страстность этого тона обожгла слух современников неслыханной смелостью заявлений. Так именно была воспринята его первая, обратившая на себя внимание широких кругов поэма «Облако в штанах». «Долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию – четыре крика четырех частей» – так характеризовал сам автор содержание своей поэмы в предисловии ко второму изданию.
Эта поэма заставила сплотиться друзей и насторожила врагов. Изуродованная цензурой, испещренная многоточиями, она переходила из рук в руки взволнованной молодежи, необычайная по своему виду, по силе и смелости гнева и горя и страсти. Многое в ней еще не было доказано, многое только намечалось к выражению. Но главное было то, что в поэзии так еще никто не говорил, так близко никто не подходил к повседневью, к его внутреннему смыслу и значению. Революция, изменение целей и смысла жизни – вот что было внутренним содержанием этой поэмы, всей взметанностью своих строк, всей нарушенностью принятых пропорций говорившей о чем-то новом, близком, готовом к рождению.
И недаром в этих «четырех криках четырех частей» поэмы отчетливо проглядывала родственность с построением образов у Льва Толстого. Один великий бунтовщик передавал свои родовые черты другому, младшему. Но черты преемственности узнавались не сразу, проступали на молодом лице в другом обличье, в другой судьбе. Не только в последней части, как того хотел бы, по замыслу, автор, но и в остальных трех то и дело выступает на сцену эта борьба с высшим авторитетом, с непреклонной силой, изобретенной людьми, якобы вершащей их судьбы, определяющей их участь. Самое первоначальное название поэмы, запрещенное цензурой, говорит об этом. «Тринадцатый апостол» – так первоначально должна была называться поэма. И евангельский этот образ, конечно, был преемствен от Толстого.
Следующее, наиболее значительное произведение Маяковского уже зримо названо так, что оно перекликается с величайшим произведением Льва Толстого. «Война и мир» – так озаглавил Маяковский свое предреволюционное видение мира («мир» здесь взят в смысле «вселенная»). Та же страстность и непримиримость, как и в начальных его произведениях, но уже более мужественная, более определенно направленная против конкретных явлений действительности, нашедшая новые краски и образы в самой безобразности этой действительности.
Хорошо вам.
Мертвые сраму не имут —
такими словами начинается пролог к поэме. Может ли быть, чтобы Маяковский, остерегавшийся всякой стилизации, как проказы, применил такой оборот только ради торжественности начала? Нам кажется – нет. Он применил этот оборот (как и другие многочисленные библейские и евангельские образы – рядом с ультрасовременными в этой поэме) сознательно, так же, как часто применял их, в цитатах ли, в эпиграфах ли, сам Лев Толстой: ради широкой известности их в народной среде, доступности их и художественной убедительности для широкого круга читателей.
Вся страстная полемичность, вся иногда кажущаяся грубость Маяковского стоят в прямой связи с поиском той правды, которая обуревала обоих этих неукротимых людей и заставляла их прибегать к еще неслыханным средствам художественного воздействия.
Вот почему те, чье спокойствие было нарушено творчеством и Толстого и Маяковского, пытались выискивать в их творчестве человеческие слабости и уязвимые места, которые бы помогли объявить их обличительный, гневный, страстный способ разговора оригинальничаньем, сумасбродством не знающих меры эстетически дозволенного проповедников.
Вместе с Октябрьской революцией перед Маяковским открылся широкий путь свободного высказывания без цензурных рогаток. То, что он говорил, совпадало с тем, что хотел бы высказать народ в подавляющем большинстве своем. Но долго еще держалось над Маяковским привязчивое недоброжелательство людей, воспитанных в привычках и идеалах старого мира. Главным в обвинениях, предъявляемых Маяковскому, была его безродность, оторванность от традиций русской литературы, от ее великих имен. Нам кажется, что настало время разоблачить эту неправду.
Мы говорили о связи между Маяковским и Львом Толстым, о том, что великий русский писатель был в числе ближайших учителей и воспитателей великого поэта революции. Но это не значит, что и от других имен русской литературы Маяковский был оторван.
Державинская ода (которая выражала участие поэзии в жизни государственной и была признаком возмужалости поэзии, не боящейся принять и на себя ответственность за дела и события своего времени) – державинская ода была возрождена Маяковским, хотя, конечно, и не в ее первоначальном виде.
Еще его дореволюционные сатирические оды: «Гимн судье», «Гимн здоровью», «Гимн ученому», «Гимн обеду», «Гимн взятке» – были, по существу, не чем иным, как перевернутыми наизнанку одами. Он сообщил оде бичующую силу сатиры:
Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
И тысячи блюдищ всяческой пищи.
Так начинается «Гимн обеду». Конечно, сейчас же это прославление обеда сменяется на злое и убийственное высмеивание носителей «желудочной идеологии», но сам принцип оды остается. И если вспомнить хотя бы такую идиллическую оду Державина, как «К моему соседу», станет ясным, что Маяковскому было знакомо величественное развертывание свитка этого жанра, хотя применил он его совсем с иными намерениями. То же можно наблюдать и в его «Гимне судье», сравнив это произведение с одой Державина «Властителям и судьям», и не только по близости их тематической. И здесь, как в уже описанном нами случае, прямое обличительное содержание державинской оды у Маяковского смещено и заменено сатирически-издевательским.
Как бы готовясь к будущим великим событиям, Маяковский искал величественных форм выражения своих чувств. И недаром торжественные интонации «Памятника» Державина, пройдя через горнило пушкинского стиха, отразились в последних строфах «Вступления в поэму о пятилетке» у Маяковского. Стих его вобрал в себя все достижения русского стиха. Этим и объясняется такое многообразие ритмов у Маяковского, такая свобода в обращении со словом, которому он был полновластный хозяин.
Да, надо говорить и о родстве его с Пушкиным. Как в свое время Пушкин, Маяковский стал преобразователем русского стиха, сообщившим ему свободу и гибкость разговорной речи. Как и Пушкину, Маяковскому были свойственны быстрота, яркость, неожиданность поэтического темперамента. Как при существовании Пушкина не был мыслим в художественной литературе никакой иной «властитель дум» людей, любящих и понимающих поэзию, так и во время деятельности Маяковского стало правилом, если не подражать ему в самом понимании задач поэзии, то во всяком случае, считаясь с работой Маяковского, изобретать какие-то параллельные ему пути для своей работы в поэзии. Могут возразить, что Маяковский не целиком завоевал поэтическую арену, что наряду с ним жили и действовали поэты, инакомыслящие и инакопишущие. Конечно, мы не имеем в виду полного затмения Маяковским других индивидуальностей, как не было этого и при Пушкине. Но все-таки главной, объединяющей вокруг себя фигурой поэзии оставался Маяковский, как главной объединяющей и дающей жизнь поэзии прошлого века фигурой остался Пушкин.
И при Пушкине жили и Баратынский, и Языков, и Вяземский, и после его смерти жило много других хороших и просто поэтов. Но все же они жили при Пушкине или после него: летосчисление существования новой русской поэзии ведется от него или в применении к нему. Точно так же летосчисление новейшей русской поэзии со времени советского ее существования может вестись только в применении к творчеству Маяковского.
Как известно, Пушкин неоднократно возвращался к мысли о том, что развитие русского стиха ушло от понимания его народом, изменив внутреннему соответствию строю народной речи, ее ритму, ради усвоения правил стихосложения, пришедших к нам от чужих литератур. Сам Пушкин не раз заявлял о ему уже надоевших формах ямба, им же самим привитого к дичку русского стихосложения.
Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора бы его оставить, —
пишет Пушкин в «Домике в Коломне».
При этом нужно принять во внимание, что пушкинский четырехстопный ямб (которым написан, например, «Евгений Онегин») был сам по себе чрезвычайно емким и гибким размером, позволявшим вести речь свободно и широко по сравнению со стихом ломоносовским и даже державинским. И все-таки сам Пушкин уже искал для себя новых выразительных средств. Что же можно было сказать об этом размере через сто лет его существования? «Мальчики», которым он был «в забаву», состарились и успели умереть, а новые поколения не придумали ничего взамен ему и другим вместе с ним родившимся формам стиха. А между тем сам Пушкин указал «младому, незнакомому племени» дорогу, по которой он думал вести русский стих.
Дорога эта была в обращении к народной русской речи, к говору людских масс, к их пониманию размера, благозвучия, композиции речи, как проявилось это понимание в пословицах, поговорках, прибаутках, сказках, песнях, заговорах и заклинаниях. К этому он и стремился, прислушиваясь к говору московских просвирен, к сказкам Арины Родионовны, к песням о Стеньке Разине.
Но ему нужно было строить большое и безалаберное хозяйство русской книжной речи, засоренное галлицизмами, испытавшее на себе все влияния, начиная от греческого церковного языка, кончая книжными иностранными терминами, внедрившимися вместе с проникновением научных и технических знаний. Пушкину нужно было создать заново русский стих и русскую прозу, драму и лирику. Создать заново, дать ей самостоятельность и независимость. Гениальный Жуковский при всей его одаренности был в значительной мере не столько самостоятельным творцом, сколько тончайшим передатчиком музыки чужих образов, чужих напевов. Лермонтов еще только начинал показывать свои силы. Языков, Дельвиг? Они были тоже зависимы от ранее развившихся литературных традиций. Пушкин как бы один отвечал за судьбы русской поэзии. Жизнь была коротка, а замыслы огромны. Проза и лирика, драматургия и полемика, эпиграммы и роман в стихах, повести и переводы! Какое неуемное сердце, какой размах постоянного кипения в труде, в горячке забот и задач!
Разве не похоже это на судьбу Маяковского? Разве не волевым напором, постоянным кипением, разгромом врагов и сбором друзей новой поэзии, новых задач, поставленных перед нею, характерен был этот неисчерпаемый источник тревоги и радости своего времени? Нет, они вовсе не были в разных столетиях – Пушкин и Маяковский. Они были вместе в одном тысячелетии: память о таких не меряется менее крупными отрезками времени!
Стихи и драматургия, кино и плакаты, лозунги и марши, эпиграммы и устные выступления в сотнях городов, на тысячах эстрад, с проповедью о новом – вот многообразие деятельности Маяковского. Изменились методы воздействия, изменилась аудитория, но неизменен облик труда поэта, живущего в самой гуще задач своего времени.
И наконец – и это главное, – надо сравнить взгляды на задачи и пути дальнейшего развития поэзии у Пушкина и Маяковского.
Пушкин часто задумывался над народным стихом. Он понимал, что после того, как книжная речь наберется сил, когда язык литературный приобретет богатство опыта, когда он пройдет первоначальную, подражательную стадию развития, – можно и должно будет обратиться к языку народному, к его строю и складу, внесение которых в литературную речь и будет истинным завершением развития литературного языка.
«В зрелой словесности проходит время, – говорит он, – когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию».
Это чрезвычайно важное высказывание Пушкина дает ключ к остальным его мыслям о развитии нашей словесности. Его же работа над сказками, его «Песни Западных Славян» и в особенности «Песни о Стеньке Разине», начало сказки о медведице «Как весенней теплой порою», наконец, «Сказка о попе и работнике его Балде» говорят об этих поисках Пушкина. Он искал русский стих безразмерного склада, ритма, идущий от внутреннего, душевного движения, переживания, а не внешне выверенный по метроному. Этот поиск речи, «точной и нагой», как называл ее Маяковский, замедляющейся и убыстряющейся в зависимости от внутреннего движения чувства, после Пушкина был ослаблен и затерялся в подражаниях образцам.
«Странное просторечие», о котором говорил Пушкин, была не та книжная речь, что установлена была незыблемым каноном для литературного языка. Даже Некрасов, пытавшийся обновить и вывести русский стих из однообразного повторения все тех же знакомых метрических форм, сообщить ему живость движения разговорной речи, не смог преодолеть груза книжности, общепринятых образцов и оборотов, условных красот и сравнений. И в Некрасове больше выразилась сила русской тоски, сила горя народного, чем сила цветения, яркости, смелости, бесконечного оптимизма народного искусства.
Но в творчестве Льва Толстого русская литература вновь поднялась на крепкие ноги речевой народной норы. Уже не писатель «сочувствовал народу» – народ сочувствовал писателю, видя в нем своего выразителя, и не только по тематике, а по строю мыслей, по способу их выражения.
И вот родился поэт, как будто порвавший все связи с традициями, отказавшийся от них, провозгласивший себя наново начинающим культуру поэзии. Казалось бы, что эти заявления ставят его вне всякой преемственности, делают безродным. На самом деле именно этот поэт – Маяковский – был ближе всех к выполнению заветов и Пушкина и Толстого.
Отказался он от книжности, от «условленного», избранного ограниченным кругом книжного языка. Отказался, потому что наступил зрелый период «русского искусства, требующий нового, своего, становления».
И переход Маяковского на сторону «улицы», которая была далека от книжной поэзии, был именно тем шагом, который предрек Пушкин для поэзии, шагом к «странному просторечию», казавшемуся странным или грубым, неизящным тем, кто привык к велеречивой напряженности книжного условленного языка.
Грубость Маяковского? А разве и к Пушкину не были обращены упреки в огрублении поэтического языка? Как возмущались языком «Руслана и Людмилы»! Этот язык объявляли «несоответственным» языку того слоя публики, который был «призван» судить литературные произведения.
Прочтите вновь заметки Пушкина о своих произведениях. Вы увидите, как много в них общего с полемикой Маяковского в отношении своих критиков. Перечитайте «Сказку о попе и работнике его Балде», вы почувствуете, как близко она стоит к «150 000 000» Маяковского. Окиньте непредубежденным взором всю широту, многосторонность, задорность и темпераментность деятельности обоих поэтов. Вы узнаете родовые черты великого предка в его потомке, принявшем на свои плечи груз обязательств постоянного движения вперед, борьбы с застоем, остыванием родной литературы.
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
(Пушкин)
Где б ни умер, умру поя.
В какой трущобе ни лягу,
знаю – достоин лежать я
с легшими под красным флагом.
(Маяковский)
И это ощущение своей близости к родине, к ее самому кровному, сокровенному смыслу так же роднит, так же сближает их через столетие, легшее между ними.
Черты огромной заинтересованности в существовании своей страны, в существовании ее культуры, гордость ею, верность ей до последнего вздоха отмечают строителей ее, ее преобразователей.
Раскрытие гения Маяковского произошло вместе с раскрепощением духа народного, вместе с Великой Октябрьской революцией. В ней он увидел рост своей Родины, в ней почувствовал «зрелое время словесности», время, которое раскрыло все родники ее скрытых неисчерпаемых сил. С огромной страстностью, с безоглядной смелостью бросился поэт на помощь своей стране, поставив свое искусство на службу революции. В этом он видел главную и неотложную задачу литературы. Ряд фундаментальных поэм создан им за это великое время. «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Про это» – произведения, по которым будут изучать нашу эпоху потомки. И наряду с этим огромная работа по газетам, по лозунгам, по обслуживанию самых разнообразных сторон новостройки народной культуры, наряду с этим попытка заново переосмыслить народное зрелище, кино, театр! Нет, такого темперамента, такой силы поэтической многогранности не видела наша литература со времен Пушкина!
В коротком очерке обо всем не расскажешь. Мы назвали Державина, Пушкина, Льва Толстого. Но, разумеется, ими не исчерпывается список «литературных» предков Маяковского. Можно бы многое сказать о родовых связях Маяковского с великим творчеством Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Блока, о том литературном и личном влиянии учителя и воспитателя, которое оказал на Маяковского Горький. Маяковский – великий представитель нашей культуры не только по своим личным качествам. В нем сосредоточились все лучшие традиции, которые были свойственны наиболее крупным явлениям нашей поэзии: самостоятельность, неподвластность чужим влияниям, самобытность и право на собственный голос, завоеванное годами яркого, неукротимого труда, становящегося рубежом и мерой своей эпохи.
И Маяковский, великий русский поэт, через Державина, Пушкина, Льва Толстого принял на себя эти родовые черты несгибаемой, свободной, все преодолевающей на своем пути русской культуры.
1943 год








