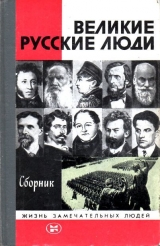
Текст книги "Великие русские люди"
Автор книги: Евгений Тарле
Соавторы: Александр Мясников,Николай Асеев,Сергей Марков,Лев Гумилевский,Вадим Сафонов,Сергей Дурылин,Николай Гудзий,Василий Струминский,Алексей Сидоров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
IV
«Осенью 1867 года проездом из Симбирска, где я производил опыты по плану Д. И. Менделеева, я заехал к П. А. Ильенкову в недавно открытую Петровскую академию. Я застал П. А. Ильенкова в его кабинете-библиотеке за письменным столом; перед ним лежал толстый свеженький немецкий том с еще заложенным в него разрезальным ножом, это был первый том «Капитала» Маркса. Так как он вышел в конце 1867 года, то, очевидно, это был один из первых экземпляров, попавших в русские руки. Павел Антонович тут же с восхищением и свойственным ему умением прочел мне чуть ли не целую лекцию о том, что уже успел прочесть; с предшествовавшею деятельностью Маркса он был знаком, так как провел 1848 год за границей, преимущественно в Париже, а с деятельностью пионеров русского капитализма – сахароваров – был лично знаком и мог иллюстрировать эту деятельность и лично знакомыми ему примерами. Таким образом, через несколько недель после появления «Капитала» профессор химии недавно открытой Петровской академии уже был одним из первых распространителей идей Маркса в России».
Так рассказывает Тимирязев о двух новых важных событиях своей молодости: он стал ближайшим сотрудником Менделеева в первых в России экономических опытах, заведуя одним из трех опытных полей (симбирским), и уже в 24-летнем возрасте познакомился с великим учением Маркса – самым грозным протестом против зла и неправды жизни, с самым мощным призывом и предсказанием нового общественного строя, в котором хозяином будет трудовой человек.
Вольнослушателю Тимирязеву, получившему золотую медаль, предстояла заграничная командировка. Профессор А. Н. Бекетов сказал ему:
– По-настоящему я должен дать вам инструкцию, но предпочитаю, чтобы вы сами себе ее написали.
И Тимирязев написал:
«Так как из работ г. Тимирязева видно, что он занимается физиологией питания и в особенности питанием листьев и влиянием света на эти отправления, то можно советовать ему продолжать свои занятия в однажды избранном направлении. При этом нельзя не выставить на вид г. Тимирязеву, что физиология, как наука молодая, еще не установившаяся, не обладает ни твердыми теоретическими основаниями, ни выработанными методами, так как собственно физиологической школы в настоящее время не существует. Настоящая физиологическая школа должна возникнуть на прочных основаниях физики и химии…
Подобно тому, как физиология животных обязана своим началом медицинским школам, так и физиология растений будет в значительной мере обязана своим развитием агрономическим школам, и в настоящее время сельскохозяйственные академии, опытные станции, кафедры агрономической химии едва ли не важнейшие центры, в которых развивается физиология растений, в особенности физиология питания…»
Это был поразительный по ясности и смелости план полного преобразования одной из важнейших областей науки о жизни, дерзкое утверждение, что академическая наука будет преобразована практической, земледельческой наукой. Это был, кроме того, план научной работы, твердо и точно предписанный Тимирязевым самому себе на всю жизнь, – случай, почти беспримерный в истории науки.
Он поехал сначала в Гейдельберг. Там он работал у крупнейших немецких физиков – Бунзена, Гельмгольца, Кирхгофа – в двухэтажном здании университетских физических лабораторий, которое с немецкой высокопарностью именовалось «дворцом природы». Здесь были точно отмерены часы для работы, для сна, для неизменной кружки пива. И даже для восхищения природой предназначалось специальное место – Рорбахское шоссе с сентиментальным пейзажем развалин средневекового замка за Неккаром, шоссе, которое называлось «дорогой философов», потому что многие поколения немецких ученых совершали именно тут, и больше нигде, свои вечерние прогулки.
Но Тимирязев спешил в Париж, где Буссенго создавал агрономическую науку, Бертло проникал в тайны строения сложнейших веществ, вырабатываемых в живом теле, и Клод Бернар, великий физиолог, сын крестьянина, демонстрируя на своих лекциях сходство жизненных процессов у животного и растения, восклицал: «Душа? Хотел бы я, чтобы мне ее показали!»
Это был Париж кануна франко-прусской войны, кануна Парижской коммуны. Общественные, политические новости живо обсуждались в лабораториях. Удивительным показалось это после чинных петербургских лабораторий. Не походило это тоже и на гейдельбергский «дворец природы», где все было разграфлено по линейке, выстроено по ранжиру и самый воздух, казалось, был высушен так, как растения в гербарии.
– У нас долбят, – сказал однажды Тимирязев великому химику, – что тот, кто посвятил себя науке, умер для общественной жизни.
Он вспомнил остзейского барончика на лекциях Менделеева.
Бертло расхохотался:
– Ученый не должен заниматься политикой! Это афоризм царедворца.
Два года провел Тимирязев за границей. Вернувшись на родину, он защитил магистерскую, затем докторскую диссертации – все на ту же тему о создании живого из неживого при помощи солнечного света в зеленом растении.
Он был избран профессором Петровской академии; в Московском университете он создал первую в России кафедру анатомии и физиологии растений.
Среди студентов академии росли революционные настроения. Нескольких исключили по политическим мотивам. Троих арестовали. В их числе был Владимир Галактионович Короленко, будущий замечательный писатель. Сам министр, князь Ливен, председательствовал на совете, разбиравшем дело. И только один голос раздался в защиту студентов – голос Тимирязева.
Так писал об этом позднее Короленко Тимирязеву;
«Мы, Ваши питомцы, любили и уважали Вас в то время, когда Вы с нами спорили, и тогда, когда учили нас ценить разум как святыню. И тогда, наконец, когда Вы пришли к нам, троим арестованным Вашим студентам, а после до нас доносился из комнаты, где заседал совет с Ливеном, Ваш звонкий, независимый и честный голос. Мы не знали, что Вы тогда говорили, но знали, что то лучшее, к чему нас влекло тогда неопределенно и смутно, звучит и в Вашей душе в иной, более зрелой форме».
В самом начале девяностых годов студенты Московского университета в годовщину смерти Чернышевского решили не слушать лекций. Они предупредили профессора Тимирязева, и он не пошел в университет. В этот день студенты отслужили в церкви панихиду о рабе божьем Николае.
Когда следующая очередная лекция Климента Аркадьевича уже началась, в аудиторию вошел декан, известный математик Н. В. Бугаев. Он был бледен, и руки его, в которых он держал какую-то бумагу, заметно дрожали. Приподнявшись на цыпочки, он зашептал на ухо Тимирязеву. Оказалось, что надо было объявить выговор, и притом перед студентами, профессору Тимирязеву за пропуск предыдущей лекции, за явное участие в студенческой демонстрации, бунте и мятеже, и профессор Бугаев не знал, как это ему сделать. Климент Аркадьевич, улыбаясь, взял из рук Бугаева бумагу и сам себе прочел выговор. Буря возмущения разразилась в аудитории. Но, остановив знаком руки крики студентов, Тимирязев сказал:
– У нас с вами более серьезные вопросы на очереди.
И как ни в чем не бывало продолжал прерванную лекцию.
V
Имя Тимирязева гремело. В Петровскую академию к нему приезжали ботаники, агрономы, работники редких тогда сельскохозяйственных опытных станций – настоящее паломничество.
Наука Тимирязева служила народу. В России, через два года на третий поражаемой недородом, в России, где миллионы земледельцев-крестьян были вынуждены в страшные голодные годы питаться лебедой, Тимирязев самой святой задачей науки объявил: добиться, чтобы два колоса вырастали там, где рос один.
Для этого требовалось много условий, одно из которых, важнейшее, не зависело от ученого. Нужно было сделать отсталую страну передовой, смести помещичий, царский строй. Но другое, тоже необходимое условие зависело от ученого, и общество ждало и требовало, чтобы наука выполнила это условие. Ученый должен познать самые глубокие, самые тайные процессы жизни растения, чтобы разгадать их, стать их хозяином, направить по-своему – и изменить растение.
Дарвин доказал, что такое изменение возможно. Мало того – изменения живых существ необходимо происходили в истории жизни на земле и в истории прирученных человеком животных и культурных растений. Теория Дарвина давала общие законы превращения живого мира. Тимирязеву было ясно, что всякая и теоретическая и практическая работа в биологии – наука о жизни – может идти теперь только под знаком Дарвина.
И как же неукротимо защищал он всю жизнь учение Дарвина, пропагандировал его, двигал вперед! Деятельность Тимирязева-дарвиниста поистине беспримерна. Всю силу, всю страсть свою, всю свою беззаветную преданность науке, безукоризненную честность мысли и непоколебимую веру в торжество правого дела отдал он защите и развитию идей Дарвина в науке, обороне их от всяческих врагов. И по признанию самих врагов, величайшим дарвинистом мира («а дарвинистов в науке столько, сколько истинных натуралистов», замечал Тимирязев), величайшим не просто продолжателем, но строителем учения Дарвина после смерти его творца был именно Тимирязев.
Сам же он вспоминал как об особенном счастье своей жизни, что ему удалось встретиться с Дарвином и говорить с ним. Случилось это тогда, когда Тимирязев был еще молодым ученым, а Дарвин – стариком. Он жил в маленьком провинциальном английском селении Даун. Дарвин был слаб, постоянно болел, и семья оберегала его от назойливых посетителей, которые со всех стран стекались в Даун. Но к Тимирязеву Дарвин вышел.
«Передо мной, – вспоминал Тимирязев, – стоял величавый старик с большой белой бородой и спокойным, ласковым взглядом глубоко впалых глаз».
Дарвин повел русского ученого в теплицу. Странные растения взбирались там по натянутым бечевкам; листья, покрытые слизистыми волосками, на глазах сами, как кулаки, сжимались, когда в них осторожно клали кусок мяса или мелких насекомых. То были насекомоядные растения, предмет одного из последних изысканий Дарвина, странные растения, питающиеся живыми существами и переваривающие их так, как переваривает пищу желудок животного (опять единство жизненных явлений в животном и растительном мирах), растения, настолько удивительные, что до исследования Дарвина многие ботаники отрицали само их существование.
Тогда, в Дауне, встретились тот, кто открыл общий закон развития жизни на земле, и тот, кто хотел разгадать, каким образом вообще возникает живое вещество.
Вокруг нас – воздух, вода, камни, песок, почвы – твердая оболочка земного шара с ее минералами. Физики и химики изучают их; составлены точнейшие списки простейших химических веществ – элементов, из которых состоит весь неживой мир.
Но из этих же элементов состоят и тела всех живых существ. Никаких новых, особых «жизненных» элементов там нет. Как же превращают живые организмы в свое тело вещества неживого мира? Как оживляется внутри живых организмов материя? Ни одному химику пока не удается добиться такого превращения в своих ретортах. А в живых существах оно происходит постоянно – иначе не было бы и самой жизни.
Хищные животные поедают травоядных. Травоядные питаются растениями. Но и такие растения, как, например, грибы, живут за счет перегноя, то есть за счет органических веществ, уже раньше образованных какой-то другой жизнью.
Все это жизнь-нахлебница, которая сама по себе не могла бы существовать.
Только внутри зеленых растений живое вещество образуется непосредственно из веществ минеральной среды. Тут как бы исходный пункт всякой жизни. В этой самой удивительной лаборатории, общей кормилице – в зеленом листе, – скрыта величайшая тайна живого мира.
И ее-то всю свою жизнь разгадывал Тимирязев.
Путь, который лежал перед наукой, проникающей в тайны зеленого листа, еще не пройден до конца. Но самую значительную часть этого пути прошел Тимирязев.
Он твердо доказал, что в распоряжении растения нет никаких особых, сверхъестественных сил: работа зеленого листа полностью подчинена, как и все в природе, закону сохранения энергии.
Тимирязев изобретал прибор за прибором для точнейшего исследования таинственного явления. Скоро он мог уже анализировать состав миллионных долей кубического сантиметра газа, выделенного растением, – поистине микроскопические газовые пузырьки.
Марселен Бертло однажды сказал ему:
– Каждый раз, что вы приезжаете к нам [17]17
Тимирязев был в Париже в 1870, 1877 и 1884 годах.
[Закрыть]вы привозите новый метод газового анализа, в тысячу раз более чувствительный.
Но эти тончайшие исследования сами по себе он никогда не счел бы достигшими своей цели, пока результаты, добытые наукой, не стали бы общим достоянием. Служение науке в глазах Тимирязева было неразрывно со служением миллионам людей. Он повторял: «Наука должна сойти со своего пьедестала и заговорить языком народа». И в 1875/76 году он читает целый курс публичных лекций – вещь неслыханная в те времена! – в Московском политехническом музее. И из этих лекций вырастает вторая популярная книга Тимирязева – «Жизнь растения», которой была суждена такая же исключительная судьба, как и книге о дарвинизме. О ней, об этой новой книге, рецензент знаменитого английского естественнонаучного журнала «Природа» писал, что она на голову с плечами выше всех других подобных книг. Дукинфильд Скотт, ботаник с мировой известностью, говорил:
– Это самая интересная книга, которую я когда-либо читал.
Шестьдесят пять лет протекло с того времени, как она возникла, но все новые и новые издания ее появляются на свет, на новые языки переводится она, словно неувядаемая сила заключена в слове Тимирязева.
Он хочет показать, что нет такого научного вопроса, о котором не нужно и не интересно было бы знать обществу. Он читает ряд лекций о «задачах современного естествознания». Огромную аудиторию собирают его публичные чтения, объединенные потом в книгу «Земледелие и физиология растений».
Чтобы сделать зримыми для всех процессы, протекающие в живом растении, он конструирует замечательный «вегетационный домик» со стеклянными стенками, где растения растут в стеклянных сосудах, питаясь химически выверенными, растворенными смесями солей.
Но все тернистей и тернистей становится путь Тимирязева. Во вражеском лагере – во всем этом гигантском тысячеликом болоте реакции, против которого восстал Тимирязев, – тоже понимают, что тимирязевская наука – это не бесстрастная, бессильная, беззубая академическая наука, но боевое оружие. Опровергнуть его взгляды пытались сотни раз. Столпы официальной науки и ее титулованные покровители выступали против Тимирязева и его идей в газетах и журналах, в толстеннейших книгах. Но кончилось это конфузом, позором для опровергателей и новым торжеством Тимирязева. Тогда были приняты все меры к тому, чтобы выбить из рук Тимирязева его научное оружие.
В министерских канцеляриях, в черносотенных листках на него строчат доносы, его травят.
Студенчество Петровской академии объявили неблагонадежным. Академию закрыли, потом вместо нее открыли институт. Тимирязева в институт больше не приглашали. Он был еще профессором в Московском университете. Когда исполнилось тридцать лет его научной деятельности, его торжественно поздравили и объявили:
– Теперь вы выслужили положенное число лет, в вам пора на покой.
Он остался только внештатным профессором.
Приближался революционный 1905 год. Бастовали рабочие, бастовали студенты. Перетрусившим профессорам предлагали подписывать обращение к студенчеству.
– Вы их учителя, удержите их от волнений.
Внештатный профессор Тимирязев ответил:
– Я этого не подпишу.
Тогда его попытались удалить от дел – авось смирится. Но великий ученый не смирился.
В это время у него была уже мировая слава.
В 1903 году он получил приглашение от Лондонского королевского общества прочесть крунианскую лекцию.
Вернувшись на родину, он напечатал в 1905 году в «Русских ведомостях» статью, по поводу которой ему сказали:
– Ого, батенька, да вы намекаете на республику!
Он выходит в отставку в 1914 году вместе с 125 научными работниками в знак протеста против разгрома, которому подверг Московский университет министр Кассо, в том самом году, когда Лондонское королевское общество избирает русского ученого Тимирязева своим членом.
Удар и временный паралич сваливают его, но он еще может писать и диктовать. И он пишет десятки статей, в том числе и для энциклопедии Граната. Здесь Тимирязев рассматривает самые решающие, узловые вопросы науки, человеческого знания вообще, истории борьбы за знание, большие, спорные вопросы современной научной мысли. Энциклопедист, он подытоживает свою необъятную эрудицию.
Без всяких оговорок и колебаний Тимирязев принял Октябрьскую революцию. Он был в числе первых ученых, сразу перешедших на сторону восставшего народа. Рабочие избрали его членом Московского Совета. Он пишет замечательное письмо Московскому Совету, напечатанное на многих языках:
«ТОВАРИЩИ!
Избранный товарищами, работающими в вагонных мастерских Московско-Курской железной дороги, я прежде всего спешу выразить свою глубокую признательность и в то же время высказать сожаление, что мои годы и болезнь не позволяют мне присутствовать на сегодняшнем заседании.
А вслед за тем передо мной встает вопрос: а чем же я могу оправдать оказанное мне лестное доверие, что я могу принести на служение нашему общему делу?
После изумительных, самоотверженных успехов наших товарищей в рядах Красной Армии, спасших стоявшую на краю гибели нашу Советскую Республику и вынудивших тем удивление и уважение наших врагов, – очередь за Красной Армией труда. Все мы – стар и млад, труженики мышц и труженики мысли – должны сомкнуться в эту общую армию труда, чтобы добиться дальнейших плодов этих побед. Война с внешним врагом, война с саботажем внутренним, самая свобода – все это только средства: цель – процветание и счастье народа, а они созидаются только производительным трудом. Работать, работать, работать! Вот призывный клич, который должен раздаваться с утра и до вечера и с края до края многострадальной страны, имеющий законное право гордиться тем, что она уже совершила, но еще не получившей заслуженной награды за все свои жертвы, за все свои подвиги. Нет в эту минуту труда мелкого, неважного, а и подавно нет труда постыдного. Есть один труд: необходимый и осмысленный. Но труд старика может иметь и особый смысл. Вольный, необязательный, не входящий в общенародную смету, – этот труд старика может подогревать энтузиазм молодого, может пристыдить ленивого. У меня всего одна рука здоровая, но и она могла бы вертеть рукоятку привода; у меня всего одна нога здоровая, но и это не помешало бы мне ходить на топчаке.
Есть страны, считающие себя свободными, где такой труд вменяется в позорное наказание преступникам, но, повторяю, в нашей свободной стране в переживаемый момент не может быть труда постыдного, позорного.
Моя голова стара, но она не отказывается от работы. Может быть, моя долголетняя научная опытность могла бы найти применение в школьных делах или в области земледелия. Наконец, еще одно соображение: когда-то мое убежденное слово находило отклик в ряде поколений учащихся; быть может, и теперь оно при случае поддержит колеблющихся, заставит призадуматься убегающих от общего дела.
Итак, товарищи, все за общую работу не покладая рук, и да процветет наша Советская Республика, созданная самоотверженным подвигом рабочих и крестьян и только что у нас на глазах спасенная нашей славной Красной Армией!
Климент Аркадьевич Тимирязев,член Московского Совета Рабочих, Крестьянских иКрасноармейских депутатов.6 марта 1920 г.».
Да, труд и долголетняя научная опытность этого старика не могли не найти применения в свободной Республике Советов.
Он был избран членом Социалистической академии: в Наркомпросе он вошел в Государственный ученый совет. Он стал председателем ассоциации натуралистов рабочих-самоучек.
20 апреля 1920 года, после участия в заседании коллегии сельскохозяйственного отдела Моссовета, Климент Аркадьевич весь вечер, до одиннадцати часов, работал за письменным столом над предисловием к последнему сборнику своих научных трудов – «Солнце, жизнь и хлорофилл». Ложась спать, он почувствовал себя больным. Это было крупозное воспаление легкого. Сдало сердце. Предисловие к книге «Солнце, жизнь и хлорофилл», скромно названной им итогом его «полувековых попыток ввести строгость мысли, блестящую экспериментацию физики в изучение самого важного физиологического явления», осталось незаконченным.
Утром 27 апреля воспаление перешло на другое легкое.
В этот день пришло письмо от Владимира Ильича Ленина, приведенное нами во II главе этой книги.
То была последняя великая радость Тимирязева.
Его сердце перестало биться в полночь с 27 на 28 апреля 1920 года.
За день до смерти он сказал врачу-коммунисту Б. С. Вейсброду, лечившему его:
«Я всегда старался служить человечеству и рад, что в эти серьезные для меня минуты вижу вас, представителя той партии, которая действительно служит человечеству. Большевики, проводящие ленинизм, – я верю и убежден, – работают для счастья народа и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами. Передайте Владимиру Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали. Передайте всем товарищам мой искренний привет и пожелание дальнейшей успешной работы для счастья человечества».
Так сумел умереть этот человек.








