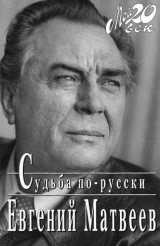
Текст книги "Судьба по-русски"
Автор книги: Евгений Матвеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Штаны и… Довженко
В спектаклях Херсонского музыкально-драматического театра у меня, статиста, появились небольшие роли без слов: режиссеры решили использовать мою невероятную худобу и высокий рост, то есть мою типажность. Я выходил на сцену тощий, длинный, в штанах, которые были мне коротки и держались на одной бретельке из веревки, и публика всегда встречала меня хохотом. Получалась роль комедийного простака. Да еще режиссер «подкидывал» мне какую-нибудь «находку» вроде почесывания головы или ковыряния в носу.
Как-то в Херсон приехал с гастролями замечательный ленинградский актер Николай Константинович Черкасов. Как обычно бывает в таких случаях, его пригласили посетить спектакли местного театра. Он пришел на один из них и, видимо, заметил меня и запомнил мое «антре». Когда после спектакля он беседовал с нашими актерами, то вдруг спросил: «А где тот мальчонка?» Я стоял сзади всех, не осмеливаясь приблизиться к приезжей знаменитости. Меня вытолкнули вперед. И вот я, взволнованный его вниманием, стою рядом и слышу: «Тебе надо учиться. Учиться серьезно. Александр Петрович Довженко открыл свою школу при киевской киностудии и набирает туда учеников».
Николай Константинович не просто посоветовал мне поехать в Киев, но, как потом я узнал, сам позвонил Довженко, рассказал, что в Херсонском театре увидел способного паренька.
Когда я приехал в Киев, то оказалось, что занятия в школе шли уже более полугода, – я опоздал. Александр Петрович все же решил меня послушать, посмотреть, что я умею, что из себя представляю. И взял. Ему надо было с самого начала принять в школу пятнадцать человек, а он набрал в два раза больше, сказав при этом: «Половину из вас в процессе учебы отсеют».
Итак, я стал студентом киевской киноактерской школы. Я сам понимал, что по сравнению с другими ребятами выгляжу отставшим, поэтому наверстывал упущенное, учился жадно. Александр Петрович появлялся в школе редко – снимал фильм «Щорс». – поэтому занятия вели у нас другие педагоги, его помощники. Но он все же смог отметить меня и относился ко мне не просто хорошо – я даже чувствовал его нежность.
Я был его любимым учеником по украинскому языку. Довженко потом обвиняли в национализме, в том числе ему ставили в вину, что он не разрешал в школе говорить по-русски, а только по-украински. Но у Довженко была задача подготовить профессиональных актеров для украинского кино, актеров, хорошо владеющих родным языком. А на Украине в городах говорили на плохом русском языке, по-украински же говорили еще хуже. Я, выросший в селе, где был настоящий, чистый, народный язык, выгодно отличался от учившихся вместе со мной киевлян, одесситов, харьковчан, выходцев из Запорожья, Днепропетровска с их ужасной городской смесью двух языков: они не знали ни настоящего русского, ни настоящего украинского. (Даже теперь, когда я приезжаю в Киев, то говорю своим знакомым: «Вы хотя бы сейчас учили свой язык, а то я приезжаю из Москвы и учу вас, как надо разговаривать на вашем же родном языке».)
Занятия шли своим чередом, но вдруг в конце 1940 года прошел слух (оказавшийся потом правдой), что учащиеся вузов должны будут платить за свое обучение: студенты-«технари» по 400 рублей в год, а «гуманитарии» по 500… Для кого как, а для тех, кто, как я, был родом из деревни, это была беда, крах…
Кто мог мне помочь? Мама? Она работала в школе уборщицей за 90 рублей в месяц. Присылала мне пятерочку, иногда десятку в конверте – моей стипендии еле-еле хватало на неделю…
Все! Конец моей учебе!
И решил я на толкучке, как называется на окраине Киева стихийный вещевой рынок, продать единственные свои штаны. Они хоть и б/у (бывшие в употреблении), зато коверкотовые – это уже что-то…
Втиснулся я в толпу жаждущих выгодно продать-купить. План сочинил простой: найду штанишки попроще и подешевле, умолю продавца подождать, а сам подыщу покупателя на свой коверкот, возьму его за руку, приведу к продавцу, сниму с себя эти, надену те, расплачусь. Разница в цене пойдет на оплату за обучение.
Сделка за мусорными ящиками с горем и стыдом состоялась. Приоделся. Хоть была обновка и коротковата, зато из чертовой кожи – не износить до выпускного вечера. Выгадал на этом 20 рублей… Осталась ерунда – всего 480. Ну, пару раз успею сдать донорскую кровь…
Нет, все равно полный крах! Шел уже декабрь, до 1 января, последнего срока, когда надо было вносить деньги, рукой подать. Потом – ничего. Ничего не будет из того, о чем мечталось. Не стать мне актером, как Николай Черкасов, Борис Бабочкин, Николай Симонов… Не сыграть мне Жака Паганеля, Чапаева, Петра Первого… Не быть мне как утесовский музыкант Костя из «Веселых ребят»…
Какой смысл жить, если меня отчислят? Все село будет знать об этом, все школьные друзья. Я не мог разочаровать их, так веривших в меня, говоривших, что я «циркист», «кловун», «ой, из него артист выйдет». Нельзя мне теперь вернуться домой. Обидеть этим маму, так надеявшуюся на меня?.. Эти мысли не давали мне покоя.
Все! Конец! Зачем мне жить? Лучшее, что я мог тогда придумать – броситься в Днепр с моста…
Пришел на Владимирскую горку. Днепр, хоть и не рядом, но было видно, что он покрылся уже тонкой ледяной коркой. Силой падения и весом своего тощего тела пробить ее ничего не стоит. Главное, думал я, только бы от страха не вынырнуть обратно… Значит, погружаясь, надо чуть-чуть уклониться от места проруби… Вот у памятника Владимиру Мономаху выкурю последнюю «беломорину» и…
Только успел сделать две-три глубоких затяжки, как передо мной появилась девочка лет 11–12. Нищенка…
– Ты чего так поздно шляешься здесь? – спросил я девчушку.
– Мне спать негде…
Пошел мягкий пушистый снег. Он падал на нас обоих.
И показалась мне эта девчушка моей сестренкой, такой же, как и я, неприкаянной, несчастной и никому не нужной на этой земле.
– Чаю хочешь? – спросил я.
– Согреться бы, – робко сказала она.
Не знаю, до сих пор не знаю, что толкнуло меня предложить девчушечке пойти за мной в тепло… Последним трамваем тряслись мы по Брест-Литовскому шоссе до остановки «Лазня» (баня). Пришли в комнатку, где я жил, в углу за ширмочкой, с Петром Лисицей… Петра не было: он поехал на родину добывать деньги…
Фрося (так звали нищенку) или не знала, или еще не понимала, что могло бы произойти с ней и юношей в таком случае – вела себя легко и просто. Полудитем она была…
– Ты почему ночью шляешься по городу?
– Маму ищу…
– А где она?
– Папа погиб на озере Хасан, а мама все ищет его… Мы с ней потерялись… на вокзале…
Она хотя и стеснялась, но ела жадно засохшую от времени халву, прихлебывала из стакана ничем не заваренный кипяток. Уснула она на моей раскладушке. Я улегся на Петькиной и все думал: что мне с ней делать? куда ее пристроить? как разыскать ее мать?.. А как с собой-то быть?! И до того жалко себя стало, так жалко, что даже всплакнул… Потом решил: до весны как-нибудь продержусь, а там поступлю в военное училище. Курсантов кормят и обмундирование дают… А уж потом приеду домой не жуком на палочке, а красным командиром с кубарями в петлицах.
Так в мечтах и грезах оказавшись не на дне Днепра, а на вершине полководческой славы, я уснул… Растормошил меня Петро. Изумленный увиденным, тем, что я расположился на его кровати, а на моем ложе нежилась девчушка (я только сейчас разглядел, что она была хороша), он торопливо и взволнованно зашептал:
– В школу!.. В школу пойдем!
– Нас уже исключили…
– Ну и хрен с ним, сегодня не выгонят. Будет Александр Петрович!..
Довженко для всех нас был понятием не земным – святым. К сожалению, видели мы его в школе нечасто, поэтому так радовались каждой встрече с ним. А уроки по мастерству актера вел у нас интеллигентнейший его помощник Игнат Игнатович Игнатóвич, человек высокой культуры, у которого мы многому научились. Игнатович был известен и как режиссер-постановщик очень популярного фильма «Истребители» с Марком Бернесом в главной роли…
Какие чувства испытывали мы, ожидая встречи с Довженко, мудрым человеком, гениальным художником… Ситуация почти как у А.Иванова в его «Явлении Христа народу»…
Фросеньку по пути мы привели в милицию, умолили разыскать ее маму. Милиционеры, спасибо им, пообещали заняться ее судьбой. А мы с Петром что было мочи бежали по студии, забыв, что, если горит табло «Тихо, идет съемка», надо остановиться и тихо ждать отбоя. Но мы бежали! Вдогонку слышался крик режиссера Леонида Лукова (он снимал в павильоне сцену фильма «Александр Пархоменко»):
– Убью поганцев! Шпана!
И вслед нам полетела его толстая трость…
Вбежали мы в класс – все студенты уже сидели в трепетном ожидании Учителя… Покосился я на сокурсников – те, кто заплатил 500 рублей, смотрели на нас, четверых безденежных, с сочувствием и страхом…
Вошел Он! Мы встали…
– Сидайте, будь ласка! – сказал торопливо Александр Петрович. И так же торопливо уселся в кресло. По всему было видно: «Не будем на церемонии тратить время».
Лида Рудик (впоследствии она станет заслуженной артисткой УССР), как староста курса, должна была кратко сообщить, кто есть в классе, кого нет. И почему. Но Лида, нервно теребя в ладонях носовой платочек, молчала. Это ее молчание тянулось томительно, неестественно долго. Александр Петрович, почувствовав напряжение в классе, взглянул на старосту.
– Що трапелось? – спросил он, и, как мне показалось, на лице его появился испуг.
Лида, закрыв рот платочком, выскочила за дверь. Оттуда донеслось ее сдавленное рыдание.
Александр Петрович склонил голову на палку, с которой почти не расставался, задумался, а может, вслушивался, как мы шмыгали носами, робко вздыхали… Вдруг грохнул палкой об пол и закричал:
– Що трапелось?!
Вскочил наш «старик» Павел Индыкул – ему в то время было лет 27–28 – и, набравшись смелости, доложил:
– Горе, Александр Петрович… Четверых из нашего курса исключили… За неуплату…
– Кого? – спросил он так, как будто спрашивал, кого убили.
– Лиду Рудик… Петю Лисицу… Женю Матвеева… Гришу Полищука…
Гриша был одним из самых талантливых среди нас. К несчастью, погиб на войне этот самородок.
В зловещей тишине посидели мы еще немного, потом Учитель встал и почти шепотом сказал:
– Пробачте (извините), діти!.. – И покинул класс.
Мы ждали его возвращения до самого звонка. Он не вернулся. Никто из нас не вышел на перерыв: всё надеялись, что вот-вот он войдет…
Вместо него появился директор школы Гришин. Лицо его было красным, дышал он тяжело. С укором произнес:
– Урока не буде!..
Девушки заплакали навзрыд. Гриша Полищук выдавил из себя «ой!» и тоже прослезился… Директор, явно не ожидая такой реакции учеников, смягчился: назвав фамилии четверых отчисленных, велел зайти к нему. В кабинете Гришин пригласил нас сесть, чего студентам никогда не предлагали. Потом сказал:
– Ну, хлопчики и дівчатка, забудьте про цей сумный день… Гроші за навчання вам вносити не треба…
– ???
– Олександр Петрович цю справку вирішив.
Позже мы узнали, что А.П.Довженко внес за нас свои деньги. И еще чуть позже нам стало известно, что в этот день у любимого Учителя был сердечный приступ…
Суслик
Еще когда был жив Влад Листьев, меня пригласили на его передачу «Час пик». Это было 9 мая, в День Победы, и потому Влад решил поговорить со мной о начале Великой Отечественной войны: «Евгений Семенович, что наиболее ярко запомнилось вам из тех дней?» Мой ответ для него был неожиданным: «Я помню, как кричал горящий суслик».
Я видел, что Влад был явно озадачен, поначалу он даже не понял, о чем это я: мы в прямом эфире, в День Победы, затронули святую для нашего народа тему, и вдруг… какой-то суслик. Почему суслик?..
И я стал рассказывать…
Конец июня 1941 года. Немецкие войска вторглись на нашу землю. В стране объявлена всеобщая мобилизация. В Киеве тоже уже действовал приказ: всем мужчинам призывного возраста срочно, в течение нескольких часов, покинуть город, к которому приближались гитлеровцы, и направляться в сторону Харькова. Там, в районе знаменитых военных Чугуевских лагерей, известных еще со времен Петра Великого, был сборный пункт.
В это время вовсю шла спешная эвакуация заводов, учреждений. Эшелоны, колонны машин непрерывным потоком двигались на восток. Уходила из города и часть населения. Все шли пешком. Вместе со всеми шел и я. Нещадно палило солнце. Над дорогой, ведущей из Киева на Полтаву и далее на Харьков, пыль стояла столбом. Длинная, бесконечно длинная колонна людей. В ней и мы, мужчины, которым надо было добраться до этих ближайших городов, явиться там в военкоматы. Кто с чемоданчиком, кто с «сидором» (так на Украине назывались сумки в виде вещмешка), кто без ничего, вроде меня, в угрюмом молчании топали по дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля пшеницы, ржи, ячменя… Кому достанется этот созревающий, обещавший быть богатым урожай? Неужто врагу?..
Мы едва успели дойти до местечка Борисполь, где тогда находился небольшой грунтовой аэродром, как на него налетели немецкие самолеты. (Теперь в Борисполе огромный, международного класса аэропорт.) Помню свое юношеское восприятие тогдашней ситуации: взглянув на небо, я поначалу решил, что его заполнили многочисленные рои пчел. Но это были не пчелы – это были сотни самолетов, из которых сыпались тысячи бомб. И падали они на нас.
Рев моторов, свист летящих бомб, грохот взрывов. Люди в панике кинулись прочь от дороги – в поля, в хлеба…
Бросился на землю и я, прижавшись к ней всем телом. Взрывы, взрывы… Казалось, земля раскалывается, ходит ходуном под моими руками, моим животом. Потом к грохоту, гулу добавился треск – это стал гореть на корню хлеб. Удушающий дым мешал дышать…
И вдруг в этом аду, в этом грохоте и треске я услышал странный, непонятный звук – чей-то жалобный писк, писк живого существа. Я открыл глаза и увидел, как мимо меня катится маленький комочек огня. Суслик! Объятый пламенем суслик!.. Инстинктивно, на четвереньках бросился ему помочь. Поздно!.. Он уже не пищал…
И мне вспомнилось детство, наша сельская школа, наша пионерская «борьба» за сохранение урожая…
Суслики пожирали урожай. Их была тьма-тьмущая… Как всегда в те времена, когда только зарождались колхозы, – в деревнях и селах многое делалось по лозунгам и призывам, подобным такому: «Советские пионеры и школьники! Все как один на борьбу с нашими злейшими врагами – сусликами!» Сколько неподдельного энтузиазма было в нас, мальчиках и девочках, выходивших в степь с ведрами, наполненными водой. Увидев шумную ораву охотников-истребителей, напуганные зверьки ныряли в свои глубокие норы. Это-то нам и надо было….
Мы присаживались у черной дыры: один из нас колечком складывал пальцы руки у кромки норы, другой лил туда воду. Вскоре мокрый, жалкий грызун вылезал на поверхность. Цап его за горлышко – и душить! Суслик, подрыгав ножонками, затихал. Один готов! Мы ликовали.
Учительница или пионервожатый, подводя итоги борьбы за урожай, с пафосом объявляли:
– Третье звено уничтожило шестнадцать грызунов и заносится на Доску почета! Дружно, ребята, крикнем победителям: «Ура!..»
– Ура-а! – нестройно тянули те, кому не повезло попасть в передовики…
Это было в тридцатых годах. И вот это – в 1941-м…
Самолеты улетели за новым запасом бомб… Шедший с нами представитель военкомата хрипло прокричал: «На Полтаву – марш!» Мы, отряхиваясь, выбрались на дорогу и вместе с другими молча побрели трактом. Небо было затянуто дымом от горевших хлебов – пропал урожай… А мне было до боли сердечной жалко суслика… Я плакал. Потом мне многое пришлось увидеть за годы войны, но то мое первое военное потрясение я не забуду никогда.
Много позже, во время съемок фильма «Особо важное задание», я решил вставить в него этот эпизод. Но, как мне кажется, горящий суслик не вызвал у зрителя таких чувств, как у меня тогда. Почему?..
Может, потому, что сидящим в зале сейчас не так страшно, как было мне тогда на шляху? А может, не так и не там был показан мною в фильме суслик?
Думать всегда есть над чем…
Трибунал
Вместе с тысячами других мужчин призывного возраста добрался я до Чугуевских лагерей, пройдя от Киева через Полтаву и Харьков более пятисот километров. На сборном пункте стали нас как бы рассортировывать: «Кто с высшим образованием – направо, кто со средним – налево, кто с семилетним…» Проверять, есть ли у всех дипломы или аттестаты, времени не было, разбираться с нашими специальностями тоже было некогда. Так я, студент второго курса трехгодичной актерской киношколы, считавшейся вузом, попал в группу, где были «технари» – инженеры, физики, математики… И все они уже были дипломированными специалистами, а у меня – незаконченное высшее, да и то какое-то странное для военного времени.
Нас быстро распределили, сразу же погрузили в вагоны-теплушки и отправили на восток. Куда, зачем мы ехали, никто не знал, да мы и не спрашивали. Полмесяца тащился наш эшелон в глубокий тыл. Прибыли в Тюмень, выгрузились. Поселили нас в каких-то бараках, где мы недели две провели в жутких условиях: питались кое-как, спали вповалку на соломе, кормили вшей…
Наконец пришел и наш черед – отправились мы в баню мыться, бриться, облачились в видавшее виды обмундирование (хоть и старье, но чистое), построились. Наше будущее определилось – мы стали курсантами Первого тюменского пехотного училища. Обстановка на фронтах тогда была тяжелейшая, поэтому нам сказали: «Поскольку все вы с высшим образованием, то обучение будет не шесть месяцев, а четыре». Ускоренный выпуск пехотных командиров – и на передовую…
Я понимал, что нет у меня тех знаний, что были у моих теперешних сокурсников, выпускников технических вузов. Как я буду учиться, имея за плечами незаконченное актерское?
Ведь офицер, командир – это человек, знающий не только военную технику, пулеметы, минометы, но и баллистику, механику, топографию, фортификацию… А я не имел об этом никакого представления. Ну, получу я после окончания училища звание лейтенанта, но может оказаться, что я и половины не успею узнать из того, что положено командиру, который поведет с собой в бой десятки людей, доверивших ему свои жизни… Значит, мне необходимо учиться в десять раз больше и лучше, чем другим.
И я начал учиться с таким остервенением (я все делаю с остервенением – такой у меня характер), что вскоре стал отличником. Начальство, видимо, взяло на заметку мои успехи, потому что, когда пришел день выпуска и нас стали распределять – того в ту воинскую часть, другого в эту, – обо мне в приказе было сказано: «Матвеев направляется в Первое тюменское пехотное училище». То есть меня оставили там же, где я учился. Преподавателем, курсовым офицером. Как я ни рвался вместе с другими ребятами на фронт, но был вынужден подчиниться. Приказ есть приказ – служи там, где тебе положено.
Нельзя сказать, что преподаватель училища – это было «теплое местечко». Нет. Жилось нам тяжело, мы голодали в прямом смысле слова. А вот курсантов кормили сытно, хорошо. Более того, они старались еще и нас подкормить. Принесут им бачок с кашей – они первым делом наполняют тарелку для командира своего взвода, а уж потом подставляют свои… Такие это были люди… Сейчас нечто похожее и представить невозможно. Сейчас поделиться с кем-нибудь? Какое там! Последнее отнимут – у стариков, детей, слабых, немощных…
Сделал я один свой выпуск, второй, третий… Шесть месяцев, лейтенантские погоны – и на фронт. Иногда бывало, когда положение становилось уж очень тяжелым, будущих офицеров обучали месяца три и, не успев присвоить звания лейтенантов, отправляли на передовую сержантами. Я тоже рвался туда, подавал рапорта начальнику училища – безрезультатно. Меня охватило отчаяние. Особенно невыносимо стало после одного случая.
Я был дежурным по училищу. И вот ночью ко мне подходит один курсант, из фронтовиков, уже побывавший в боях, и протягивает на ладони… орден Красной Звезды: «Старшой (я был старшим лейтенантом. – Е.М.)! Война-то скоро кончится, а у тебя грудь голая. Куда потом от стыда денешься? Возьми!» Как ударил меня! А в чем была моя вина? Я ведь неоднократно рапорта подавал…
Этот ночной разговор прямо-таки сбил меня с ног. Я и без этого мучился вопросами, отправив на фронт очередной выпуск: вот они, прекрасные ребята. – теперь фронтовики, а кто ты? За какие красивые глазки тебя держат здесь, превращают в тыловую крысу? Не выдержал – пошел опять к начальнику училища гвардии полковнику Акимову, уже израненному в этой войне, интеллигентному, умному человеку. Протянул ему свой рапорт. Он, не читая, отложил его в сторону.
– Еще можешь потерпеть. Тут, – он кивнул на пухлую папку, – по четвертому, по пятому разу просятся. Будет приказ Верховного, разрешающий курсовых офицеров отправлять на фронт, – отпустим.
Приказ Сталина об отправке курсовых офицеров на передовую, для стажировки в течение месяца, пришел. Но из той «стажировки» никто из наших командированных офицеров в училище потом не вернулся – они или погибли, или были ранены, искалечены… Ни в первый, ни во второй заход я не попал, ждал третьего…
Теперь-то я понимаю, почему начальник училища тянул с моей «стажировкой»: он берег меня, понимал, что я по природе своей никакой не военный, я артист. Более того, в училище я руководил тогда всей художественной самодеятельностью. В те трудные времена она была особенно необходима – поднимала настроение, дух у людей. И участвовало в ней немало курсантов: ведь среди них были очень талантливые ребята. Война сделала солдатами, офицерами и артистов, и музыкантов. Например, был у нас курсант Фима Гранат, виолончелист, лауреат конкурса. Или Саша Зацепин, ставший впоследствии знаменитым композитором. Я тоже, как и полковник Акимов, в свою очередь всячески старался, чтобы его не отправили на передовую: ходил к начальству, говорил, что без курсанта Зацепина нам ну никак нельзя, у нас скоро концерт… С помощью таких нехитрых приемов нам удалось спасти для народа его талант. И какой! (Однажды, выступая по телевидению, Александр Зацепин рассказал об этом, и я, слушая его, буквально разревелся, вспомнив нашу военную молодость.)
…Шел февраль 1944 года. Очередной мой выпуск – недоучившихся, сержантов – по тревоге подняли ночью и отправили на фронт. Я на время остался без дела. Ожидая курсантского пополнения, не находил себе места. Опять пошел к начальнику училища:
– Нового курса у меня сейчас нет. Прошу отправить на фронт…
– Сынок, будет приказ – отправлю. А пока помоги училищу…
И полковник Акимов рассказал, что отчисляет из курсантов как профнепригодных человек сорок: больных, неграмотных, умственно отсталых, да и просто нерадивых… Из них не то что офицеров нельзя сделать, но и солдаты из них не получатся. И таких, присланных в училище на учебу, оказалось немало. Сидели эти горе-курсанты на занятиях, ничего не усваивали и тянули свое подразделение по успеваемости вниз. Вот начальник и решил собрать их в один взвод:
– Займись пока ими…
Что ж, просьба начальника – это приказ в вежливой форме. Надо – значит надо.
– Слушаюсь, – без особого энтузиазма ответил я.
– И не куксись. А на фронт успеешь – придет и твой черед. – Полковник встал и, по-отечески улыбнувшись, пожал мне руку.
Собрал я этих «чудиков» вместе. Стоят в каком-то корявом строю мои «гренадеры», смотрят на меня исподлобья: кто с мольбой о сочувствии, кто с откровенной неприязнью. Вышагивал я вдоль них по снегу на плацу и думал: «Зачем мучить этих убогих? Этот не выговаривает половину букв алфавита, этот вообще заика, у того недержание мочи, а этот по-русски знает только два слова: „каша“ и „отбой“…»
– Я ваш командир, старший лейтенант Матвеев. Есть ли вопросы ко мне?.. – Молчали «богатыри». Шмыгали покрасневшими на морозе носами, терли уши, постукивали от холода видавшими виды ботинками… – Завтра после подъема – занятия по расписанию!
Мне было и невдомек, что это «завтра» наступит намного раньше подъема.
Тревога!.. Внезапно, как это часто бывало, нагрянула инспекция из Москвы. А когда приезжали такие комиссии, то начинали с проверки уровня подготовки курсантов: первый взвод – занятия по тактике, второй – по топографии, третий – еще по какой-нибудь дисциплине…
Мой взвод, с которым я не успел провести ни одного занятия, именовался «Первый четвертой роты первого батальона». И проверяли его по тактике боя. Было приказано: к девяти часам утра расположиться за деревней на опушке леса. Еле-еле, подталкивая своих «орлов», дотащил я их до места нашей дислокации.
Ждем час… Ждем два… Тридцатиградусный мороз, ветер с обжигающей лицо крупой… Окаменели мои молчаливые бойцы…
Прежних своих курсантов я знал по имени и отчеству, кто женат, чьи родители или невеста на территории, оккупированной немцами, кто получает письма, кто ждет, чьи родители живы, чьи погибли… А этих и по фамилии не знаю…
С высотки, утопая в глубоком снегу, на рысях показалась группа всадников. Они, подумал я и скомандовал: «Построиться!» Курсанты лениво, без признаков малейшего волнения становились в строй, словно в очередь за махоркой. А меня колотило: что будет?!..
Первым спешился розовощекий, гладковыбритый, в новеньком полушубке и смушковой папахе генерал. За ним с трудом сполз с коня начальник училища – старые раны давали себя знать. Спешилась и свита – глазами ели высокое начальство.
Я, как положено, представился. Генерал зычно скомандовал:
– У обгорелой сосны – пулемет противника. Короткими перебежками вперед! – И перчаткой ткнул в курсанта: – Ты!
Белобровенький паренек вырвался из строя. Упал. Стал подниматься, запнулся о винтовочный ремень и снова носом клюнул в снег…
– Ты! – начал уже заводиться генерал, указывая на очередного бойца.
Этот, болтая рукавами длинной не по росту шинели, неторопливо передвигая ноги, двинулся на «пулемет»…
После четырех-пяти таких «Ты!» генерал, не скрывая нрава, свирепо прокричал:
– Командир взвода – вперед!
«Ну уж, дудки, – подумал я. – Это же мой конек, чудак!» И рванул, где броском, где ползком…
– Плохо! – неистово орало столичное начальство.
Такую издевательскую процедуру генерал проделал и с командиром роты, и с комбатом. Полковник Акимов, чуть шевеля побелевшими губами, проговорил:
– Товарищ генерал, вы унижаете офицеров перед лицом их подчиненных. Это недостойно…
Генерал резко взглянул на свою свиту, словно спрашивая: «Вы слышали, как мне дерзили?» Свита угодливо смотрела в глаза шефу. А главный инспектор, пытаясь сдерживать себя, уже не повышая голоса, но с нескрываемой угрозой сказал:
– С вами, полковник, разговор особый. А сейчас приказываю: командира взвода за брак фронту – под трибунал! Остальных офицеров понизить в звании на одну ступень!
Генерал со всей своей «инспекцией» на заиндевевших лошадях удалился в сторону Тюмени.
Угрюмо, печально возвращался я со взводом в казарму. Эти совершенно не знакомые мне парни, чувствуя себя виноватыми, топали, опустив головы, как на похоронах… Вдруг, ни с того ни с сего, в строю зазвучал дребезжащий тенорок:
Кони сытые бьют копытами,
Боевая честь нам дорога!..
Что-то кольнуло в сердце: подбодрить меня хотят. Но песню никто не поддержал. Еще отчетливее слышалось побрякивание оружия, лопаток, котелков…
Училище гудело: в моем положении мог оказаться любой. Поэтому говорили между собой, горячась и откровенно возмущаясь самодурством заезжего генерала. Едва я вошел в офицерскую столовую, как мои товарищи дружно вскочили с мест и, окружив меня, загалдели:
– Почему промолчал, что людей этих не учил и не знаешь?
– Пиши рапорт командующему округом!..
– А что, если Сталину дать знать?
– Все образуется, браток…
И каждый приглашал к своему столу, готов был поделиться последним… Вспоминаю сейчас – и сердце благодарно щемит: такое было военное товарищество. Почему же так растеряли мы это чувство теперь? Неужто черствеет душа?
В углу одиноко сидел Валентин Андреевский – мой друг. Человек необыкновенной красоты, благородства и порядочности. (После войны за свой труд рабочим на Харьковском тракторном заводе он был удостоен звания Героя Социалистического Труда и избран депутатом Верховного Совета УССР… Увы, сейчас Валентина уже нет…)
– Пока суд да дело, Жек… – говорил врастяжку Валентин, наливая в граненый стакан водки. Выпили. Без аппетита поковырялись в соленых военторговских грибах. Выпили еще. Потом еще… Такого со мной, да и с ним, хоть он и был старше меня на Десяток лет, не было… Но и хмеля не было «ни в одном глазу»…
Молча дошли мы до калитки дома, где я снимал угол…
– А теперь, Жек, выспись. Утро вечера мудренее, – сказал друг, и мы расстались.
Расстегнув воротник гимнастерки, расслабив ремень, прилег я не раздеваясь на топчан. Мысли бешено носились в голове: «В войну трибунал – это штрафная рота. Значит, смерть… Но смерть-то собачья!.. Как мама переживет такую смерть? Как дать маме знать, что я не виноват?.. А как же мечты актерской юности: Макар Нагульнов. Сирано де Бержерак?..»
В замерзшее окно кто-то постучал.
– Кто?
– Товарищ старший лейтенант, срочно к начальнику училища! – послышался голос запыхавшегося от бега курсанта.
Я бежал, спотыкаясь и скользя по деревянным тротуарам. В кабинете за столом в шинели внакидку сидел полковник Акимов. Рядом – майор Вовченко Иван Никитич, начальник политотдела. Душевный человек.
Я доложил о своем прибытии. Полковник вышел из-за стола, подошел ко мне, обнял.
– Спасибо, сынок… Никакого трибунала не будет… Я все объяснил инспекции… – И ласково хлопнул меня по плечу.
– Скоро День Красной Армии, – напомнил Иван Никитич и улыбнулся. – Чем-нибудь порадуете?
Помню, вышел из штаба, взглянул на тускло освещенную улицу Республики… И… Все… Что было дальше – не помню.
Очнулся утром в постели. Мне потом сказали – я упал со ступенек в кучу снега… Пьяный…







