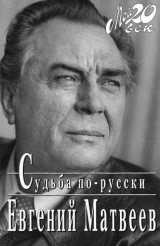
Текст книги "Судьба по-русски"
Автор книги: Евгений Матвеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Кстати, посещался он японцами плохо: зал, вмещающий 2000 человек, заполнялся в лучшем случае наполовину. А вот на «Почтовом романе» зал был забит. Признаться, члены нашей делегации – С.П.Иванов, Б.В.Павленок, Светлана Коркошко и я – были немало удивлены. Такой интерес зрителей к нашему фильму вызывал замешательство и даже – это без преувеличения – шок у фестивальной братии. Действительно, почему? И режиссер-постановщик, и имена главных исполнителей никому не известны… Ответ был прост: фильм советский! Накануне на экранах прошли другие наши картины – «Анна Каренина» и «Родная кровь»– и имели успех…
Свет в зале погас. В темноте мне казалось, что сердце бьется слышнее. Чем фильм может увлечь людей, живущих в другом измерении, по другим законам и традициям? Да, любовь героев общечеловечна. А Ленин, Шмидт и революция?.. Тревожило больше всего, пожалуй, закадровое, непонятное японцам звучание писем Шмидта. Одно дело голос, интонация, и совсем другое – иероглифы, титры.
Но японцы смотрели и слушали, затаив дыхание. И вдруг! Треск в звуке, скачок в изображении! Той фразы Ленина про любовь и революцию не оказалось. Кто-то по чьему-то приказу холодной рукой вырезал кусок!.. Кусок из живого тела фильма! Чем я выдал себя, не помню, но Борис Владимирович Павленок, похлопав меня по коленке, сказал:
– Ну, а ты боялся. Никто и не заметил…
Может, заместитель председателя Госкино СССР искренне посочувствовал мне и попытался успокоить меня, но мне все это показалось кощунством и издевательством. Поразило и то, что «голова» Иванов не возмутился. Такой грозный на Украине, здесь он с улыбкой изрек: «От сукины диты, всэ-такы вырезалы!»– и рассмеялся. Ну, действительно, зачем ему ссориться с союзным начальством? Проще поиграть на нервах художника…
Фестиваль был без призов, однако «Почтовый роман» отметили Золотым дипломом…
Госкино СССР давало очередной прием – на этот раз в честь кубинской киноделегации. Зал ресторана «Метрополь» наполняло русское и испанское многоголосье.
Улучив момент, я подошел к Владимиру Евтихиановичу Баскакову. К этому времени он уже не был одним из руководителей Госкино СССР, а занимался научно-исследовательским институтом кино.
– Владимир Евтихианович! – Я намеревался решительно высказать ему свою боль по поводу «обрезания». – Как все-таки случилось то варварство с «Романом»? Дело прошлое… И все же…
Баскаков был суровым начальником. Но я не без благодарности вспоминаю его. Это он после получения мною инвалидности благословил меня на режиссерский дебют. И сейчас, конечно, я рассчитывал на откровенность. И не ошибся…
– Все просто до абсурда, – сказал он. – Смотрят новый фильм в ЦК или на студии представители ЦК. Кому-то, чаще всего старшему в этой группе, что-то показалось неверным, вредным… Он и говорит свое «нет». Если остальные не согласны с этим «нет», в лучшем случае промолчат. В худшем – дружно закивают одобрительно головами и проговорят: «Да, вы правы. Это надо выбросить». Вот так все простенько. На кой черт нарываться на неприятности?..
– Чьей рукой отсекается то, что режиссером, автором и актером мучительно выстрадано?
– Ну, это дело техники… Ножницы у любого киномеханика есть. – К Баскакову подошли двое. Переводчик представил ему кубинца…
Зеленые глаза
В 1971 году экранизировалась прошедшая с шумным успехом по многим сценам страны пьеса Афанасия Салынского «Мария». Спектакли открыли ряд талантливых актрис – исполнительниц роли Одинцовой. Теперь, в кинематографическом варианте, им неизбежно предстояло соревноваться за право воплощать героиню на экране: на ком из них остановит свой выбор режиссер-постановщик фильма, запущенного в производство под названием «Сибирячка»?
А режиссер Алексей Салтыков, мужчина хотя и не робкого десятка, между тем пребывал в явном замешательстве: или создавать характер Марии по своему видению и ощущению, или брать на эту роль артистку готовенькую, со всеми ею уже найденными красками, интонациями, даже штампами.
Я к тому времени, пройдя кинопробы, был уже утвержден на роль Добротина, главного героя фильма, и полностью погрузился в материал. Размышлял, прикидывал, находил, отвергал свои же находки, сомневался, радовался каждой подсмотренной у кого-нибудь особенности человеческого характера – выстраивал образ своего персонажа. Разумеется, что мне было далеко не все равно, кто будет моей партнершей, с кем мне в кадре предстоит вступать в конфликт, отстаивая свою позицию. Поэтому я незаметно, исподволь следил за тем, как идет выбор актрисы на роль Марии Одинцовой. Ждал, ждал и однажды спросил напрямик у Салтыкова:
– Долго я буду жить в неведении, с кем «в разведку» пойду?
– Дайте мне помучиться еще немного, – мрачновато-задумчиво сказал режиссер. – Трудно мне. Советчиков много и почти все в один голос твердят: «Попробуйте Заклунную». И Салынский туда же. Он видел ее на сцене… Я встретился с ней…
– Ну и?..
– Ну и ничего!.. Пока я не могу ее расшевелить: на все вопросы – «да», «нет», «да», «нет». Сидит, как мокрый воробей… И худая!.. – Салтыков встал. Мне показалось, что режиссер сердится на самого себя. «Худая» он упомянул не зря. Помню, он говорил: «Мне нужна не Маня, не Муся, не Мура, а М-А-Р-И-Я!!!»– Где в таком тщедушном теле, – продолжал Салтыков, – может поместиться сила, воля, удаль? На нее подуешь, она и рассыплется, как одуванчик. – Потом вдруг как бы по секрету сообщил: – Но красивая, стерва!.. Как посмотрела на меня зелеными зенками, я чуть не испугался!..
– Так, может, ее сила не в теле, а в глазах?
– Ладно, проба покажет…
Валерию Заклунную я лично не знал и никогда работ ее не видел. Слышал, правда, что из всех Марий (театральных) она – лучшая Мария. Знал, что выпускница школы-студии МХАТ, что работает в Киевском театре имени Леси Украинки.
Предполагал, что работа, если Заклунная будет утверждена на роль, мне предстоит нелегкая. Ведь актриса окажется в совершенно другой рабочей атмосфере. Все для нее на съемках будет чуждым: вместо привычных театральных декораций – настоящая плотина, бульдозеры, самосвалы, бегущий с гулом Енисей… И партнеры не те, и одеты не так… И режиссер требует не то, что тот, в театре. И текст порой не тот, что там…
Актриса попадет в обстоятельства чрезвычайные, в которых занервничать – раз плюнуть. А это значит, что нужна деликатность и доброжелательность в работе режиссера. Иначе, мягко выражаясь, будет неудача. Значит – неудача и моя.
Не знал я и как работает Салтыков. По слухам – режиссер он был с крутым характером. А после грандиозного общественного и зрительского успеха его картины «Председатель» характер, наверняка, стал еще круче.
Позвонил Лапикову:
– Иван Герасимович, только без утайки – каков в работе Салтыков?
– Надо терпеть. Он стоит того. Ядреный!..
Ну, «терпеть» – актерам не привыкать: нам на роду написано терпеть режиссеров, даже беспомощных. А вот что «ядреный»– это многообещающе. Это по мне…
И вот состоялась моя первая встреча со своей предполагаемой партнершей. При первом нашем рукопожатии я обратил внимание, что у Валерии очень холодные руки.
– Что так? – спросил я ее.
– Боюсь, – коротко, без рисовки ответила она.
Оказалось, что волновалась Заклунная не только оттого, что еще не было ясно, утвердят ли ее, но боялась она и меня, как возможного партнера по фильму: я тогда уже был известен, а ее в кино еще никто не знал. Но, как это ни странно, в ее действительно красивых зеленых глазах я не заметил ни тени страха… Завидное самообладание…
Вот такой – умеющей держать свои нервы в железных тисках – я знал Валерию на протяжении всего периода работы над фильмом. Бывала, конечно, и улыбка на ее лице – как знак творческого удовлетворения. Тогда, оживляясь, она спешила общаться с окружающими ее людьми, словно делилась радостью.
Говорили мне, что видели ее и плачущей, но… это тайком, в одиночку. Роль Марии сколочена драматургом крепко – упругая, действенная, но все же какая-то однобокая, в общем, как все в ту пору положительные герои в нашей драматургии. По сути, в роли всего две краски: не дать Добротину взорвать мраморную гору – это динамика – и страдания по поводу неладов с любимым человеком. И все. Поэтому Валерию чаще всего видели – ив кадре и за кадром – покрытую этаким флером грусти и тоски.
Но однажды мне посчастливилось подсмотреть Заклунную в раскованном, без груза ролевой тяжести, состоянии.
Знаменитый гидростроитель Бочкин – тот, про которого был уже снят документальный фильм «Девять морей Бочкина», – вырвал из своей суматошной жизни время для нас, киношников, и устроил консультацию. Мы долго «ловили» его с намерением вывести на откровенный разговор – про то, чего в сценарии нашего фильма нет, а нам для душевной подпитки во как нужно. Для меня он как-никак – живой прототип, легенда: наблюдай, бери, копируй…
К счастью, герой наш оказался увлекающимся и подвижным мужчиной. И что бы он ни говорил, даже комплименты в мой адрес, сам глаз с нашей Валерии не спускал. Дьявол, а не мужик…
Вот отрывки из его рассказов:
– …Чую я – задыхаюсь, рабочей силы не хватает. Во все инстанции криком кричу… И пошли к нам составы за составами с демобилизованными из армии ребятами. Красавцы, здоровяки! Ну, думаю, держись, батюшка-Енисей! А они, чертовы кобели, недельку-другую пошуровали и дёру со стройки… Я понял: хана моей ГЭС!
Еду к Алексею Николаевичу Косыгину. Так, мол, и так, общий привет коммунистической стройке, мужики мои драпанули. «Заработки-то – дай бог всякому!» – говорит сердито премьер. «Рублем не захомутать», – отвечаю ему. А он мне еще сердитее: «Тогда чем?!» Отвечаю: «Только бабою…» Бедный Алексей Николаевич от изумления сначала распахнул глаза, а потом сильно так зажмурился… Я понял – о чем-то соображает, значит. Ни слова не говоря, врезали мы по стакану боржоми. «Ладно, – говорит, – иди к Тяжельникову и решай с ним эти половые вопросы».
Я в ЦК ВЛКСМ, к Первому секретарю. И сразу с порога: «Евгений Михайлович, без комсомолок ударной стройке – кранты!..» И началось все под девизом: «Девушки, без вас – коммунизму каюк!» Конечно, кинулись агитаторы главным образом куда? Известно, к ткачихам. И что вы думаете, как прослышали мои женихи, что идет первый эшелон с девчатами, все на стройке вздыбилось, зашевелилось, задвигалось!
Слушал я живописную речь Бочкина и упивался его энергией – все подтверждало наше с Салтыковым видение моей роли в фильме. Но, пожалуй, больше всего поразило меня, как Заклунная смотрела на Бочкина: такой мне пока не приходилось ее видеть – она светилась восторгом, глядя на этого незаурядного человека…
И тут меня осенило: она же – Катерина в моем будущем фильме «Любовь земная», который я тогда собирался ставить, обдумывал его, одновременно снимаясь у Салтыкова в «Сибирячке»…
А начальник гигантской стройки на Енисее заливался соловьем:
– Слушайте, что было дальше. Хлопчики мои засуетились, готовясь к встрече невест: отдраили общежития, отутюжили свои робы, подстриглись, наодеколонились, сорвали вокруг все, что было похожее на цветы, и ринулись ордой на полустанок… Ну, и смех-и грех!.. И знаете ли, подсасывало где-то под ложечкой: а вдруг эта силища выйдет из берегов, взыграет застоявшаяся кровушка, проявится, извините, агрессия?!! Пришьют нам с Гяжельниковым организованную случку, и за аморалку айда нас вверх по Енисею… Прямехонько туда, где посвежее…
Подъезжаю к полустанку. Вижу картину – одно заглядение: сидят мои красавцы, как петухи на жердочке, на рельсах и у каждого в руках по букетику, а перед каждым по бутылке шампанского. «Ой-ой, думаю, быть беде. Где же это они, паразиты, вина-то достали?» И говорю: «Вы, ребята, покажите штатским девушкам, что здесь не хухры-мухры, а коммунистическая стройка…» А один так охально мне отвечает: «Мы им покажем, покажем!..» И ржут по-жеребячьему. Да-а-а…
Подошел состав. Заиграл наш оркестрик, подняли приготовленные транспарантики с приветственными словами, забегали, толкаясь, мои женихи, выстраиваясь вдоль всех десяти вагонов. И все, слышу, между собой перекрикиваются: «Мужики! Как договорились! Как договорились!»
А договор у них был такой: девчат не выбирать. Выходит первая, первый ее принимает, выходит вторая – второй принимает, какая б ни была, – дескать, потом разберемся…
Они, паршивцы, заранее между собой номера установили.
Как только на подножках появились первые девушки… Господи! И куда подевалась удаль молодецкая?! Оробели мои строители… Засмущались, покраснели… Как-то неловко тыкали «суженым» цветы… А один по-гусарски щелкнул каблуками, будто шпорами, и, согнувшись в три погибели перед дамой, поцеловал руку… Ну, умора!.. Тут бабахнули пробки из шампанского… И запланированный парткомом митинг – в тарары…
Бочкин глотнул винца. Потом, словно ни Салтыкова, ни меня, ни операторов Геннадия Цекавого и Виктора Якушева нет здесь и вовсе, обратился к Заклунной:
– Милая вы Валерия Гаврииловна! Пожалуйста, покажите в «Сибирячке» этих ребят и девчат. Тогда будет все натурально, как в жизни…
Заклунная, не шелохнув ресницами, улыбаясь, продолжала с восторгом смотреть на знаменитого гидростроителя. И… молчала…
После этой встречи нашу Валерию словно подменили: стала свободнее, раскованнее, общительнее. А я все больше убеждался: она – Катерина. Да и азарт взыграл во мне, этакий режиссерский зуд – показать актрису совсем в другом качестве, может, в том, какого она и сама в себе не подозревает.
И действительно, в работе над фильмами «Любовь земная», «Судьба» и «Особо важное задание» (где она исполняла главную роль – жены моего героя) Валерия предстала передо мной совершенно другим человеком – раскованным и даже бесшабашным. Порой удивляла меня неожиданными поступками. Ошеломляли ее хлопоты, дела, не имеющие, как мне тогда казалось, к творчеству никакого отношения.
Признаться, поначалу нередко я тихо бесился… Да что же это за чертовщина! Ждешь, ждешь артистку на репетицию, а она с поезда – вихрем в кабинет, сумку – на пол, плащ – влево, шарф – вправо и, как дитя малое, радуется:
– Дядя Женя!.. Поздравьте меня!..
– С чем еще? – пытался я подыграть ее возбуждению, чтоб не испортить ей и себе настроение перед съемкой.
– Вчера на птицеферме достала для театра три ящика бройлерных цыплят!..
А то и того лучше:
– Зная вашу слабость, привезла вам соленый арбуз!..
Или:
– У моей подружки артистки Назаровой завтра сыну исполняется год. Вот связала ему шапочку, варежки и чулочки!..
В зелени ее глаз вижу: «Ну, скажите, что я молодец!»
И я хвалил. Хвалил, потому что искренне радовался порывам ее душевной щедрости. Она – такая! «На»– это ее органика, это ее дыхание.
Любопытная деталь. С такой удалью Валерия врывалась на съемку тогда, когда на площадке предстояло играть именно это настроение, это состояние. А вот перед съемкой эпизода «расстрел Катерины» актриса вышла из вагона поезда, села в машину, появилась в гримерной, на репетиции полной противоположностью той Валерии, что умела ликовать по любому, даже по чепуховому поводу, – грустная, строгая, собранная… Даже отрешенная… Думаю, поначалу она интуитивно, а позже уже осознанно, как мастер, умела подчинять жизнь сцене, экрану. Это – самодисциплина. Прелестное для артиста качество.
Если уж пооткровенничать – скажу: ревновал и ревную ее к сцене. Там она лучше, могучее! В спектаклях «Леся Украинка» и «Осенние скрипки» во всю мощь раскрывался ее подлинно трагический талант. Сцена – естественное, непрерывное течение жизни. Актриса, не насилуя свою природу, без напряжения, легко и незаметно для себя самой, может достичь апогея чувств.
Съемочная площадка, даже при самом искреннем желании создать творческую атмосферу, не является таким полем, как сцена. Здесь актеру волей-неволей приходится «рвать» свои эмоции клочками – в кадрики, в ракурсы…
В октябре 1997 года в Киеве на сцене родного Валерии Заклунной театра состоялся ее бенефис. Бенефициантка выступала в роли Варвары Васильевны в спектакле по пьесе Сургучева «Осенние скрипки». Зрители завороженно следили за напряженной, полной трагизма жизнью героини Заклунной. Все мы словно боялись прозевать хоть одну искорку из того пламени вдохновенной игры, что демонстрировала актриса. Варвара Васильевна жертвовала своей любовью, а Заклунная жертвовала, во всяком случае так казалось, своим здоровьем во имя искусства. Валерия, я знал, способна на жертвы.
На одном из профсоюзных съездов Украины она совершила невероятное – критиковала министра культуры!.. Критиковала без намеков – напропалую! Да еще, представьте себе, в присутствии Первого секретаря ЦК КПУ В.Щербицкого! Хотя уже и наступило перестроечное время, но это выступление было – как разорвавшаяся бомба. Осколком задело и самого оратора. Довольно долго пришлось быть Заклунной в непочтении, в опале, в забвении…
Зная, как, должно быть, ей трудно, я спросил ее в один из своих кратковременных заездов в Киев:
– Чем всерьез занимаешься?
– Огородом, дядя Женя. – И ни малейшего признака хныканья. – Если бы вы видели мои розы. Вывела даже свой сорт!..
И в глазах ее зеленых – свет, радость!..
Александр Николаевич (ее муж) схватил бумажный куль и стал наполнять его огородными дарами, ворча:
– Заладила: розы, розы. А баклажаны, а огурцы, а сливы, а перец… Это все она, я в этих делах ни бум-бум!..
Видя, как Александр Николаевич с трудом запихивает в переполненный мешок вяленых лещей, спросил:
– Ну, это-то уж ваш улов?
– Не-ет. Это – тоже она. Такая заядлая рыбачка, что не дай Бог!..
Заядлая – значит одержимая!
Знаю, Валерию Заклунную в 1997 году избрали членом ЦК Компартии Украины, а в 1998 году она стала депутатом Верховной Рады….
Недавно получил от нее записку: «…Живу я тихо и мирно, с небольшими перерывами на драки. Врагов прибавляется, значит, я не стала полным… Это радует. Поступить иначе не могла (это о парламентской работе. – Е.М.).Иначе – значит предать все мои пусть наивные или глупые мечтания, надежды людей, которых любила и люблю…»
Кручу в руках бумажку и размышляю над словами: «предать»– не может, ей природой этого не дано. «Глупые» – нет, не согласен! Хотеть делать людям добро никогда глупостью не считалось. «Наивные» – не скрою – это есть. Наивность для артиста – благо, качество бесценное. А для политика? Боюсь, политиканы забодают… Не погубить бы в «драке» артистку. Хотя, кто знает!
Родилась она под «салют» бомбовых, снарядных, минных взрывов. Малюткой, на последнем плоту вывезли ее из пылающего огнем Сталинграда!.. Бой у нее в крови!..
Песня слышится…
Что бы я ни начинал обдумывать – новую роль или фильм, – еще толком не зная, как буду играть или ставить, а характер музыки, мелодика, лейтмотив будущей работы уже рождались во мне. Я не слышал их – если бы слышал, то спел бы, и дело с концом. Нет, я внутренне чувствовал интонационный настрой роли, картины. Именно чувствовал, ощущал мелодическое направление в том хаосе звуков, интонаций, даже голосов, которые постоянно бродят во мне.
Самое удивительное, что я не знаю сам, как это рождается, почему появляется неизвестно откуда. Например, если дело касалось роли, я слышал себя тем или иным инструментом: то я виолончель, то я труба, гармошка или балалайка – в зависимости от характера роли… Когда предстояло ставить фильм, то его звучание рождалось во мне раньше, чем другие компоненты картины, раньше, чем образный ряд.
Для меня музыка в произведении – не приложение, не виньетка, не украшение, она – душа! Она – активно действующее лицо. Она говорит, когда персонажи молчат. Она – гармония, ритм фильма. И потом я, уже как режиссер, исходил из этого: выстраивал сцены, диалоги, накладывал их на воображаемую музыку, слыша ее всплески или замирания…
Если бы я имел музыкальное образование, мне было бы легче – я бы просто записывал то, что звучит во мне, волнует, будоражит… Но тогда бы я был не режиссером, а композитором…
Мне так хотелось узнать, а как же сами композиторы слышат то, что потом превращается у них в музыкальное произведение. И вот однажды такой случай представился. Году в 1965-м оказался я в Ростове-на-Дону в одно время с нашим великим песенником Василием Павловичем Соловьевым-Се-дым. Мы шли по улице, разговаривали, и я спросил:
– Василий Павлович! А как пришла к вам эта мелодия? – И напел: «…Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера…»
– Черт его знает… Услышал, – ответил он просто.
В это время нас обгонял трамвай.
– Ты что сейчас слышишь? – обратился ко мне композитор.
– Стук колес, звонок, – ответил я, озадаченный вопросом.
– Вот видишь, как мало… – Василий Павлович не договорил и на какой-то миг ушел в себя. Потом, выщелкивая большим и средним пальцами ритм, напел: «Ди-ди, ди-ди, та-та-та та-та-та…»
Получилась прелестная мелодия. Конечно, она тут же пропала в шуме ростовской улицы. Но композитор услышал ее даже в совсем не музыкальных звуках, которые издавал проходящий мимо нас трамвай… Услышал, напел и тут же забыл. Василий Павлович как бы преподал мне урок: «Учись слушать окружающий тебя мир». А я тогда с сожалением подумал: «Господи, если бы я умел записывать все, что слышу вокруг и внутри себя! Я бы и напетую только что мелодию записал бы…»
Вот почему в моей работе мне так нужен композитор, которому я мог бы объяснить то, что звучит во мне, тот «хаос», а на самом деле – мое мелодическое представление о роли или фильме… И это очень трудно – объяснить то, что я хочу.
Из письма М.П.Мусоргского: «…если звуковое выражение человеческой мысли и чувства простым говоромверно воспроизведено у меня в музыке и это музыкально-художественно, то дело в шляпе».
Магическое «простым говором»– самое, на мой взгляд, сложное в искусстве. «Простым» – вовсе не значит облегченным, простецким, а вот «говором» – значит народным, то есть доступным широким массам слушателей, зрителей. Такое звучание музыки – часть меня самого, так как родился я и рос в окружении народной музыки, народных песен.
И вот когда я начинал очередной фильм, передо мной встал непростой вопрос: кому из композиторов довериться? Кому я могу сказать: «На, возьми собранные в моей душе пока еще неясные мне самому интонации, услышанное мною пенье птиц, шелест трав, журчание ручейков… Возьми и выстрой в ряд, облеки в гармонию, в мелодию и отдай взятое от меня, но сочиненное тобой в мой фильм».
Таким композитором стал для меня Евгений Николаевич Птичкин. Не знаю, ходил ли он, как я, в детстве босиком по земле или нет, но уверен, что чувствовал он ее всем своим существом. Я понял, что Птичкин – мой композитор.
Это совсем не значит, что работалось нам всегда легко, как было, например, с песней «Сладка ягода» к «Любви земной»: вечером я нагрузил Птичкина своим «хаосом», а в пять утра он мне ее уже спел по телефону. Через неделю-две она уже пелась везде и всюду.
Кстати, из-за этого мы с ним крепко поссорились. Представьте себе: фильм еще не снят, а песня уже звучит во всех ресторанах, ее горланят пьяными голосами в застольях…
– Как могло такое случиться, Женя? – неистовствовал я.
– Понимаешь… Ольга Воронец попросила у меня разрешения исполнить эту песню один раз по радио… Понимаешь – один раз… Ну и…
– А ты понимаешь, что фильм выйдет уже со старой, затертой песней?!! – не унимался я.
Так, кстати, и случилось. Песня «вышла в люди» раньше фильма и без имен авторов – Роберта Рождественского и Евгения Птичкина. А может, именно в этом и счастье ее создателей?! Песня-то стала народной…
Гораздо труднее работалось нам с Евгением Птичкиным, когда пришел черед фильма «Судьба» – продолжения «Любви земной»…
Роберт Рождественский прочел сценарий, позвонил мне:
– С-слушай, с-старик, драматургия волнует – фактура по-народному крепкая. Но… Хоть убей, не могу понять – где и зачем нужна песня… Надо встретиться…
С Евгением Птичкиным мы поехали к Рождественскому – на дачу, в Переделкино. Уселись втроем в тени развесистой яблони за стол, сервированный милой женой поэта Аллочкой для чаепития, – самовар, чашки…
Композитор вытащил из портфеля бутылку «Столичной». Осторожно поглядывая на крыльцо дома, торопливо наполнил чайные чашки… И тут как тут – Алла с тортом…
– Это так, для маленького вдохновения, – заискивающе объяснял Птичкин.
– Роба!.. – Алла перевела недовольный взгляд на мужа. – Ты еще вчера хорошо вдохновился!..
Но водка под торт прошла, слава Богу, без противности.
– Давай, с-старик, выворачивай душу. Чего ты от нас хочешь? – спросил Рождественский.
– Двое любящих в вынужденной разлуке, – начал я. – Он (Брюханов, его сыграл Юрий Яковлев) в партизанском отряде. Она (Валерия Заклунная) в заложницах у немцев. При всех тяжких испытаниях они думают друг о друге… Вот в этом «думают» и есть музыка… Вернее, песня…
– Ну, это только сюжет, – буркнул Роберт.
– Представь! На экране война, разруха, пожары, виселицы, голод, дым, грязь. И над всем этим адом – песня любви, песня щемящей нежности. Нежности! Чистоты!..
К нам снова подошла Алла. Поставила тарелки с лучком, сальцем, огурчиками, сыром… И граненые стопки….
– Женя, – это она обратилась ко мне, – вы им о нежности, а они водку из чашек лакают. Извращенцы несчастные! – Последние слова она произнесла с еле сдерживаемой улыбкой и ушла.
Из стопок «Столичная» прошла уже с приятностью.
– П-продолжай, – хрумкнул малосольным огурчиком Роберт.
Я проигрывал на тему любви этюды, цитировал известные сцены из классики, смеялся, плакал… Напевал мелодии любимых песенников: Фрадкина, Соловьева-Седого, Пахмутовой, Богословского…
Три года ты мне снилась,
А встретилась вчера…
Я устал, но продолжал ходить вокруг творцов, как тот кот «по цепи кругом». И все убеждал, убеждал… Наконец не выдержал и в досаде, обиде за свое косноязычие заорал:
– Долго я буду перед вами вертеться на пупе?!
Рождественский смотрел на меня не мигая и сказал как бы про себя:
– П-п-пожалуйста, п-п-повертись еще на п-п-пупе…
На этих словах он заикался больше обычного. Очевидно, заволновался, что-то в нем заработало.
– Роба! Дорогой! – почти в отчаянии выкрикнул я. – Я хочу, чтобы между ними, героями, песня была связующим мостиком… Это… Как эхо!.. Я даже знаю, кто будет ее петь, – сказал я и обессиленно сел.
– Кто?
– Анна Герман.
Роберт вскочил.
– Всё! Не вертись! На-надоел! – И, допив водку, он быстро удалился в дом.
Я недоуменно посмотрел на тезку:
– Что, поэт обиделся?
– Нет! – счастливо улыбнулся Птичкин. – По-моему, стихи состоялись…
– А мелодия? – спросил я робко у композитора.
– Она уже давно у меня вертится…
Через пару дней Евгений Николаевич позвал меня в свой мосфильмовский кабинет (Птичкин был главным музыкальным редактором студии). Предвкушая мой восторг, он громко, очень громко, слишком громко запел:
Мы – эхо! Мы – эхо!
Мы долгое эхо друг друга…
Стихи, мелодия были превосходны!.. Но как неверно, как конкретно, без нежности, исполнил их сам сочинитель!.. Да, не всем композиторам – даже самым голосистым – дано спеть свою песню так, как это умел делать Ян Френкель. Помните его проникновенные «Вальсок», «Русское поле»?..
Я выразил Птичкину искренний восторг, но попросил его никогда и никому эту песню не петь: мало ли что – вдруг украдут… В общем, старался не обидеть его как вокалиста…
– Давай думать, как нам заполучить Анну Герман? – предложил я.
Ее голос, свирельной чистоты, нежный, легкий, хрустальный и серебристый, единственный в своем роде (Боже, сколько еще прекрасных эпитетов мог бы я привести, говоря об этой изумительной певице и очаровательной женщине!), не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Он буквально преследовал меня… Он обволакивал меня… В нем было то необъяснимо прекрасное, что требовалось для выражения чувств двух бесконечно любящих друг друга людей, разделенных страшными обстоятельствами. И эту любовь мне хотелось показать в фильме не словами или зрительными образами, а мелодией…
– Да, только она!.. Но… – Женя помолчал, потом снова произнес это злополучное «но»: – Но ведь Аня живет в Польше… Да и потом, она только-только пришла в себя после тяжких травм, полученных в той автокатастрофе в Италии… Да и понравится ли ей песня?!
Аня приехала в Москву. (О том, как проходили наши переговоры, я не раз рассказывал в посвященных Анне Герман телепередачах, подготовленных уже после ее смерти.)
И вот мы в Доме звукозаписи. Оркестранты встретили певицу с чувством искренней симпатии, почитания: мужчины встали, женщины постукивали смычками по пюпитрам. Аня, взволнованная, не скрывая своей радости от приема, несколько раз смущенно поклонилась.
Высокая, стройная, белокурая, сероглазая Герман стала у микрофона. Без малейшего напряжения, просто и естественно, так, как дышит сама природа, полился ее божественный голос.
Покроется небо пылинками звезд…
Оркестр вдруг заиграл невпопад и умолк: через стекло из аппаратной мы увидели, как женщины – кто украдкой, а кто и открыто – вытирали слезы…
Записали Анино соло. Записали и дуэт – как вариант – с Львом Лещенко. Не мог я лишить зрителя того наслаждения, которое испытал сам, – решил взять в фильм оба варианта.
Последний дубль… Овация… такое с музыкантами в рабочей обстановке я видел впервые. А может, и в последний раз…
Благодарно обнимая композитора, я шепнул:
– Теперь ты понял, что написал?
– Скажи честно, ты этохотел?
– Да, Женя, это, – искренне признался я Птичкину.
– Видишь, значит, не зря ты тогда «вертелся на пупе»!..
И оба, как мальчишки, рассмеялись, вытирая текущие по щекам слезы… Это были слезы любви к Анечке Герман.







