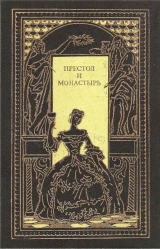
Текст книги "Престол и монастырь"
Автор книги: Евгений Карнович
Соавторы: Петр Полежаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 49 страниц)
X
В тринадцать часов дня, по старинному русскому счету часов от восхода солнца, или в четыре часа пополудни, 27 апреля 1682 года, в четверг на Фоминой неделе, раздались над Москвою с Ивановской колокольни тоскливые удары большого колокола.
– Никак, гудит «Вестник»? – заговорили в Москве, прислушиваясь к протяжному и редкому благовесту. – Знать, царь умер? – с изумлением спрашивали москвичи друг у друга, так как им хотя и было известно о болезни Федора Алексеевича, но никто не ожидал такой скорой кончины двадцатичетырехлетнего государя.
Догадывавшиеся о смерти царя не ошибались. Действительно, теперь звонили в колокол, называвшийся «Вестник», который каждый раз оповещал население столицы о смерти государей. Вскоре к одинокому его благовесту стал присоединяться заунывный перезвон московских церквей, и народ со всех сторон густыми толпами повалил в Кремль. Туда же, в царские палаты спешили в колымагах или неслись верхом бояре, думные и разных чинов служилые люди. Вскоре весь Кремль наполнился народом.
После непродолжительных приготовлений тело государя вынесли из опочивальни и поставили среди Крестовой палаты. Эта палата славилась своими издалека привезенными святынями: в ней был в ту пору камень, на котором стоял Иисус Христос, читая молитву «Отче наш». Там же были: печать от гроба Господня, иорданский песок и «чудотворные» монастырские меды. В этой палате родился царь Федор Алексеевич, так как, по тогдашнему обычаю, царицу выносили в Крестовую палату, чтобы там она разрешалась от бремени. В Крестовой палате бояре, по старшинству, подходили к усопшему и прощались с ним, целуя его руку. За боярами следовали окольничие, дьяки, дворяне и жильцы, и вся дворцовая прислуга, а затем стали пускать в палату, для прощанья с государем, и простой люд. Между тем на Благовещенской площади поднимался говор о том, кому быть царем, и среди народа шныряли какие-то люди, которые то шепотом, то вполголоса, то громко говорили – одни, что надлежит быть царем Ивану Алексеевичу, а другие, что нужно посадить на царство Петра Алексеевича. Народ, однако, молчал в недоумении, не принимая ни стороны Ивана, ни стороны Петра. Он вяло и равнодушно и только с чувством обыкновенного любопытства выжидал, что будет далее. Между тем в царских хоромах происходило совсем иное: там разыгрывались страсти, там шла борьба за верховную власть.
Отдав лобзанье покойному государю, духовный чин, бояре и чиновные люди собрались в так называвшейся Ответной палате, где обыкновенно цари принимали и отпускали иноземных послов. Посреди этой палаты стоял теперь аналой, на котором лежало Евангелие и за который встал патриарх Иоаким, положив левую руку на Евангелие, а в правой держа крест.
– Царь Феодор Алексеевич, – начал патриарх, обращаясь к присутствовавшим, – отошел в вечное блаженство. Чад по нем не осталось, но остались братья, царевичи Иоанн и Петр Алексеевичи. Царевич Иван шестнадцатилетен, но одержим скорбью и слаб здоровьем. Царевич же Петр десятилетен. Из них кто будет наследником престола российского? Кого наименуем в цари всея Великия, Малыя и Белыя России? Единый или оба будут царствовать? Спрашиваю и требую, чтобы сказали истину, как перед престолом Божиим. Кто же изречет по страсти, да будет тому жребий изменника Иуды.
– Быть народному избранию! Сами по себе решить это дело не беремся, – заговорили бояре, причем как сторонники Милославских, так и сторонники Нарышкиных надеялись, что преданные им люди успели уже подготовить народ в их пользу.
С крестом в руке, предшествуемый духовенством и сопровождаемый боярами, вышел патриарх на Красное крыльцо. Народ на площади мгновенно смолк, все как будто притаили дыхание в ожидании, что изречет святейший владыка.
– Известно вам, благочестивые христиане, – начал громким, но старчески-дребезжащим голосом патриарх, – что благословенное Господом царство Русское было под державою блаженной памяти государя царя Михаила Федоровича, а по нем державу наследовал блаженной памяти царь Алексей Михайлович. По его преставлении был воспреемником престола государь царь Феодор Алексеевич, самодержец всея Руси. Ныне же изволением Всевышнего перешел он в бесконечный покой, оставив братьев, царевичей Иоанна и Петра Алексеевичей. Из них, царевичей, кому быть царем всея России? Да объявят о том свое единодушное решение!
В то время, когда патриарх произносил эту речь, в плотно сомкнувшейся толпе, занявшей место у самого Красного крыльца, начинал уже слышаться все более и более усиливавшийся говор: «Быть на престоле царевичу Петру Алексеевичу!» – и едва лишь окончил патриарх свое обращение к народу, как в этой толпе раздались громкие крики: «Быть царем Петру Алексеевичу! Хотим Петра Алексеевича!»
Но вместе с этими возгласами раздались на площади и другие: «Не хотим Петра Алексеевича, хотим Ивана Алексеевича! Быть ему царем!»
Крики эти неслись из огромной ватаги, которая сперва бежала опрометью к Красному крыльцу, но потом, увидев, что там место уже занято, отчаянно напирала сзади на толпу, требовавшую на царство Петра. Подбежавшая к Красному крыльцу ватага пускала в ход толчки, локти, кулаки; подававшиеся из нее вперед молодцы хватали за шиворот заслонявших им дорогу к Красному крыльцу и силились оттащить их, но те, в свою очередь, осаживали напиравших и отплачивали своим противникам кулачным отпором.
– Напирай, наваливай! – вопил в бешенстве дворянин Максим Сунбулов, предводительствовавший подбежавшею ватагою. – Страдники вы эдакие, из-за вас я опоздал! – кричал он в отчаянии следовавшей за ним толпе, завидев, что патриарх собирается уже уходить с Красного крыльца в царские палаты.
С уходом патриарха поднялся шум, произошла страшная давка. Одни хотели перекричать других, и имена Ивана и Петра слились теперь в общий, но уже бесполезный вопль.
Дрожа от волнения и страха и крепко прижав к себе десятилетнего Петра, стояла в Крестовой палате, около гроба царя Федора Алексеевича, величавая и стройная царица Наталья Кирилловна и с трудом сдерживала сына, который хотел вырваться и бежать на Красное крыльцо, чтобы взглянуть, что делается на площади.
– Приветствую твое пресветлое царское величество, – сказал боярин Кирилла Полуэктович Нарышкин, обращаясь к царевичу Петру, и с этими словами он поклонился в ноги своему внуку.
Царица быстро отстранила к деду своего сына. Бледное лицо ее покрылось румянцем, и радостно заблистали ее большие черные очи. Она упала на колени, творя с молитвою земные поклоны. То же стал делать и Кирилла Полуэктович, а за ним и его внук.
– Иди, благоверная царица, на Красное крыльцо, гам ожидают тебя и великого государя патриарх и весь синклит, – сказал он, почтительно становясь позади своей дочери, которая, ведя под руку сына, пошла медленным шагом на Красное крыльцо. Когда она там появилась с новоизбранным царем, площадь огласилась страшным радостным ревом, среди которого слышалось, однако, и имя Ивана, которого также звали из толпы на царство.
Патриарх, осенив крестом царя-отрока, благословил его на царство, а затем святейший владыка, духовный чин, бояре и бывшие на Красном крыльце служилые люди принесли поздравление Петру Алексеевичу, «великому государю и царю и самодержцу всея Великия, и Малыя и Белыя России».
Если царица Наталья Кирилловна, не будучи в состоянии осилить себя, волновалась и страшилась в ожидании, чем кончится избрание, то царевна Софья Алексеевна, в противоположность ей, казалась спокойною и не поддавалась страху. Иван Михайлович Милославский уверил ее в успехе дела. В то время, когда площадь кипела и шумела, царевна сидела у постели своего старшего, хворого брата, который не заботился и не думал о том, призовет его или нет народ к царской власти. По временам царевна подходила к открытому окну и внимательно прислушивалась к доносившемуся до нее с площади гулу, с нетерпением ожидая той торжественной и радостной для нее минуты, когда ей придется, подняв с постели брата, явить его народу с Красного крыльца, как великого государя.
Прежде чем патриарх успел объявить на Красном крыльце об избрании царем Петра Алексеевича, из толпы бояр поспешно и незаметно выскользнул Милославский и побежал к царевне. Когда он вошел к ней, его смущенный и растерянный вид показал Софье, что дело ее кончилось неудачею.
– Иди скорее, благоверная царевна, на Красное крыльцо! Ты там нужна! – торопливо проговорил Милославский.
– Должно быть, братца Петрушу избрали царем? – проговорил равнодушно царевич Иван, с трудом всматриваясь больными и подслеповатыми глазами в Милославского.
На вопрос царевича не обратили внимания ни боярин, ни царевна, которая поспешила выйти из братской опочивальни.
– Максимка Сунбулов нам изменил, – говорил на ходу Милославский Софье, – но дело наше вконец еще не пропало. Будь только мужественна, царевна, и не уступай Нарышкиным, они лишь временно осилили нас!
– На праотеческий всероссийский престол избран великий государь царь Петр Алексеевич, – объявил патриарх появившейся на Красном крыльце царевне.
Гневный огонь вспыхнул в ее глазах.
– Избрание неправо! – крикнула она, обведя грозным взглядом патриарха, царицу и бояр, и быстро повернулась, чтобы уйти в палаты.
– Не начинай смуты, умоляю тебя именем Божиим! – тихо проговорил патриарх вслед уходившей Софье, которая сделал вид, что не слышит мольбы патриарха.
Выдержала себя перед людьми Софья, а Иван Михайлович, после долгих убеждений, уговорил даже ее пойти поздравить царя Петра Алексеевича с воцарением, чтобы не подать повода к дальнейшим подозрениям. Но когда она после этого удалилась в свой терем и там осталась одна, то залилась слезами, осыпая проклятиями и мачеху, и Нарышкиных.
В это время власть избранного государя утвердилась, на верность ему приводили к присяге бояр, окольничих, стольников, дворян, стряпчих и всех служилых людей. Все беспрекословно присягали Петру. В одном только приказе стрельцы отказывались целовать крест царю Петру Алексеевичу, но посланные к ним из дворца окольничий, думный дворянин и дьяк уговорили и их присягнуть Петру.
В тот же день началось возвышение Нарышкиных. Великий государь постановил в спальники Ивана, Афанасия, Льва, Мартемьяна и Федора Кирилловичей, а также Василия Федоровича Нарышкиных. Он же снял опалу с Артамона Сергеевича Матвеева и послал к нему указ о возвращении в Москву немедленно. Освобождены были из ссылки и четверо Нарышкиных, им также велено было прибыть в Москву. В противоположность этим милостям объявлено было первым любимцам покойного царя: боярину и чашнику Языкову, двум братьям Лихачевым и ближнему стольнику Языкову, чтобы во время выходов великого государя их не видали. Опала эта была недобрым предвестием для сторонников Милославских, которые дружили прежде с опальными царедворцами.
На другой же день кончины царя Федора Алексеевича, то есть 28 апреля, происходило его погребение. Обряд этот совершали патриарх, девять митрополитов, пять архиепископов, два епископа и все бывшие в Москве архимандриты и игумены. Погребальное шествие открывали шесть стольников, они несли обитую золотою объярью крышку царского гроба. От них ее приняли на Красном крыльце стольники. Гроб, покрытый золотою парчою, несли также стольники на носилках, обитых бархатом, а при входе в Архангельский собор их заменили священники. За гробом шли: царь Петр Алексеевич, царица Наталья Кирилловна и царевна Софья Алексеевна, а другую вдовую царицу, Марфу Матвеевну, несли в креслах спальники и бояре, которые, как и царское семейство и все другие чиновные и служилые люди, были одеты в «печальной», то есть в черной, одежде. За гробом шел народ, с зажженными восковыми свечами, розданными на счет царской казны.
– Дивно, что так спешно государя хоронят! – говорил в толпе один старик. – Того иногда прежде не водилось. Бывало, дадут собраться из окрестных мест множеству народа и съехаться отовсюду духовным властям и служилым людям. Чего так теперь торопятся? Чего доброго, заживо его похоронят.
– Нешто не знаешь, что на погребение царя Алексея Михайловича набралось столько народу в Москву, сколько прежде никогда не бывало. Принялись тогда душить, резать и грабить; так что в день его похорон нашли в Москве более ста ограбленных и убитых. Вот для того-то, чтобы того же и ныне не случилось, и поторопились поскорее похоронить государя, – вразумлял старика подьячий.
– Нет, тут что-нибудь да неладно, – отозвался кто-то из толпы, а старик, сомнительно покачав головою, вопросительно взглянул на окружавшую толпу, среди которой поднялись разные толки.
Появление Софьи, как сестры-царевны, на погребении ее брата было в Москве первым еще случаем. Все дивились этому и в особенности тому, что молодая царевна шла не только пешком, но и не заслонилась «запонами» и даже с отброшенною с лица фатою. Изумление бояр и разных чинов служилых людей возросло еще более, когда царь и царица, не оставшись на отпевании, тотчас после обедни ушли из собора, а между тем царевна Софья оставалась в соборе до тех пор, пока не засыпали могилы.
Лишь только царица вернулась в свой терем, как к ней явились монахини, посланные тетками и сестрами покойного государя.
– Благоверная царица! – заявила старшая из этих посланниц. – Царевны кручинятся и скорбят, что ты на отпевании их племянника и братца остаться не изволила.
– Сынок мой больно устал, мал он еще; невмоготу ему было на ножках стоять, – отвечала царица на этот укор за невнимание ее к пасынку.
Совсем иначе отзывались в теремах царевен о Софье Алексеевне:
– Вот она братца любила, так поистине любила. В горести не помнила даже, что и делала; для него и своей царственной скромности не поберегла и на отпевании осталась до конца. Не то что мачеха! – умиленно почмокивая губами, говорили приживалки, которыми были наполнены терема царевен.
Возвращаясь одна из Архангельского собора, царевна, закрыв ширинкою лицо, громко всхлипывала, сопровождая свои слезы обычными в то время причитаниями.
– Извели братца нашего злые люди, – плакалась Софья, идя посреди расступившегося перед нею народа. – Нет у нас ни батюшки, ни матушки, братца нашего Ивана на царство не выбрали! Умилосердитесь, православные, над нами, сиротами; если мы в чем провинились перед вами, отпустите нас в чужие земли к королям христианским!
– Эх вы, сиротинки горемычные! – подхватывали на пути царевны московские торговки и бабы, расчувствовавшись от ее причитаний, и принимались сами реветь и нюнить.
Слова и слезы царевны не прошли даром, и уж на другой день заговорили в Москве и принялись ахать и охать о царевиче Иване Алексеевиче и об его сестрах, предсказывая, что изведут их злые люди. После похорон Федора Алексеевича, по существовавшему в ту пору обычаю, в опочивальне умершего царя сидели, в продолжение первых девяти суток, денно и нощно, около его постели очередными сменами бояре, окольничие и дьяки, а священники и дьячки беспрестанно читали Евангелие и Псалтырь. Такие же смены и такое же чтение было, в течение всего Сорокоуста, и в Архангельском соборе у могилы новопреставившегося. Каждый день отправлялись по нем панихиды как в этой древней усыпальнице государей московских, так и в кремлевском дворце, в так называемой Панафидской палате, а по монастырям ежедневно на счет царской казны кормили монашествующую братью и нищих за упокой души царя Федора Алексеевича.
XI
Давно уже принялись проказничать и своевольничать на Москве стрельцы, регулярное пешее, а частью и конное войско, заведенное еще в 1551 году царем Иваном Васильевичем Грозным и постепенно умножавшееся в своей численности, так что при воцарении Петра Алексеевича в Москве было уже до 15 000 стрельцов. В стрельцы вступали вольные люди, жили они в разных местах Москвы отдельными большими слободами, обзаводясь семьями. Установился обычай, что сын стрельца, достигнув юношеского возраста, делался стрельцом; а из посторонних в стрелецкое войско принимались только люди «резвые и стрелять гораздые» и притом не иначе как по свидетельству и одобрению старых стрельцов. Обязанности стрельцов в мирное время были следующие: держать в Москве караулы, гасить пожары и при встрече иноземных послов становиться на месте их проезда в два ряда. Особенным почетом среди стрелецкой рати пользовался так называвшийся «выборный», или «стремянный», полк. Он состоял из конников и постоянно сопровождал государя при его выездах из Москвы, почему и назывался еще «государевым» полком. Военная служба была, кроме походного времени, легка для стрельцов; много оставалось у них досуга, и они стали заниматься торговыми и различными промыслами, не платя, однако, за это наравне с посадскими никаких податей и пошлин. Большая часть стрельцов сделалась благодаря этому людьми достаточными и даже богатыми, да и кроме того жизнь их была обеспечена правительством, так как раненые, увечные и престарелые стрельцы рассылались на кормление по монастырям. Стрельцы выделялись из местного населения столицы и жили с ним не в ладах. Они беспрестанно задирали мирных жителей Москвы, а также оскорбляли их жен и дочерей, и трудно было найти на них управу, так как у них был свой особый суд, Стрелецкий приказ, а для своих внутренних полковых распорядков они, подражая казакам, завели круги, на которых и решали дела большинством голосов.
Не худо жилось бы московским стрельцам, если бы их не притесняли начальники: полковники отбирали у стрельцов их сборные деньги, захватывали их земли, не доплачивали им царского жалованья, не выдавали сполна хлебных запасов, обращая и то, и другое в свою пользу, били стрельцов нещадно батогами, принуждали и их самих, и их жен и дочерей работать в своих огородах, косить сено, строить в своих деревнях дома, мельницы и плотины, не отпуская их с работы даже в Светлую неделю. Полковники заставляли стрельцов одеваться слишком щеголевато, требуя, чтобы они покупали на собственный счет цветные кафтаны с золотыми нашивками, бархатные шапки и желтые сапоги, хотя им шла одежда из царской казны. Особенно между всеми полковниками отличался корыстолюбием, произволом и жестокостью Семен Грибоедов. Он довел свой приказ до того, что в самый день смерти царя Федора Алексеевича подчиненные Грибоедову стрельцы подали государю на него челобитную. Грибоедов был тотчас же сменен, и на другой день его били кнутом, а двенадцать других полковников были биты батогами.
При воцарении Петра стрельцы не произвели никаких беспорядков, но потом между ними начали ходить толки о том, что если бы был другой царь, то им было бы несравненно лучше жить. В стрелецких слободах начали появляться теперь какие-то таинственные личности, из которых мужчины шушукались со стрельцами, а женщины громко и бойко болтали со стрельчихами. И те и другие возбуждали стрельцов против бояр, бывших на стороне царицы Наталии Кирилловны и царя Петра Алексеевича, в особенности же против Нарышкиных.
– Кабы ваши мужья да сыновья знали царевну Софью Алексеевну, то Нарышкиным и боярам, их согласникам, ее в обиду ни за чтобы не дали! – говорила постельница Родилица, беседуя в одной из стрелецких слобод со стрельчихами.
– Нетто они крепко ее притесняют? – с участием спросила одна из стрельчих, выслушав Родилицу.
– А то как же? Спуску небось не дадут! Ныне все в их власти. Мало того что притесняют, да извести ее, голубушку, хотят, а она-то и есть истинная доброжелательница всему стрелецкому войску! – говорила жалобно постельница.
Стрельчихи покачали головами.
– Думаете вы, сударушки, что царь Феодор Алексеевич вольною смертью живот свой покончил? Как же! – загадочно проговорила Родилица.
Стрельчихи навострили уши.
– Отравил его яблоком проклятый жидовина-дохтур, что гадиной прозывается… А как покойный-то государь его, злодея, ласкал и жаловал! Бывало, не только его самого, да и жену его, треклятую жидовицу, чем только не обдарит: и золотом, и соболями, и бархатом!
– Что и говорить! Ведь недаром же ты в царских палатах живешь, ты все должна знать досконально, – заметила одна из стрельчих.
– А что же эту окаянную гадину за его злодейство не сожгут на Болоте в срубе? – спросила другая стрельчиха.
– Как доберешься до него? Не по своей охоте он злодейство учинил, а по уговору от Нарышкиных; они и защитят его! – вразумляла Родилица.
– Вправду ли, Федора Семеновна, говорят, что царевна Софья Алексеевна премудрая девица? – спросила первая из говоривших с постельницею стрельчих.
– Уж больно премудра: все читает да пишет или с людьми учеными толкует, – был ответ Родилицы.
– Вот бы ей самой сесть на царство!.. – сболтнула одна из стрельчих. – При ней бы и нашему женскому полу повадно и вольготно было.
– Стрелецкие полки бы из баб завели! – весело подхватила другая.
Стрельчихи захохотали.
– Не смейтесь, сударушки! – заговорила строгим голосом самая старая из них. – Дней пяток тому назад заходила к нам в слободу благочестивая странница из смоленской стороны и пророчила, что вскоре на Москве наступит бабье царство.
– Оно так и быть должно, – подхватила Родилица. – Ходил к царевне монах Семен, из Полоцка был он родом, ныне он покойный, так и тот по звездам небесным вычитал то же самое. Да говорят еще…
– Никак, мой муженек домой бредет? – крикнула вдруг стрельчиха-хозяйка, взглянув в окно и увидев приближающихся к избе мужчин. – Он и есть! Вишь, как запоздал, а идет с ним московский дворянин Максим Исаевич Сунбулов; часто он в наших слободах бывает и диковинные речи ведет: пророчит разом и о бабьем и антихристовом царствии. Кто тут разберет!
– Не призамолкнуть ли нам, сударушки, нашею речью да не затянуть ли песню? – спросила старая стрельчиха. – А то, чего смотри, Кузьма Григорьевич осерчает.
– Чего призамолкнуть? – бойко запротиворечила ей Родилица. – Совсем супротив того делать нужно: толкуйте стрельцам, чтобы выручали они из беды благоверную царевну Софью Алексеевну. Расскажите им, что ее извести хотят, а при ней было бы стрельцам житье вольное, да толкуйте, им, что и царя Феодора Алексеевича Нарышкины извели отравою и что то ж самое хотят учинить и с царевичем Иваном.
Стрельчихи, однако, невольно замолчали на некоторое время при приближении хозяина дома, выборного стрельца Кузьмы Чермного, и его спутника Сунбулова.
– На тебя, Кузька, понадеялся я крепко, а ты, окаянный, что со мной сделал? А теперь мне из-за тебя житья от Ивана Михайловича нет: все бранит да корит, что мы запоздали выкрикнуть царевича Ивана, говорит, что я один все дело сгубил, изменником обзывает! – говорил Сунбулов.
– Не унывай, Максим Исаевич, – ободрял Кузьма Сунбулова. – Дело поправить успеем, у нас в слободах теперь много насчитаешь народа, который хочет постоять за царицу. Не перевелись у нас еще и такие молодцы, что с Разиным по широкой Волге плавали, хотят они стариной тряхнуть!
– Со стариной-то они пока пусть поудержатся; преж всего законного наследника на царство посадить надо.
Коли станет стрельцам привольно при царе Иване Алексеевиче да при его сестре царевне Софье Алексеевне, так незачем будет и стариной тряхнуть, разве только себе на погибель! – заметил Сунбулов.
– Дельно ты, Максим Исаевич, говоришь. Не окажешь ли ты мне честь великую, не зайдешь ли ты ко мне чарку водки выпить? – сказал Чермный, снимая шапку и кланяясь дворянину.
– Некогда, брат Кузьма, теперь не время; зайду к тебе вдругорядь, – отвечал Сунбулов. – Помни же наш договор: как сегодня схватим мы тебя в потемках на улице, да как будто примемся тебя бить, то ты и кричи во всю глотку: «Боярин Иван Кириллыч! Помилуй меня, бедного человека! Помилосердуй надо мною. Чем я, Иван Кириллыч, твою милость прогневал?» Тогда и мы со своей гурьбой примемся кричать: «Что прикажешь, Иван Кириллыч, с ним делать! Отпустить его, что ли, Иван Кириллыч?» Сразумел?
– Как не сразуметь, дело понятное, – улыбнулся Чермный, – Сказывают, боярин Иван Михайлович Милославский и не то еще творит; нарядится, говорят, бабой, сядет где-нибудь на перекрестке или на крыльце, да и ну плакаться бабьим голосом: «Изобидили, изувечили, искалечили Нарышкины меня, человека Божьего, ни за что ни про что!» Народ-то около него соберется, а он примется еще пуще прежнего голосить. Кто его с закрытой рожей признает? Под фатой-то бороды не увидишь. А в народе меж тем начнут жалоститься и за говорят: «Эх вы, бояре, бояре, от душегубцев Нарышкиных защитить нас не умеете! Из-за чего они так убогую старуху изобидили?»
– Смотри, Кузя, коли уж знаешь, так никому не проболтайся! – предостерег Сунбулов.
– Ни, ни! – подхватил Чермный. – И тебе-то я только по тайности открыл. Знаю я еще и то, – продолжал стрелец, – что охочие люди за полученные от боярина Ивана Михайловича деньги нарочно под лошадей нарышкинских бросаются. А в народе вопль поднимается: «Вишь, как Нарышкины своевольничают, скоро в Москве весь народ христианский перетопчут да передавят!..»
Говоря между собою, Сунбулов и Чермный подошли к воротам избы и, пошептавшись немного друг с другом, расстались до завтрашнего дня. Стрелец вошел к себе в избу.
– Здоровы, бабы! – крикнул он, снимая с себя охабень. – Чай, пустяки болтаете? Почитай, что вас тут Федора Семеновна мутит! – шутливо сказал он, кланяясь одной только постельнице. – Вашей чести, Федора Семеновна, мое почитание.
– Не мутит, а умные речи заводит, говорит о наступлении на Москве бабьего царства, – отозвалась хозяйка.
– Видно, вас мужья еще мало плеткой хлещут? Знать, побольше захотелось? Вот ужо я своей задам! – шутливо по-прежнему продолжал Чермный.
– Задай, Кузьма Григорьич, да только поскорей а то, чего доброго, и запоздаешь, как запоздал намеднясь на площадь, – подсмеиваясь, перебила молоденькая стрельчиха. – Поторопись, родной, а то как бабье царство настанет, то мы из-под власти вашей все выйдем. Сказывают, что и в пророчествах о том написано, – говорила, хорохорясь, стрельчиха.
– Молчи, баба, не в свои дела путаешься! – вдруг крикнул сердито Чермный, раздосадованный тем, что стрельчиха ему напоминала о позднем приходе на площадь. – Ступайте, бабы, по домам! Чего здесь без толку галдить! Чай, досыта наболтались, – выпроваживал Чермный гостей своей жены.
Стрельчихи, одна за другою, повыбрались из избы. Осталась одна Родилица, и с нею начал втихомолку беседовать Чермный, выслав сперва свою жену из горницы.
Потолковав с Чермным, Родилица отправилась к боярину, Ивану Михайловичу Милославскому, чтобы пересказать ему о том, что ей привелось услышать в стрелецкой слободе, но она не застала его дома, так как Иван Михайлович уехал к царевне.








