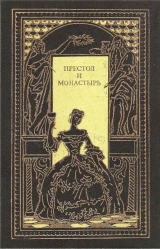
Текст книги "Престол и монастырь"
Автор книги: Евгений Карнович
Соавторы: Петр Полежаев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 49 страниц)
VIII
Через час по выходе академиков в кабинет Алексея Петровича вошел брат вице-канцлера, обер-гофмаршал Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. По наружности Михаил Петрович не походил на брата. Он был выше ростом, стройнее и казался очень моложавым; голубые глаза смотрели открыто, полные, свежие губы улыбались добродушно. Но, несмотря на внешнее несходство, один дух жил в обоих, одни идеи вскормили обоих, и оба брата были дружны, как будто дополняя друг друга.
– Ну что в конференции? – спросил брата Алексей Петрович, продолжая ходить по кабинету, когда тот, поцеловав его, устало опустился в кресло.
– Да ничего, – лениво отозвался обер-гофмаршал.
– Я так и знал – из пустого переливали в порожнее, – заметил вице-канцлер, – все, верно, толковали о посредничестве! Кто был в конференции?.
– Все те же: шведский посланник Нолькен, князь Алексей Михайлович, генерал Александр Иванович Румянцев, да я, и толковали все о том же. Нолькен по-прежнему настаивал на приглашении в конференцию Шетарди; так как Швеция начала войну по соглашению с французским королем для пользы Елизаветы Петровны, то поэтому будто бы и нет возможности отстранять от переговоров французского посла, тем более что сама государыня просила о посредничестве. На это Черкасский по-прежнему доказывал, что государыня просила о добрых услугах, а не о посредничестве, что для Швеции более чести переговариваться самостоятельно и что война была ведена не для пользы государыни Елизаветы Петровны, а для возвращения финляндских земель. Когда же Нолькен стал утверждать на своем о причинах войны, Черкасский-старик не утерпел и швырнул ему объяснение Шетарди. В этой ноте, как ты знаешь, французский посол, в самом начале доказывая, отчего французский король не может не поддерживать домогательств Швеции, прямо выказал, что и война-то была начата с этой целью. Нолькен прочел, смутился и нашелся сказать только одно, что все-таки Швеция и Франция желали добра цесаревне, на основании чего теперь и рассчитывают, что цесаревна, сделавшись императрицей, не откажется быть доброю соседкой, безобидно определив пограничную черту и уступив какой-нибудь клочок Финляндии. Черкасский поставил основным условием переговоров сохранение Ништадтского мира. Так на том конференция и кончилась. Нолькен заявил, что так как он имеет инструкцию действовать только при посредничестве французского посланника, то вступать одному лично в переговоры он не считает себя вправе, а потому и должен отправиться в Стокгольм за новыми инструкциями.
– В Стокгольм Нолькен не поедет, а остановится во Фридрихсгаме и оттуда станет переговариваться. Начнутся опять военные действия. Наш Кейт несколько раз поколотит шведов, у которых, собственно, и армии-то нет в Финляндии, а так, какой-то голодный, своевольный сброд, без запасов… За военными действиями примутся за переговоры о мире, а в конце концов мы все-таки уступим частичку Финляндии, разумеется, небольшую, – с уверенностью проговорил Алексей Петрович.
– Как? А наше решительное слово не уступать ни пяди земли? Уступать после побед? – удивился обер-гофмаршал.
– Да, после побед… Таково положение государств. Французский король против воли своей советует нам доброе. Что мы выигрываем, упорно удерживая теперь за собою клочок земли? Ровно ничего, так как этот клочок будет наш рано ли, поздно ли, – а проигрываем очень многое. За этот клочок мы сделаем из Швеции вечного себе врага, который ежечасно будет стеречь нас и вредить. Франция будет иметь открытый предлог к неприязненным отношениям и к интригам против нас в Стамбуле, а тут еще Шлезвиг… Мы свяжем себя, спутаемся, уединимся, попятимся назад, тогда как наша роль должна играться в Европе, должна быть решительною в борьбе центрального цивилизованного Запада между монархиями Габсбургов, Францией и Пруссией. Наше уединение допустит усиление Франции или Пруссии, а это впоследствии падет на нас непосильной тягой. Единственный доброжелатель наш в настоящее время – английское правительство, а Картерет, министр иностранных дел короля Георга, всеми силами настаивает на незначительной уступке Швеции.
– Зачем же и продолжать войну? Не лучше ли было бы договориться теперь же с Нолькеном?
– Говорить об этом, мой милый, мне не приходится: значило бы возбудить против себя старую русскую партию этих Румянцевых, Трубецких, Черкасских, Апраксиных и других. Погубил бы только себя.
Алексей Петрович замолчал, продолжая отмеривать диагональ кабинета, а Михаил Петрович пристально следил за ним, как будто выжидая для более важного разговора удобную минуту.
– Ну что вчера у государыни на вечернем собрании, много было? Весело? – спросил Алексей Петрович, наконец усаживаясь в кресло подле брата.
– Те же, что и прежде, обыкновенные; Лесток, великий князь, его гофмаршал Брюмер, Шетарди, новый английский посол Вейч, Шуваловы, Разумовский, Трубецкой, Черкасов Александр, Салтыков Петр, из посторонних был только Мориц Саксонский. Государыня с ним танцевала и была очень весела. Из дам тоже прежние… Анна Гавриловна Ягужинская… с дочерью… Ах да… брат… хотел переговорить с тобой.
– Об чем это? Опять об Ягужинской? – с видимой досадой спросил Алексей Петрович.
– Да, об ней… я… брат… решился… жениться…
– Послушай, брат, я высказывал прежде и теперь опять повторю все резоны. Если хочешь оставаться со мной в братской любви, так отбрось свою глупость, а не хочешь – поступай как знаешь, но я от тебя отдалюсь. Подумай и взвесь хорошенько. Положение наше при дворе шатко, мы не имеем партии, никаких корней, никакой ни в ком поддержки. Государыня хоть и назначила меня вице-канцлером, но, вероятно, временно, по необходимости, до того, как выищется способный из ее приближенных. С детства ей натолковали, что Бестужевы стояли за Лопухину против ее матери, что я сам помогал царевичу Алексею, а какая помощь, когда мне самому тогда было с небольшим лет двадцать! Видимо, она мне не доверяет:, недавно докладывали мы, Черкасский и я, о донесениях Антиоха Дмитриевича Кантемира из Парижа, в которых посланник предупреждает нас не доверяться любезности Шетарди, что версальский кабинет чрез своих агентов подкупает в Константинополе объявить нам войну. Что же, ты думаешь, – государыня? Рассердилась на наш доклад, покраснела и закричала: «Я не знаю, подкупают ли французские агенты в Константинополе, но знаю, что австрийский посланник получил триста тысяч золотых для подкупа моих министров». Намек прямо хотела сделать на меня, так как Черкасского по его богатству и по его глупости подозревать было бы смешно. Затем, имеем ли мы надежных доброжелателей в приближенных государыни? Ни в ком. Шуваловы и Воронцов сами за себя и к нам никакой приязни не питают. Разумовский не способен к государственным делам и помочь не может, хоть бы и хотел.
– Разумовский все может, брат, если захочет, – перебил Михаил Петрович, – государыня до того к нему расположена, что ждала только приезда его матери…
– Знаю… да от этого нам не легче. Зато, – продолжал Алексей Петрович, – если нет у нас доброжелателей, так много врагов. Первый и самый опасный – лейб-медик, подкупленный французским кабинетом. До сих пор мне удавалось уклониться, и он только сомневается в моих политических видах, но это продолжаться долго не может… Алексей Михайлович стар и скоро совсем уйдет… я должен буду высказаться, а как скоро Лесток узнает, что я иду ему поперек, конечно, употребит все свое влияние меня уничтожить; с ним же бороться, ты сам знаешь, трудно. Часто и теперь государыне докладываю, она согласна, казалось бы – дело кончено, нет, она отложит, а смотришь, на другой или на третий день говорит уж другое – значит, Лесток насказал. Он имеет доступ во внутренние покои во всякое время, и, как врач, к которому государыня привыкла и которому вверилась, он всегда имеет возможность сделать по-своему. Второй мой враг – двор наследника. Сам Петр Федорович предан интересам прусского короля до пожертвования для них лично своими и своего государства. Какой же он будет государь?! А эти Трубецкие, Румянцевы, не готовы ли они с жадностью проглотить меня?
И при таком-то положении, когда нам необходимо быть ежеминутно настороже, вдруг ты женишься на женщине, лично неприятной государыне, известной своею преданностью к брауншвейгцам и своей привязанностью к ссыльному брату Михаилу Гавриловичу Головкину! Анна Карловна[38]38
Анна Карловна Скавронская, любимая родственница Елизаветы Петровны по матери, была замужем за М. Л. Воронцевым.
[Закрыть] рассказывала мне, как государыня еще недавно вспоминала Анну Гавриловну, когда та приезжала к ней от имени Анны Леопольдовны с таким злорадством объявить волю правительницы насчет брака цесаревны с принцем Людвигом, братом принца Антона Брауншвейгского. Не любит, да и не может любить графиню Ягужинскую Елизавета Петровна. Теперь обсуди сам, не будет ли государыня смотреть подозрительно на тебя и на меня? Объяснять увлечением любви в твои годы было бы странно!
– Может быть, ты и прав, но делать нечего… отступиться не могу и не хочу… вчера вечером дело решилось.
– Ну, как хочешь, только прежних отношений между нами быть не может.
Каждый из братьев остался при своем решении, и взволнованный Михаил Петрович взялся за шляпу.
– Я прошу тебя, брат, исполнить мою, может быть, последнюю просьбу. На днях Лесток хвастался, будто он настоит на том, чтобы Брауншвейгскую фамилию заточили, а Юлиану подвергли пытке. Юлиана – девушка нежная, слабая; если ее будут пытать, она и не знаю чего наскажет. Заступись за нее. Об этом, говорят, передадут на обсуждение министров.
– Верно, просила тебя Анна Гавриловна?
– Она. Да разве для тебя, брат, не все равно? Ты вот сейчас говорил о нашем положении, говорил справедливо, я не возражал, но позволь и мне высказать несколько слов. При дворе мы непрочны, правда, но прочен ли сам двор?
– Откуда ты увидел опасность? – с усмешкой заметил Алексей Петрович. – Где ты нашел Минихов? Нет, брат, все опасные люди под снегом, не воротятся… Вся гвардия и армия за Елизавету.
– Да разве только Минихи да солдаты могут совершить переворот? Бывают великие дела и от маленьких людей… Разве не мог удаться замысел Турчанинова, а ведь таких людей, преданных бывшему правительству, много… Случись что-нибудь с государыней, все скорее пойдут к Ивану Антоновичу, чем к Петру Федоровичу.
Алексей Петрович задумался; он сам не любил великого князя, объявленного наследником, и предвидел много бед, если тот взойдет на престол.
– Так вот, видишь, брат, если мы разорвем всякие связи с брауншвейгцами, так и нам будет нехорошо, если они воротятся. Не лучше ли же нам не порывать совершенно отношений, разумеется, когда такие отношения не опасны и не вредны? Может быть, и Анна Гавриловна со временем окажется полезной. Если теперь оказать услугу брауншвейгцам, так они этой услуги никогда не забудут.
– Да, в твоих словах есть доля и правды, – проговорил Алексей Петрович, засновав опять отмеривать диагональ по кабинету, – да сделать я тут ничего не могу… Их стережет Лесток, а он и так уж нашептывает на ухо государыне о моей преданности брауншвейгцам и австрийскому дому. Конечно, я, как и прежде, буду стоять за высылку за границу правительницы и попытаюсь избавить Юлиану от пытки, но больше этого от меня не жди, и если женишься на Анне Гавриловне, так мы будем холодны… для людей. Борьба с Лестоком неизбежна, и борьба насмерть, Посмотрим, кто еще кого сломает!
Михаилу Петровичу больше ничего и не нужно было.
Он быстро поднялся с места и, обняв брата, вышел, а Алексей Петрович долго еще отмеривал кабинет, соображая и комбинируя, забыв даже и о своих каплях.
– Я забыл тебе передать приятную для тебя новость, – проговорил Михаил Петрович, просовывая голову в дверь, – третьего дня государыня сделалась нездорова и решилась попробовать твоих капель: они помогли, и она от них в восторге, всем теперь советует их употреблять.
– Кто тебе говорил?
– Сама Мавра Егоровна.
– Ну а что лейб-медик?
– Понятно!.. Говорит – случай и больше ничего.
IX
– Ах, Юлиана, зачем я не умерла! Без меня все вы были бы счастливее! – говорила бывшая правительница, принцесса Анна Леопольдовна, неизменному другу своему Юлиане Менгден.
Обе женщины сидели рядом на диване перед столиком в одной из комнат дома, где поместилась Брауншвейгская фамилия в Риге, по выбору сопровождавшего ее Василия Федоровича Салтыкова и по указанию коменданта крепости.
Принцессу нельзя было узнать, так изменилась она. Бледное личико правительницы, так недавно и ненадолго оживленное теплым лучом любви, осунулось и заострилось, глаза, засевшие глубоко в синие широкие каймы, горели странным блеском нервного напряжения, особенно резко выказывавшегося от общего истомленного вида; густые, темные волосы, за которыми стала было ухаживать в угоду любимому человеку, выбивались беспорядочными прядями из-под белого платка, обвязанного вокруг головы и почти не отделявшегося от молочного цвета лица; упругое, полное тело похудело до того, что вместо округлых форм выставлялись угловатости.
Да и было отчего похудеть принцессе! Кроме нравственных страданий, она только что вынесла серьезную, опасную болезнь. Вскоре по приезде в Ригу она выкинула четырехмесячного зародыша, и в продолжение нескольких недель жизнь ее находилась в крайней опасности.
Истощенная, без силы, без движений, пролежала она много долгих летних дней в своей убогой рижской спаленке безучастною ко всему и ко всем.
Живую, впечатлительную Юлиану эта безжизненность и безучастность поражали более острых физических страданий. В порывах беспредельной любви напрасно она бросалась к неподвижно лежавшему другу, страстно целуя ее лицо, руки, ноги, стараясь дыханием, всеми порами своего тела передать ощущение жизни. Юлиана подносила к кровати больной малюток – развенчанного императора Ивана и дочь, еще грудного ребенка, Екатерину, подзывала принца Антона, в надежде, что вид мужа, прежде, бывало, так раздражавшего нервы жены, произведет и теперь какое-нибудь ощущение. Напрасно…
На ласки друга принцесса открывала тусклые глаза, но ни тени ласковой улыбки не пробегало по засохшим и увядшим губам, на детей посмотрит бессознательно и безучастно, даже принц Антон не возбуждал прежнего раздражения, – напротив, на нем как будто долее останавливался взгляд ее, и не с прежнею холодностью.
Думать и соображать больная не могла; в ее памяти смутно проносились образы прошлого.
В ее памяти не проходил ни образ толстой, вечно брюзжавшей болтуньи-матери, одинаково (щедрой на слова и колотушки дочери, ни угрюмой, болезненной и сосредоточенной Анны Иоанновны, ни образ так нахально вломившегося в ее судьбу герцога Бирона, ни даже блестящего Линара, о котором прежде столько мечтала, но зато с ясностью, неотступно стояла перед ее постелью веселая кузина Елизавета с ее ребенком на руках, потом какая-то суматоха, сборы, какая-то странная, полутемная, незнакомая комната с закопченным потолком, в которой собраны все они, она, дети, Юлиана и даже похудевший, вдруг как-то проснувшийся, с красными заплаканными глазами принц Антон, потом дорога, ощущение холода, только бородатые лица, между которыми чаще всех мелькает лицо не то друга, не то врага, к которому все обращаются, у которого все они во власти, под строгим присмотром, но у которого сквозь суровость проглядывает временами теплое сострадание, потом приезд, болезнь…
Но принцессе только двадцать четыре года, организм ее не испорчен, и жизнь поборола смерть. Мало-помалу, тихо и незаметно стали возвращаться силы, ощущения стали принимать определенную форму, явилась потребность деятельности, желание бросить постель и прильнуть к окружающей жизни; нервы заработали сильнее и напряженнее. С возвращением сил она почувствовала, чего прежде никогда не чувствовала, – жажду свободы, воздуха и простора, именно того, чего лишилась в последнее время. Ей захотелось уйти куда-нибудь из дома, на улицу, дышать свежим воздухом, но при первой же попытке ее остановили под благовидным предлогом слабости сил, необходимости беречься. Она послушалась: потом, через несколько дней, когда почувствовала себя значительно крепче, она снова стала собираться, но тогда ей объявили, что свободный выход запрещен.
Из Москвы приезжали гонцы с нерадостными вестями; сначала привезли приказ не торопиться в дороге, потом остановиться и ждать в Риге дальнейших распоряжений и, наконец, держать под бдительным надзором, не позволять видеться никому из местных обывателей, запретить свободный выход из опасения будто бы доходящих до государыни каких-то неопределенных слухов о всеобщей симпатии населения к изгнанникам, отчего может возбудиться какая-нибудь неразумная попытка.
«И откуда бы могли доходить до Москвы такие слухи? – думал Василий Федорович, которому больно было смотреть на несчастное семейство и которому так хотелось бы скорее воротиться домой. – И чего бояться? Принцесса бессильная, немощная женщина, боится взглянуть лишний раз на дорогу; ожидать какого-нибудь конфуза от принца еще страннее, молочные дети, – только одна Юлиана бойко осматривает по сторонам да заводит разные разговоры со всеми, – с провожатым офицером, с солдатами, с латышскими крестьянами, но все эти разговоры – въявь и нет от них никакой опаски».
Даже и сам Василий Федорович любил поиграть в картишки в дурачки с Юлианой. Правда, вся сопровождающая команда полюбила своих пленников и старалась, насколько возможно, доставить им в дороге разные облегчения; правда, что, при въезде в Ригу, все улицы по пути были запружены толпившимися немцами, любопытными взглянуть на изгнанницу, не чуждую им по немецкой крови; правда, что зеваки, за теснотою улиц, влезали на заборы и на высокие крыши своих остроконечных домов; правда и то, что, Василий Федорович слышал стороною, будто Юлиана ведет иногда и неявные разговоры с московскими гонцами, да ведь взаперти заговоришь и с чертом. Однако ж, оберегая себя, Василий Федорович все-таки распорядился постановкой караула ко всем входам и выходам со строгим наказом никого не впускать и не выпускать без особенного своего разрешения.
Прошло девять месяцев пребывания брауншвейгцев в Риге, а об отправлении за границу не получалось никаких известий, даже, напротив, явились признаки все страшнее и грознее. Вместо обещанных ста тысяч на содержание императорского семейства отпускались только самые скудные средства, и привыкшие к роскоши пленники испытывали недостатки и нужду. Особенно эти недостатки легли тяжело, когда принцесса опасно занемогла после выкидыша и когда потребовались экстраординарные издержки на лечение, белье и более питательную пищу. Выздоровела, наконец, принцесса, а приготовлений к отъезду не замечалось.
– Зачем я не умерла! Без меня вы были бы счастливее, – тоскливо повторила Анна Леопольдовна, как повторяла она это в последнее время очень часто. – С детства я была в тягость и другим; кто ко мне бывал добр, тому я всегда приносила несчастье!
– Что за вздор, милая Анна, кому же ты принесла несчастье? – отозвалась Юлиана, подняв от работы свежее личико, которое успела состроить на веселый тон, и незаметно утерев непрошено набежавшую на глаза слезу.
– Кому? Всем: воспитательнице своей, Волынскому, мужу, Остерману, Головкину, тебе… да и кто из близких не пострадал за меня? Мне всегда было грустно, я как будто предчувствовала свое будущее.
– Полно, ты больна, оттого тебе и грустно, а, право, наша жизнь не очень скучна. Василий Федорович какой смешной! Какая походка! Заметила ты, как он подходит? Точно его кто толкает сзади, а гримасы его заметила? Я нарочно вчера целое утро училась, да не сумела! Офицер тоже такой славный, я все с ним болтаю, да и солдаты все хорошие люди…
– Все хорошие, везде хорошие люди, – задумчиво проговорила принцесса, – а жить тошно.
– Вовсе не тошно, – не соглашалась Юлиана. – Теперь мы отдохнем, потом поедем в Германию, а потом…
– Что потом?
– Потом… мало ли что может случиться! Может, и ты воротишься на свое место.
– Никогда! – высказала Анна Леопольдовна резко, с особенной энергией, не подходящей к ее обыкновенной мягкости. – Что бы ни случилось, но я никогда не возьмусь за то, к чему вовсе не рождена, что для меня бремя не по силам и мука. Я была бы счастлива только вдали от света, шума, интриг, в кругу немногих лиц, с которыми мне приятно, которых люблю. Я не завидую кузине Лизе, напротив, – мне жаль ее.
– О себе, милочка, самой судить нельзя, особенно тебе: ты слишком мало ценишь себя. Разве тебя не любили все, кто тебя знал? Разве были недовольны твоим правлением? А что солдаты… так их горсть, и голос их – не голос народа. Я положительно знаю, что теперь все – и в Петербурге, и в Москве – недовольны Елизаветой Петровной, все жалуются. Солдаты грабят, буянят.
– Да откуда ты, Юля, знаешь это под замком и в четырех стенах?
– Во-первых, ко мне Василий-Федорович милостив и не только позволяет выходить, разговаривать с офицерами, но даже и сам любит беседовать со мной; во-вторых, у меня есть смекалка, и из полуслова, какого-нибудь намека я догадываюсь обо многом. Креме того, у меня ведется и корреспонденция…
В соседней комнате послышались шаги, и по особенной манере в походке обе женщины догадались о предстоящем посещении своего охранителя Василия Федоровича Салтыкова.
Действительно, в походке Салтыкова была оригинальная особенность, напоминавшая первые шаги от толчков сзади. Притом же Василий Федорович немного заикался, а потому и в разговоре его лицевые мускулы, около рта, конвульсивно сокращаясь, производили довольно комическую гримасу, похожую на лукавое подмигивание детей.
– В-в-ваше в-высочество;., в-в-ваша светлость, – гримасничал Василий Федорович, расшаркиваясь перед принцессой и смущаясь.
Во всю дорогу он не мог решить весьма важного вопроса, как титуловать Анну Леопольдовну – как бывшую ли принцессу-правительницу, мать императора, или как простую немецкую княгиню. Этот вопрос не предвиделся и не разрешался инструкцией, а в практике возникло недоразумение: в качестве изгнанницы принцесса становилась простою немецкой княгинею, а между тем у нее не было отобрано ни Андреевского ордена, ни ордена св. Екатерины.
– Сию минуту с гонцом я получил повеление моей всемилостивейшей государыни, – продолжал, заикаясь, Василий Федорович, стараясь обходить, по возможности, вопрос о титулах.
Принцесса помертвела и поднялась с места.
– Я готова, граф, выслушать приказание вашей и моей государыни.
– Ее величество моя государыня приказывает мне немедленно же озаботиться отправлением в-в-вашего высочества… светлости… с супругом и детьми за границу.
– Наконец-то, слава Богу! – радостно и в один голос вскрикнули обе женщины.
– С условием только, – тише и с некоторым колебанием продолжал Василий Федорович, – с условием…
– Заранее согласна на все условия, – перебила Анна Леопольдовна, – лишь бы быть на свободе! Говорите скорее, граф, какие условия?
– В-в-ваша светлость вместе с супругом благоволите подписать присланное из Москвы обещание за вашего сына и прочих детей никогда не предъявлять никаких претензий на всероссийский престол.
– Ка-а-ак? Отречение?! За себя я готова подписать что угодно, но за детей я никаких обещаний не имею права давать.
– О ваших правах государыня не упоминает.
– Не упоминает?! – заговорила принцесса с тем раздражением, которое проявляется у людей застенчивых, когда внутреннее волнение вдруг стряхивает робость и прорывается судорожным криком. – Не упоминает?! А кто из нас имеет более прав? Если я до сих пор не предъявляла своих прав, то единственно по своей воле… Я и теперь не желаю короны… Юлиана, приведите сюда мужа и сына – я хочу отвечать в их присутствии.
Через несколько минут воротилась Юлиана с ребенком – императором Иваном на руках., а за нею вошел и принц Антон.
– Ее величество императрица Елизавета Петровна требует от нас подписать отречение от законных прав за наших детей. Скажите свое мнение, принц! – обратилась к мужу Анна Леопольдовна.
– Мне кажется… я… лицо постороннее, – бормотал принц, стараясь разгадать, какое именно, было мнение жены.
– Слышите, граф, и мой муж вам сказал то же самое. Мы относительно прав своих детей люди посторонние, а потому и не можем давать за них никаких обещаний. Отпишите об этом государыне.
Ребенок тоже, казалось, подтверждал слова матери. Протянув к ней пухленькие ручонки и широко раскрыв большие голубые глазки, он тянулся к ней как к самой верной охране, не подкупаемой никакими интересами. И с какой страстностью мать, выхватив из рук Юлианы своего сына, прижала его к груди и целовала!
Василий Федорович получил полный отказ, но не уходил; видно было, что его миссия не совсем еще кончена, что оставалось нечто, и нечто серьезное, отчего сильнее дергалось его рябоватое лицо и хлопотливее мигали глаза, как будто стараясь спровадить назад некстати выступившую гостью.
– Подумайте, в-в-ваше высочество! Я могу подождать несколько дней.
– Ни теперь, ни после и никогда не услышите другого ответа от матери!
– Подумайте, в-в-ваше высочество! – настаивал Василий Федорович. – Если вы согласитесь подписать отречение, то получите полную свободу на выезд за границу, где будет вам доставляться обещанное содержание; в противном же случае мне приказано не только остановить отправку, усилить караулы, но даже перевезти в крепость Динаминд, где далеко не будет тех удобств, какими пользуетесь здесь.
– Не только, граф, в Динаминд, но если б меня сослали в глубь Сибири, так и тогда я бы не дала другою ответа! – решительно заявила Анна Леопольдовна.
Затеям, почувствовав, что нервное возбуждение, поддерживавшее в ней необыкновенную энергию, переходит в спазматическое сжатие горла, она поспешила отпустить Василия Федоровича, за которым, понурив голову, поплелся и принц Антон.
Юлиана осталась с другом, но потом, как будто вспомнив о чем-то, бросилась к выходу и выпорхнула, громко хлопнув за собою дверью.
С Анной Леопольдовной сделался истерический припадок, разразившийся рыданиями; она плакала долго, плакала судорожно, до тех пор, пока не воротилась Юлиана, вся радостная, сияющая, с клочком бумажки в поднятой руке.
– Хорошие вести, милочка, хорошие вести! – говорила она в дверях. – Письмо от Анны Гавриловны!
И, подбежав к принцессе, на лету расцеловав ее заплаканные глаза, принялась читать:
«Ты не можешь представить, милая Юлиана, – писала Анна Гавриловна, – как я за тебя беспокоилась. Мне за наверное передавали, будто Лесток настаивает у государыни подвергнуть тебя допросу с пыткой о каких-то замыслах принцессы. Так как из наших никого нет приближенными, то я и обратилась с просьбой к обер-гофмаршалу, моему мужу теперь. Ах да, ты не знаешь еще этой новости! Вот уже почти два месяца, как я замужем за Михаилом Петровичем Бестужевым. Трудно было мне при дворе без поддержки, а обер-гофмаршал представлялся выгодной партией. Разумеется, о любви не могло быть и речи в мои годы, хотя женщина ни в какие годы не отказывается от любви. Впрочем, он, кажется, любил меня, когда ухаживал, любил, может быть, и в первое время после свадьбы, но натура у моего мужа непостоянная, да притом Бестужевы слишком заняты своим личным интересом, чтобы думать о других. Брат его, вице-канцлер, был очень недоволен нашей свадьбой или показывал только вид.
Тебе, бедняжке, верно, хочется знать, что делается при дворе?
Мы танцуем, веселимся, сколько хотим, а хотим мы веселиться всегда. Торжества, собрания, маскарады у нас почти каждый день, но все это не прежние собрания у нашей дорогой принцессы. Лесток по-прежнему всем управляет и наговаривает на вас; Бестужевы отстаивают; Алексею Петровичу удалось защитить тебя от розыска. Между Лестоком и вице-канцлером по этому случаю ссора. Отвечай мне с этим же человеком: он надежный. Напиши мне подробно, как вы живете, здорова ли принцесса, которой скажи, что я за нее всегда молюсь Богу.
Забыла передать еще новость: Шетарди уехал домой в Париж, уехал и маркиз Ботта в Петербург, а оттуда в Берлин. Маркиза жаль – он такой любезный и так любит принцессу. Скоро будем собираться в Петербург, откуда буду писать чаще. Забыла еще тебе сказать, о чем ты, верно, уж слышала, – у нас теперь еще другой двор, маленький дворик Петра Федоровича. Сам великий князь – лет шестнадцати, нелюбезный и несимпатичный».
– Как странно, Юлиана! – заметила принцесса, когда Юлиана кончила чтение, почти шепотом и с предварительным осмотром, нет ли кого за дверью, – Лестоку, мужу твоей родной сестры, я никогда никакого зла не сделала, напротив, была всегда внимательна и никогда не отказывала кузине в деньгах, хоть и знала, что они пойдут на игру этого француза, Бестужевых же отсылала от двора, а теперь Лесток интригует против меня, а защищает Бестужев!.. Напиши Анне, что я благодарю ее и Бестужевых.
– Хорошо, хорошо. Об этом негодяе и развратнике Лестоке мне, милочка, никогда не напоминай; он хоть и муж моей сестры, да хуже чужого, а теперь – отчего ты не подписала обещания?
– Отчего? Да как же я могу лишать сына того, что ему должно и будет принадлежать по праву?
– Полно, милая, разве может к чему-нибудь обязывать клочок бумажки, вытянутый насильно! При сыне точно так же оставались бы его права, а мы были бы на свободе.
– Может быть, так и следовало поступить, как ты говоришь, но я не могу кривить душой. Как же бы я могла не краснея говорить сыну, когда он будет понимать, внушать ему, если б я связала себя клятвой?
– Ах, Анна, Анна, губишь ты себя и нас, а между тем я еще больше люблю тебя!
Обе женщины ушли в спальню, заперлись там, и долго еще слышался их невнятный шепот о прежнем житье, о близких лицах, только в шепоте ни разу не упомянулось имени Линара. Обе старались забыть его.
На другой день, по приказу Василия Федоровича, стали собираться к переезду в Динаминд.








