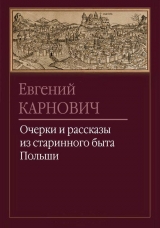
Текст книги "Очерки и рассказы из старинного быта Польши"
Автор книги: Евгений Карнович
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
С нетерпением ожидал теперь кастелян возврата своих посланных, подумывая о том, какого-то они привезут ему родственника. Уже несколько гонцов возвратились в замок и донесли кастеляну, что несмотря на все свои усилия они не могли отыскать его родственника и однофамильца. С горестью покачивал кастелян головою, выслушивая эти недобрые вести.
Однажды, когда он в глубокой задумчивости сидел у окна, посматривая на заходившее солнце и думая о том, что вскоре, подобно солнцу, угаснет и его знаменитый род, он увидел, что во двор замка въезжал какой-то бедный шляхтич на саврасой лошадке, запряжённой в простую бричку. Шляхтич смело подъехал к самому крыльцу замка, слез с брички и взошёл на крыльцо. Кастелян подивился такой бесцеремонности бедного гостя в доме богатого пана. Но удивление кастеляна обратилось в восторг, когда вбежавший к нему в комнату слуга громко крикнул:
– Пан Матеуш Буйницкий, вельможный родственник ясневельможного пана кастеляна, приехал к его милости, нашему пану!..
Обрадованный кастелян обезумел от неожиданной радости. Крепко он обнял и чуть не задушил в своих объятиях желанного гостя, которым кастелян дорожил теперь до такой степени, что тотчас же приказал снять с его брички колёса, разобрать гати, сломать мосты и перекопать дороги, опасаясь чтобы драгоценный гость не уехал как-нибудь из его замка, не порешив дела о продолжении его знаменитого рода.
Нужно ли говорить о том, как угощал кастелян пана Матеуша, который не мог надивиться великолепию замка, множеству слуг и громаде золотой и серебряной посуды. Бедный шляхтич не мог дать себе о своём положении никакого отчёта, когда кастелян, рассказав ему о всех своих богатствах, объявил, что все они перейдут к нему, если только он захочет жениться на одной из дочерей кастеляна. Всё что видел и слышал теперь пан Матеуш ему казалось каким-то волшебным сном, и он каждую минуту боялся, чтобы не пробудиться от этого чудесного сна.
– Староват он для моих дочерей, – думал про себя кастелян, смотря на своего соимённика, у которого во время неблизкой дороги успела уже показаться щетинисто-седоватая борода, – да это ничего, дети всё-таки будут!.. Ну, дорогой мой родственник, – сказал кастелян, обращаясь к пану Матеушу, – примемся теперь за дело и посмотрим от какой линии нашего рода явился ты на свет…
Шляхтич вынул из-за пазухи привезённые им бумаги и положил их на столе перед кастеляном, который стал перечитывать их с чрезвычайным любопытством. Пан Матеуш, не без сильного биения сердца, внимательно следил за каждым движением своего будущего тестя.
– А это, брат, что значит?.. – спросил вдруг суровым голосом кастелян, и с этими словами он грозно посмотрел на шляхтича. У последнего дрогнули от страха колени.
– Как же ты можешь происходить из того же рода Буйницких, из которого происхожу я, если мой род ещё за полтораста лет разделился на отрасли, которые теперь уже угасли, а между тем из этих бумаг видно, что предки твои за сто восемьдесят лет владели таким поместьем, которого никогда в нашем роде не бывало… Ты не нашей крови!.. – громко крикнул кастелян, швырнув в сторону все бумаги, представленные ему его соимёнником.
Оробевший пан Матеуш хотел было пуститься в объяснения.
– Гей, люди! – крикнул взбешённый кастелян, – взять этого самозванца и отсчитать ему пятьдесят батогов!..
Приказание пана было исполнено в точности. Все золотые мечты разлетелись в пыль и прах в голове бедного шляхтича…
Спустя несколько часов он тянулся обратно домой на своей саврасой лошадёнке, с трудом пробираясь по разобранным гатям, сломанным мостам и перерытым дорогам, проклиная и свою поездку и радушную встречу кастеляна, вследствие которой не было теперь проезда по дороге.
Забилось радостью сердце шляхтича, когда он наконец увидел вдалеке родную соломенную кровлю. Ему представилась его прежняя тихая жизнь – без роскоши, и без пышности, но зато не лишённая отрады и довольства, и теперь он даже порадовался в душе, что не состоялась его свадьба с дочерью надменного кастеляна.
– Что сделал бы со мной, – подумывал не без ужаса шляхтич, – если бы и у меня, как у него, не было сыновей?.. – и холодная дрожь пробирала пана Матеуша при этой мысли.
Заговорили все в околотке о приезде пана Буйницкого.
– Ну что? – спрашивали его при встрече соседи, – устроилось дело?..
– Нет не совсем ещё, – неохотно отзывался шляхтич, при грустных воспоминаниях об исходе своей поездки.
– А что же…
– Нашлись другие, ближайшие родственники… – бормотал себе под нос пан Матеуш.
– А много их?..
– Да я насчитал их до пятидесяти, – отвечал шляхтич, вспоминая невольно о числе батогов, отпущенных ему кастеляном…
Князь Иосиф Яблоновский
В Польше существуют две фамилии Яблоновских: одна герба Гржимала, другая герба Прусс III; родоначальники обеих фамилий делаются известными в начале XVI столетия; значение же в Польше той фамилии Яблоновских, к которой принадлежал князь Юзеф, начинается со второй половины XVII века, именно с великого коронного гетмана Станислава-Яна, женатого на Марианне Казановской и бывшего другом и сподвижником короля Яна Собеского.
Внук Станислава-Яна, Юзеф Яблоновский, обладавший огромными богатствами, известен как человек учёный и писатель, но несмотря на эти качества он отличался необыкновенными причудами. Юзеф Яблоновский родился в 1711 году, и 16 апреля 1743 года, находясь польским послом в Регенсбурге, получил от германского императора княжеское достоинство Римской Империи, а впоследствии и орден Золотого Руна. По смерти Августа III он записался в число кандидатов на польский престол, но встретил неудачу и, по избрании в короли Станислава Понятовского, уехал в Лейпциг и там посвящал своё время литературе и учёным изысканиям, учреждал премии и конкурсы, раздавал писателям золотые медали, печатал их сочинения на свой счёт, кормил, поил и одевал их; но соскучившись на чужбине он возвратился на родину и начал вести жизнь чудака.
По приезде в своё имение Ляховицы, он выстроил посредине большего пруда на острове великолепный дом, или, вернее сказать, огромный укреплённый замок. Ни одно окно этого замка не выходило на очаровательные окрестности Ляховиц, но все были обращены вовнутрь на двор. Подражая примеру владетельных особ, князь устроил в этом замке аудиенц-залу, окружил себя войском, образовал кругом себя многочисленный двор, в составе которого были шамбеляны, то есть камергеры, расставил пушки на валах кругом замка и жил там долгое время, не имея ни в ком надобности. Но крепко сжалось сердце Яблоновского, когда однажды он встретил необходимость обратиться с просьбою к бывшему своему сопернику тогдашнему королю Станиславу Понятовскому, и жестокий удар был нанесён самолюбию князя, когда просьба его осталась без исполнения. Раздражённый Яблоновский приказал вынести портрет короля из своих комнат и в наказание повесить его в караульне. Весть об этом дошла до короля, который наслышавшись о странностях Яблоновского, сделал вид, будто ничего не знает о нанесённом ему оскорблении. Тогда Яблоновский решился пойти на мировую и написал к королю письмо, вроде извинения в своём поступке. Король отвечал на письмо князя так: «Зная ваш ум и ваше сердце, я был уверен, что вы, размыслив о вашем поступке, верно сами будете жалеть о нём. Портрет мой, повешенный по приказанию вашему в караульне, мог замараться, поэтому посылаю вам новый, весьма похожий, для того, чтобы он напоминал вам меня.»
В сношениях своих с лицами, которые были ему обязаны, Яблоновский обнаруживал доброе сердце, не отказывал никому, кто просился к нему в службу, и если кто-нибудь из служивших у него навлекал на себя неудовольствие князя, то он запрещал виновному являться к нему иногда в продолжении нескольких дней, иногда недель, а иногда и месяцев, отправлял его на один из своих фольварков и сам записывал день высылки и срок, на который виновный был им удалён.
Между тем во всё это время он беспрестанно спрашивал окружавших его: «Что поделывает такой-то? вероятно он сильно тоскует? да, да, – прибавлял он, – какое ужасное наказание не видать моего лица!»
После определённого срока виновный был возвращаем в замок князя, выслушивал его наставления, после чего в награду за наказание, которое лишало высланного возможности видеть лице князя, он получал пару коней или несколько десятков червонцев. Такой способ взыскания вскоре всем понравился, и служившие при князе, сговорившись между собой, устраивали дело так, что все поочерёдно подвергались его гневу.
Но в припадках вспыльчивости князь наказывал так же свою любимою дочь Теофилию, посылал её под арест в караульню, где княжеская милиция стояла на часах; туда же отправлял он и тех из своих гостей, кто нарушал или установленный им этикет, или, по обычаю Речи Посполитой, позволял себе обходиться с ним за пани-брата.
Но самым торжественным днём, в который князь являлся во всём своём величии, был день его именин, день Св. Юзефа, или Иосифа; день этот был также днём хозяйственных распоряжений, потому что тогда отдавались имения в аренду, и получались с них доходы, и все жившие во владениях князя приезжали к нему с поклоном.
Вот как проходил этот день в Ляховицах: в двенадцать часов утра князь, богато одетый, украшенный всеми своими орденами, являлся в аудиенц-залу, окружённый шамбелянами, толпою прислуги и pontificaliter, как выражались поляки, садился на кресло, обитое бархатом, украшенное золотыми галунами и стоявшее на возвышении, под богатым балдахином. Шляхта и арендаторы, разрядившись кто как мог, собирались в этому времени в соседней зале и после доклада особо о каждом, они поодиночке допускались на аудиенцию к князю. Каждый из арендаторов обязан был принести следующую с него за аренду годовую плату в мешке, и три раза низко поклонившись князю и поздравив его с днём ангела в самых торжественных и напыщенных выражениях, клал к подножию его седалища мешок с деньгами. Исполнивший этот обряд отходил в сторону и оставался в аудиенц-зале до тех пор, пока все не оканчивали своих поздравлений князю.
От исполнения этого обряда не была освобождена и жена князя, рождённая княжна Воронецкая. По окончании поздравления князь-воевода (он был воевода новогрудский) в сопровождении всех прибывших к нему лиц отправлялся в каплицу, где торжественно с музыкой совершалась обедня, после чего он с тою же пышностью возвращался в свои покои.
Затем следовал обед. Князь, не желая стать и в этот день вровень с кем бы то ни было, уходил в кабинет, а в смежной с кабинетом огромной зале был приготовлен стол для гостей, к числу которых принадлежала и княгиня. В кабинете князь обедал один, и двери в залу были заперты; они отворялись настежь только в то время, когда приходила пора пить за здоровье именинника. Тогда при звуках музыки, громе пушек и кликах «виват!» гости входили в кабинет воеводы и пили за его здоровье, а он сам выпивал огромный кубок в честь своих гостей. После этого гости выходили, и двери кабинета плотно запирались за ними.
После обеда князь из принесённых ему дукатов делал свитки разной величины и, окончив эту работу, выходил другими дверьми кабинета в танцевальную залу. Гости, извещённые о его выходе, отправлялись туда же, конечно, навеселе, а князь, сидя у столика, заваленного свитками червонцев, раздавал их детям, говорившим ему поздравления, а они в знак благодарности целовали его руку.
После этой раздачи начинались танцы; в них принимал участие и сам воевода, если он был в хорошем расположении духа. Вечер заключался иллюминацией и фейерверком. Разумеется, что гости исподтишка посмеивались над чудаком-хозяином, но тем не менее на каждом шагу оказывали ему глубочайшее уважение, что весьма льстило его самолюбию.
Приближаясь к старости, воевода делался страннее и страннее; часто, раздевшись до рубашки, но зато надев все свои ордена и ленты, он прохаживался в комнате, увешанной зеркалами и рассуждал сам с собою о своём величии, уме, знатности и талантах.
Часто слышали, как он разговаривал сам с собою так: «Кто я такой? князь? – князь, но этого мало! Король польский? – король польский, но и этого мало! Епископ и кардинал? – епископ и кардинал, но и этого мало! Император римский? – император римский, но и этого мало! Папа? – папа, но и этого мало, да и вообще нет такого высокого сана, который бы соответствовал моему достоинству.»
Но раз случилось вот что: один из молодых прислужников князя, заметив подобные его рассуждения, забрался в камин, и когда воевода предложил себе вопрос: «Кто я?» раздался громкий и страшный голос: «Дурак, дурак и больше ничего!» Испуганный князь выскочил из замка во двор и увидев на крыше трубочиста, принял его за чёрта и закричал часовому: «Стреляй в этого чёрта, стреляй!» Часовой исполнил приказание воеводы, и несчастный трубочист был застрелен. Тогда обрадованный князь закричал: «Пусть же и черти научатся как должно уважать меня!»
Между тем прислужник успел выскочить из комнаты и сохранял это происшествие в тайне до самой смерти князя, для которого оно было поводом к увеличению его гордости, потому что он, несмотря на свой природный ум и образование, любил говорить о том, как он за неуважение к себе велел застрелить чёрта, и чрезвычайно сердился, если кто-нибудь выражал сомнение в истине этого рассказа.
Не смотря на свои странности, Яблоновский был любим всеми за его готовность помогать бедным и за уклонение от всяких тяжб и ссор. Он умер 1 марта 1777 г. Из сочинений его некоторые были напечатаны в Лейпциге, в том числе и «L'Empire des Sarmates», заслужившее в то время похвальные отзывы, но большая часть его учёных трудов осталась в рукописях.
Охота на вепря
Длинной и широкой полосой тянулись в былое время за левым берегом Вислы к подножьям Карпат Придольские леса. Проредели они потом, но всё же и теперь ещё представляют местами густую, а иногда и непроходимую чащу. Мало в глубине этой чащи просторных тропинок, только в недальнем расстоянии от опушки леса извиваются они как змейки, то перекрещиваясь, то расходясь во все стороны, то теряясь в густой траве и плотной поросли, то исчезая на выползших из земли и обнажённых корнях вековых дубов и сосен. Пуста и безмолвна эта лесная глубь, изредка разве заберётся в неё окольный крестьянин для поживы хворостом, да промелькнёт среди зелени и древесных стволов охотник, отыскивая лося или берлогу залёгшего вблизи медведя.
Если бы иной мечтатель захотел летнею порою побродить в этих лесах, то наверно их тишина, их свежесть и живописная их прелесть навеяли бы на него поэтические думы и чудные грёзы; но не легко бы выбрался он из чащи на какую-нибудь поляну, долго бы пришлось ему кружиться на одном и том же месте, и не раз попадался бы он в такую трущобу, в которой, быть может, до него никогда ещё не ступала нога человека.
В ином месте, среди этих вековых лесов, медленно струящийся ручей неожиданно пересекает и без того уже трудно проходимую тропинку. За ручьём на большом пространстве тянется вязкая топь, а между тем нет ни мостика, ни жёрдочки; идти дальше нельзя; а по свежесодранной коре с близстоящего дерева видно, что ещё очень недавно посетил это затишье медведь, которого, чего доброго, снова заманит сюда чутьё лакомой добычи.
Невольно, в тяжёлом раздумье останавливается здесь прохожий и дрожащим голосом шепчет усердную молитву, а вечерняя заря быстро гаснет на верхушках деревьев и подходящие украдкой сумерки наполняют лес сгущающеюся мглою. И вот в памяти одинокого прохожего оживают все страшные предания и все суеверные рассказы об этом таинственном боре. Счастлив он, если засветло успеет напасть на следы человека, который проходил прежде него в этой пуще и был так осторожен, что войдя в неё делал топором зарубки на деревьях, чтобы потом с помощью этих меток, выбраться из незнакомой дебри.
Изредка небольшая поляна пересекает сплошную гущу леса. Пустынно, но вместе с тем весело расстилается эта поляна зелёным ковром, испещрённым дикими цветами. И почему-то становится жаль помять ногою эту густую, высокую траву и эти простенькие цветы, выросшие в таком приволье. Иногда на этой поляне виднеется хата пасечника с несколькими десятками ульев, и тогда тишина нарушается жужжаньем пчёл, которое, долетая до слуха прохожего, кажется ему то гулом неопределённых, далёких звуков, то людским беспокойным говором.
Старый пасечник давным-давно поселился в этой глуши и полюбил её так сильно, что не променял бы её ни на блестящую Варшаву, ни на шумные города Польши, ни на суетливые её местечки, в которых, с утра до поздней ночи, снуют и копошатся евреи.
Несмотря на уединённую жизнь пасечника, его хорошо знают все окольные крестьяне; он слывёт у них за знахаря; и действительно, старику известны и вредные, и целебные силы лесных трав и кореньев; он заговаривает ужаленных змеями; он умеет за несколько дней угадать погоду и ненастье; он лечит всех и каждого от разных телесных недугов, а молодых и от сердечных зазноб. Старик твёрдо знает все извилистые тропинки леса и, как носится молва, может показать те места, где зарыты богатые клады. Но старик пасечник не говорлив, от него ничего не добьёшься.
В проредях леса виднеется иногда приземистый шалаш, который кажется служит скорее притоном дикому зверю, нежели убежищем человеку. В этом жалком шалаше поселился на летнюю пору забредший откуда-то еврей; он жжёт уголья и гонит смолу, он трудится без устали день и ночь, но недоверчивая молва отзывается о нём по-своему: одни рассказывают, что будто бы этот исхудалый бедняк оберегает несметные сокровища, запрятанные в лесу давным-давно, когда на польском престоле сидела Ядвига с Ягелло. Другие говорят, что он, забравшись в дремучий лес, подделывает монету. Бедняк знает недобрую молву; он и сам, как кажется, не доверяет никому и с трусливым беспокойством оглядывает тех, которые проходят мимо его шалаша.
Зимою снег заносит и лесные тропинки, и поляны; тяжёлыми хлопьями ложится он на раскидистые ветви сосен. В эту пору, чарующая летняя прелесть леса заменяется печальною сонливостью; здесь нет уже душистой свежести, здесь не слышно весёлого щебетанья птиц, и не носятся рои игривых мошек; всё притихло, всё мёртво, и только иногда на белой пелене снега виднеются следы пробежавшего волка.
Эти дремучие, пустынные леса служили не раз убежищем для окрестных жителей, когда военная гроза гремела над Польшей…
Невдалеке от этих лесов, лет полтораста тому назад, стоял на пригорке пышный замок воеводы Ильговского. Много видел на своём веку пан Ильговский, много повоевал он и побывал в разных землях и потом на старости лет приехал отдохнуть в своём наследственном замке, и любимой его забавой была охота в соседних, дремучих пущах.
Воевода был вдов и приближался к могиле с печальною мыслью, что со смертью его угаснет род Ильговских, так честно и доблестно служивший отчизне в течение нескольких веков.
Наступала осень, а с нею подходил и день св. Андрея, именины пана воеводы; набожный и богатый Ильговский всегда с большою торжественностью праздновал день своего патрона, а на этот раз ему почему-то хотелось отпраздновать свои именины с большею пышностью, нежели в прежние годы. К этому дню в замок воеводы должно было съехаться множество гостей из близких и далёких сторон; для них приготовлялись всевозможные запасы в несметном количестве. Не говоря уже об огромных бочках прадедовского венгерского вина и столетнего мёда, в замке воеводы, для угощения приезжих, было назначено: полусотня волов, стадо баранов, двадцать лосей, десять вепрей и бесчисленное количество зайцев и рыб. Ещё за три недели до съезда гостей, все окрестные мельницы принялись махать крыльями и шуметь колёсами, заготовляя муку, а из близких прудов и дальних озёр таскали беспрестанно невода, наполненные множеством разных рыб. Огромные залы замка, остававшиеся обыкновенно запертыми в течение целого года, были теперь отворены, и многочисленная прислуга хлопотливо сметала пыль, покрывавшую стены этих зал и насевшую толстым слоем на богатое их убранство, а также уставляла в столовой бочки с серебряными и даже золотыми обручами, наполненные дорогим венгерским. Кравчий воеводы, занимавшийся расстановкою бочек, особенно заботился о том, чтобы они были размещены по старшинству лет налитого в них вина.
За несколько дней до св. Андрея потянулись к замку со всех сторон щёгольские колымаги и простые тележки, наполненные родственниками, друзьями и знакомыми Ильговского. Число гостей не могло затруднить воеводу, богатые поместья которого раскидывались без перерыва в длину почти на тридцать в ширину слишком на двадцать миль, и у которого в подвале замка, за железными дверями и крепкими запорами, стояли бочонки серебра и золота.
Воевода, как мы сказали, был бездетен, и потому множество близких и дальних родных, и с отцовской, и с материнской, и даже с жениной стороны, с нетерпением выжидало кому-то он откажет своё громадное богатство. Все родственники наперерыв один перед другим увивались около старика, и каждый из них, рассчитывая быть единственным наследником, не без злобы посматривал на своих соперников.
Но кроме родственников, пан-воевода был окружён ещё толпой чужой ему молодёжи из шляхты; не одного уже голыша-шляхтича вывел он в люди или наделил достатком, за то, что тот служил ему верой и правдой и отличался удалью и отвагой. Но никто однако из всей молодёжи, жившей в замке богатого пана, не пользовался в такой степени его любовью, как пользовался ею пан Яцек Илинич, статный и красивый юноша. Для него было пустяки – вскочить на степного, неукротимого скакуна, и через несколько времени обратить его в трусливого барана; не стоило ему большего усилия вышибить из седла одним ударом своего противника; он считал забавой встречу с неприятелем втрое сильнейшим. Но не одной только удалью отличался пан Яцек, он и в мазурке был первый, и все заглядывались на него, когда он пускался в пляс, подхватив пригожую паненку.
Старик Илинич владел в соседстве с воеводой маленькой наследственной деревней. Когда Яцек подрос, Илинич привёл сына в замок Ильговского и, поклонившись старосте, сказал:
– Отдаю вашей вельможной милости моего сына, он у меня один только и есть. Малый он расторопный и не заставит краснеть за себя своего отца; но я человек небогатый, так пусть мой сын послужит ясновельможному пану и научится в его доме, как быть угодным Господу Богу и людям.
Молодой Илинич исполнил волю отца. Он верно служил своему покровителю, и пан-воевода полюбил его, как сына; окольная молодёжь сознавала превосходство Илинича и льнула к нему со всех сторон, а старики, посматривая на Яцека, нередко говаривали между собою: «Что если бы таких молодцов было у нас побольше?» Девушкам крепко нравился Яцек и, бывало, только лишь он замолвит с одной из них словечко или ловко прислужится, как она вся зардеет и сама не знает что и как отвечать ему.
Только родственники воеводы косо посматривали на его любимца и Бог весть что толковали о нём за глаза; но так как он вежливо обходился с ними, не хвастаясь перед ними особенным расположением к себе магната, то и они смягчались, спрашивая самих себя: «да за что нам сердиться на этого молодого человека?» И только мысль о том, что Илинич может быть их соперником по наследству, снова заставляла их хмурить лбы и почёсывать затылки.
Старик Ильговский до такой степени привязался к молодому Илиничу, что при нём одном веселел, смеялся и шутил, а без него большею частью был ворчлив и пасмурен. Иной, пожалуй, на месте Илинича, пользуясь таким удобным случаем, поворотил бы, – как говорят поляки, – воду к своей мельнице; но не такого десятка был Яцек. У него было одно желание – угодить своему покровителю, да полюбить от всей души какую-нибудь хорошенькую соседку, жениться на ней, вскормить деток, пожить, сколько приведёт Господь Бог, и потом улечься с миром на родном кладбище, под высоким крестом и тенистой осокорью.
Из числа гостей, прежде всех приехавших на именины воеводы и желавших ранним приездом выразить ему особенное уважение, были два брата каштеляничи [1]1
Дети каштеляна. Каштеляны в эту эпоху были сенаторами, и в военное время начальствовали над ополчением известного участка.
[Закрыть], Пешковские, и Ян Кмита, сын воеводы. Все они приходились Ильговскому не слишком далёкими родственниками. Они-то, как ходила молва в околотке, и старались больше всех о том, как бы каждому из них захватить в одиночку всё богатство Ильговского или, по крайней мере, только между собою поделить после него наследство, отстранив прочих соперников. Впрочем, не об одном этом думал Ян Кмита; он рассчитывал и на то ещё, что ему удастся понравиться восемнадцатилетней черноокой Ванде, дочери и богатой наследнице подкомория [2]2
Звание подкомория при дворе королевско-польском соответствовало званию камергера.
[Закрыть] Дембинского, одного из ближайших соседей воеводы.
– Недолго ждать, – думал Кмита, – по всей вероятности воевода скоро отправится на тот свет… Я сделаюсь богатым паном, посватаюсь к Ванде, а Илиничу скажу, без дальних околичностей: подальше отсюда, любезный, ищи себе невесты попроще; а на магнатскую дочь не заглядывайся!..
Ярко и безоблачно садилось солнце, обливая золотисто-багряным светом башни Придольского замка и предвещая на завтра хорошую погоду. Двор замка наполнялся всё более и более колымагами, так как гости беспрерывно съезжались к будущему имениннику. Хозяин стоял на пороге своего жилища и приветливо встречал приезжавших. Вот наконец в раззолоченной и обитой бархатом колымаге подкатил к крыльцу замка и пан-подкоморий Дембинский с своей дочерью, Вандой. Поцеловав в лоб воеводу, Ванда украдкой пробежала своими чёрными глазками по толпе молодёжи, окружавшей хозяина замка, но среди толпы не было того, кого она искала. Ванда заметно взгрустнула и призадумалась.
В это время на дворе замка послышались звуки охотничьих рогов. Обширные залы замка опустели в одно мгновенье, все кинулись в дверь, чтобы взглянуть на охотников, въезжавших в ворота замка. Впереди охотников ехал молодой Илинич на отличном гнедом коне, который фыркал и извивался под лихим наездником. Илинич был одет в зелёный чекмень, через плечо висел у него медный рог и барсучья торба, с разными принадлежностями для охоты. Винтовка была приторочена к седлу, а рядом с нею висел в кожаных ножнах большой охотничий кинжал.
Ильговский поспешил на встречу в Илиничу, который, в нескольких шагах от воеводы удержав коня, проворно соскочил с седла, отдал поводья конюху и сняв шапку поклонился хозяину и всем гостям. Потом быстро взглянул он на крыльцо, где стояли дамы и девицы и где он ожидал увидеть Ванду. Илинич не ошибся, и влюблённые поменялись друг с другом такими взглядами, которые были понятны ей и ему.
– Ну что же, Яцек, как ты сегодня охотился? – спросил, входя на крыльцо замка, воевода Илинича, который почтительно следовал за ним.
– Не хорошо, очень не хорошо, – грустно отвечал Илинич, – вепрь ушёл из наших рук, а что ещё хуже, он сильно изуродовал старика Бартоша и положил на месте четырёх гончих.
– Видно он хочет, чтоб я сам на старости лет пошёл против него? – проговорил Ильговский, и при воспоминании о былой удали ярко блеснули под седыми бровями большие, тёмно-серые глаза Ильговского, которые он пристально упёр в лицо Илиничу. Молодой человек в сильном смущении опустил свой взгляд, точно стыдясь какого-то непохвального поступка. – В моё время, продолжал старик, – высмеяли бы таких охотников, у которых из-под носу убегают вепри; право, им не дали бы нигде проходу.
Илинич растерялся в конец, но потом, оправившись немного, сказал твёрдым голосом:
– Правда ваша, ясновельможный; хоть я сегодня и удачно поохотился на оленей и зайцев, но жалею, что мне не пришлось положить к ногам вашей милости вепря; надеюсь однако, что если встречу его завтра, то он уже не уйдёт от меня…
– Ты мне это повторяешь, мой любезный, каждый день, – проговорил воевода, – а не забудь, однако, что через два дня будут мои именины. Приедет ко мне мой старый приятель, каштелян Завиходский, да и спросит: «Ну, приятель, а где же вепрь?» Ведь стыдно будет и тебе, и мне; право, нам обоим будет стыдно, да ещё как! Ей, господа! – кликнул громко пан Ильговский, – объявляю вам, что тот из вас, кто завтра убьёт в Придольской пуще вепря, будет наследником всего моего имения.
Шёпот изумления пробежал в толпе молодёжи, и многие из среды их как-то недоверчиво посмотрели на воеводу.
– Я говорю, – начал ещё громче староста, – что тот из вас, кто убьёт завтра вепря, будет наследником всего моего имения, и кроме того… – добавил пан Ильговский, взглянув пристально на Ванду.
Щёчки Ванды вспыхнули ярким румянцем, а молодой Илинич посмотрел на девушку так, как будто хотел сказать ей:
– Я знаю, Вандочка, о чём идёт дело; не бойся, никому не уступлю тебя.
Никто однако не ответил на вызов магната. Быть может, в толпе молодёжи и не было трусов, но никто не решался похвастаться заранее, что пойдёт на такое предприятие, которое большею частью оканчивалось смертью удальца, так как, при несовершенстве огнестрельного оружия, в ту пору легко было промахнуться по вепрю или только ранить рассвирепевшее животное, с которым после неудачного выстрела приходилось бороться в плотную.
– Что вы, господа, – заговорил с усмешкою воевода, – разве нет теперь в Польше таких молодцов, которые пошли бы на вепря даже так себе, из одной только охоты и без предложенной мною награды?
Молчание продолжалось, никто не хотел быть выскочкой.
– Что же, господа, вы молчите? – спросил пан Ильговский. – Кто же отправится завтра на вепря?
– Я!.. – резко проговорил пан Кмита, выступая вперёд.
– Мы!.. – закричали в один голос братья Пешковские.
– Я! Я! Я! – раздавалось отовсюду.
Кто бы в то время взглянул на Ванду, тот заметил бы её печаль и смущение. Опустив голову и свесив вниз на шёлковую ткань своего платья сложенные ручки, она стояла неподвижно, ожидая услышать голос Илинича; но Илинич стоял молча, скрестив на груди руки и думая о том, что кстати ли будет отнимать у других то имение, которое ему не принадлежит, и при том за такое дело, на какое он отважился бы и без всякой награды. Но вот он вспомнил недоговорённые слова воеводы и пристальный взгляд Ильговского на молодую девушку. Воспоминание это задело за живое Илинича, который теперь в душе боролся с самим собою.
– Что же ты, мой любезный Яцек, ничего не говоришь? – спросил воевода, подойдя к Илиничу и дружески положив руку на его богатырское плечо.
– Я не пойду завтра на охоту, – проговорил не совсем внятно Илинич.
– Это почему?.. – вскрикнул изумлённый старик, отскочив на несколько шагов от Илинича.
– Потому что там будет идти дело не о доставлении тебе удовольствия, а о наследстве после вашей милости.








