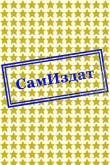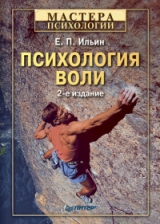
Текст книги "Психология воли"
Автор книги: Евгений Ильин
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
2. Поскольку, по Н. А. Бернштейну, проприорецепция не дает информации о скорости движения и ускорении, механизм сличения выполняет и эту функцию, т. е. работает как математическое устройство. На основании сравнения того, что было, и того, что есть, высчитывается скорость движения, а при повторении процесса сличения – и ускорение. Естественно, все это происходит без участия сознания человека, так что осознается лишь конечный результат – временнбя характеристика движения.
Отсюда следует: несмотря на то, что человек ориентируется при управлении и регуляции движений на выходные параметры работы аппарата сличения, сам процесс сличения, равно как и обработка информации, осуществляется без осознавания человеком этого механизма. На долю сознательного самоконтроля выпадает лишь оценка результатов сличения (есть рассогласование или нет) и внесение коррекций в программу действия.
Вообще, надо полагать, механизм сличения сложен, по крайней мере сложнее, чем сопоставление iw и sw по теории Н. А. Бернштейна. Во-первых, происходит сличение того, что есть, с тем, что было. Во-вторых, сопоставляется то, что есть, с тем, что должно быть. В-третьих, необходим механизм, который сравнивал бы информацию о результатах действия, поступающую по внешнему и внутреннему контурам регулирования (рис. 5.2). В-четвертых, поскольку аппараты сличения, как предполагают некоторые ученые, могут иметься на всех вертикальных уровнях регуляции движений, вероятно сопоставление результатов сличений на этих соподчиненных уровнях.
Рис. 5.2. Схема этапов сличения информации
Говоря о механизме сличения, не следует думать, что он всегда выдает безошибочные команды для управления и всегда фиксирует любые отклонения от заданных параметров действия. Это особенно нужно учитывать, когда сличение производится самим человеком, сознательно. Коррекция происходит только при больших отклонениях от величины заданного параметра. Это отчетливо проявляется при изучении точности воспроизведения амплитуд движений: если величина отклонений параметра меньше дифференциального порога, человек не различает изменений этого параметра и не корректирует движения.
Эффективность работы аппарата сличения определяется не только величиной отклонения параметра от заданного уровня, но и лимитом времени, необходимого для установления тождества или различия сигналов.Существенно и то, что поступающие с периферии (от рецепторов) сигналы в процессе их переработки в центральных нервных аппаратах искажаются и в аппарат сличения поступают сигналы, не соответствующие iw . В результате, объективно работая без ошибки, аппарат сличения посылает в задающий аппарат неверную информацию, вследствие чего на выходе всей системы управления, т. е. при осуществлении дозированного движения, возникают ошибки. Чтобы понять, как это происходит, рассмотрим реальный пример с воспроизведением человеком амплитуды движения (рис. 5.3).Рис. 5.3. Схема, показывающая причину возникновения ошибок при воспроизведении движений заданной амплитуды
Предположим, что человек совершает сгибание руки в локтевом суставе на 20 угловых градусов. Соответствующее этому движению сокращение мышц (1) посылает с проприорецепторов (2) в чувствительные двигательные центры (3) сигнал, соответствующий сгибанию руки на 20 градусов. Этот сигнал без существенных искажений поступает в аппарат оценивания (5). И здесь происходит самое важное. В зависимости от соотношения нервных процессов (превалирования возбуждения или торможения) поступивший сигнал либо недооценивается, либо переоценивается и в таком виде поступает в аппарат сличения (4), становясь эталоном для последующего воспроизведения (в рассматриваемом случае он превращается из 20 градусов в 23 градуса). Теперь, чтобы аппарат сличения выдал сигнал об отсутствии рассогласования, т. е. команду на прекращение воспроизведения, человек должен совершить движение с амплитудой, равной именно 23 градусам. Как только сигнал, идущий от проприорецепторов при воспроизводящем движении, станет равным эталону, в аппарате сличения возникнет сигнал об отсутствии рассогласования между запрограммированным и реальным движением. Получив этот сигнал, программирующий аппарат (6) пошлет тормозной сигнал к прекращению движения (7). В результате человек вместо 20 градусов воспроизведет движение, равное 23 градусам.
5.3. Произвольное внимание как инструмент самоконтроля
Получение информации по каналам «обратной связи» и ее анализ возможны только в том случае, если в процесс управления и регуляции включено произвольное внимание.
Как и непроизвольное внимание, произвольное внимание осуществляет контроль за объектом восприятия и мышления. Однако между ними есть различие: в случае непроизвольного внимания порядок обследования и критерии контроля определяются тем, что «подсказывает» объект своими бросающимися в глаза признаками; в произвольном же внимании выбор содержания, порядок обследования и способ контроля организуется человеком, исходя из объективных требований задачи.
Произвольное внимание возникает в процессе онтогенетического развития. Л. С. Выготский показал, что на ранних стадиях развития ребенка функция произвольного внимания разделена между ним и взрослым. Последний выделяет объект из среды, указывая на него жестом или обозначая его словом, а ребенок отвечает на этот сигнал, фиксируя объект взглядом или схватывая его. Указание на предмет жестом или словом принудительно организует внимание ребенка, меняя его направление. Когда у ребенка развивается собственная речь, он может сам назвать предмет, таким образом произвольно обособляя его от остальной среды. Функция анализа и контроля среды, которая раньше была разделена между ребенком и взрослым, становится для ребенка внутренней, целиком произвольной, выполняемой им самостоятельно.
Как и всякий произвольный акт, произвольное внимание тесно связано с речью: сначала с речевой инструкцией взрослых, а затем с собственной внутренней речью. Речевая инструкция, самоприказ способствуют не только переключению контроля с одного объекта на другой, но и удержанию внимания на контролируемом объекте длительное время – до завершения действия с ним.
По мнению П. Я. Гальперина [Гальперин, Кабыльницкая, 1974], внимание развивается как идеальная сокращенная и автоматизированная форма контроля. Вначале контроль, направленный на любое действие как на свой объект, только следует за действием. Затем контроль начинает все больше совпадать по времени с основным действием и, наконец, даже опережать его. В результате контроль распространяется и на предварительную ориентировку в ситуации (для получения обстановочной афферентации, по П. К. Анохину).
Надо отметить, что соотношение между вниманием и контролем обозначено П. Я. Гальпериным не совсем четко. С одной стороны, он утверждал, что внимание проистекает из контроля, а с другой стороны, отмечал, что пока контроль выполняется как развернутая предметная деятельность, он сам требует внимания. Контроль становится вниманием только тогда, когда реализуется как опережающее, сокращенное и автоматизированное действие. Разобраться здесь, что первично, а что вторично, исходя из этих высказываний П. Я. Гальперина, трудно.
Очевидно, что без произвольного внимания не может быть сознательного контроля за действиями, но внимание и контроль – это не одно и то же, и сводить контроль к вниманию нельзя. Внимание – это только инструмент контроля, а последний связан со сложной психической деятельностью, включающей в себя переработку информации, ее сличение с эталоном, оценку поступившей информации.
5.4. Самоконтроль и автоматизация действий
С сознательным самоконтролем связан и вопрос об «автоматизации» действий.
Еще У. Джемс писал, что при привычных действиях возникают ощущения, на которые мы обыкновенно не обращаем внимания; но несомненно, что они являются сознательными процессами, а не бессознательными «нервными токами», ибо при нарушении их обычного порядка мы тотчас обращаем на них внимание. В подтверждение он приводил цитату из работы К. Шнайдера:
«При ходьбе, даже когда наше внимание совершенно отвлечено, сомнительно, чтобы мы могли сохранить равновесие тела, если бы положение его вовсе не ощущалось нами, и чтобы мы могли выдвигать ногу вперед, не ощутив сделанного для этого движения и совершенно не осознав импульса, необходимого для того, чтобы пустить ее в ход. Процесс вязания кажется механическим: вязальщица может вязать и в то же время читать или вести оживленный разговор. Но если мы спросим ее, как это возможно, то едва ли она ответит, что вязание совершается само собой. Она скорее скажет, что сознает этот процесс, чувствует его в руках и знает, как именно нужно вязать, и поэтому, даже когда внимание отвлечено от работы, движения вязальщицы вызываются и регулируются ощущениями, которые сверх того ассоциированы между собой [т. е. связаны друг с другом в определенной последовательности. – Е. И. ]» [1991, с. 48].
Однако и позже ряд авторов (например, Е. И. Бойко [1957]) утверждали, что по мере совершенствования и закрепления двигательного действия (умения) оно начинает выполняться автоматически, т. е. непроизвольно и неосознаваемо, без участия сознательного самоконтроля. Следовательно, как только разучиваемое действие достигает стадии навыка, оно вроде бы перестает быть произвольным, т. е. становится автоматизмом.
Трудности в решении вопроса об осознаваемости навыков и их психофизиологических механизмах привели к тому, что изложение этого вопроса в ряде учебных пособий по психологии просто отсутствует. Однако его игнорирование не означает, что проблема исчезла. До сих пор можно встретить противопоставление навыка умению, как будто это разные психологические феномены. Вследствие этого даются даже разные рекомендации для формирования того и другого. Считается, что привлечение осознанного контроля за выполнением двигательного навыка приводит к его разрушению. Рассмотрим, насколько обоснованы эти суждения.
Является ли навык автоматизмом. Понятие «автоматизм» широко используется в невропатологии для обозначения действий, выполняемых больными с определенными мозговыми нарушениями машинально, непреднамеренно, полностью безотчетно. Больной, например, может чиркать спичками, но если его попросить зажечь спичку, чтобы прикурить, он ответит, что не умеет. Следовательно, истинные автоматизмы характеризуются отсутствием целесообразности, преднамеренности, смыслового контроля. Естественно, ничего подобного в двигательных навыках, выполняемых в процессе спортивной и трудовой деятельности, нет. Нет даже в том случае, когда при разучивании двигательного действия образуется динамический стереотип и сигналом к последующему движению может служить окончание предыдущего, а не «внутренняя» команда самого человека.
Однажды у известного математика Гильберта был званый вечер. После прихода одного из гостей мадам Гильберт отвела мужа в сторону и сказала ему: «Давид, пойди и смени галстук». Гильберт удалился. Прошел час, а он все не появлялся. Встревоженная хозяйка дома отправилась на поиски супруга и, заглянув в спальню, обнаружила его в постели. Тот крепко спал. Проснувшись, он вспомнил, что, сняв галстук, автоматически стал раздеваться дальше и, надев пижаму, лег в кровать.
Конечно, это могло случиться только потому, что математик переключил свои мысли на что-то другое, т. е. потерял контроль над целью своего прихода в спальню.
Однако в большинстве случаев этого не происходит, и образование динамического стереотипа не исключает присутствия сознательного управления и контроля за действиями, движениями, так как субъект сознательно ставит перед собой цель (двигательную задачу), сознательно рассматривает и выбирает способы ее достижения, сознательно дает себе команду к началу выполнения действия и осуществляет контроль за последовательностью выполняемых движений.
Н. Д. Левитов считал, что «только при ошибочном понимании навыка как целиком автоматизированного действия возможно противопоставление навыка умению» [1958, с. 265]. Он писал, что если действие детерминируется привычкой, опытом, но осуществляется, используя терминологию П. А. Шеварева, «правилосообразно», оно не перестает от этого быть волевым (произвольным).
Дискутируя с рядом авторов (в частности, с Е. И. Бойко) в конце 1950-х гг. по вопросу об осознаваемости и неосознаваемости навыка, А. Ц. Пуни решительно выступал против понимания навыка как автоматизма. Он писал, что «на различных фазах формирования навыка (по мере его автоматизации) заучиваемое действие не превращается в бессознательное, а по-иному осознается. Таким образом, несмотря на наличие неосознаваемости движений в заученных действиях, т. е. навыках, последние не перестают быть сознательными» [1959, с. 30].
В более поздние годы по этому же поводу А. Ц. Пуни и Е. Н. Сурков писали: «В процессе изучения любого спортивного действия важно, чтобы все движения, все закономерные связи между ними были усвоены сознательно. Это главное условие совершенной саморегуляции, выполнения действия впоследствии. Но, по мере овладения действием, по мере закрепления техники, число осознаваемых элементов уменьшается. Многие из них переходят на неосознаваемый уровень регулирования. В конце концов, когда действие заучено, навык сформирован, осознаваемыми остаются лишь так называемые опорные пункты. При целостном выполнении действия они служат контрольными в сознательной его регуляции, которая осуществляется с помощью словесных “рабочих формул”, произносимых спортсменом мысленно, “про себя”» [1984, с. 194].
По мере овладения действием исчезает надобность в выборе способа достижения цели, а контроль за действием может приобретать свернутый, редуцированный характер. Здесь я подхожу к центральному, с моей точки зрения, вопросу – как понимать феномен автоматизации действий, на что конкретно в каждый момент направляется сознание (внимание), что в данный момент осознается, контролируется на той стадии совершенства владения действием, которая обозначается как возникновение навыка?
Одни авторы считают, что сознание при автоматизации действий переключается на результат (И. С. Беритов [1961а, б]), а также на условия осуществления действия (В. Д. Мазниченко [1984]). Другие полагают, что сознательный контроль за действиями остается, но осуществляется он по-другому, с помощью обобщенного и схематизированного образа действия и его частей (А. В. Запорожец [1960], А. Ц. Пуни [1964]). Высказываются также мнения, что контроль за выполнением навыка осуществляется главным образом подсознательно (Е. И. Бойко [1957], П. И. Симонов [1987]). Наконец, утверждают: при автоматизации продолжают осознаваться лишь мышечно-осязательные ощущения, на основе которых и происходит управление действием, а смысловая коррекция исчезает, так как человеку нет уже надобности думать о том, что и как он будет делать (З. И. Ходжава [1960]).
Кроме того, спорят и по поводу отчетливости осознания действия: одни говорят о слабой, другие – об отчетливой осознаваемости контролируемых моментов действия.
Мне кажется, что спор этот не имеет принципиальной основы, ибо правы все спорящие стороны, при учете определенных условий выполнения действий.
Рассмотрим схему на рис. 5.4. В ней нашли отражение все четыре точки зрения на осознанный контроль за автоматизированным действием. Концентрированное внимание человека, выполняющего достаточно хорошо усвоенное действие, может быть направлено на контроль за ситуацией, на результат действия, на само действие. Причем контроль за действием бывает двух видов: смысловой (что и как делать) и перцептивный (что происходит с частями тела, каково напряжение мышц и т. д.). В свою очередь, перцептивный контроль можно разделить на внешний – зрительный, слуховой, тактильный и внутренний – проприорецептивный и вестибулярный.
Рис. 5.4. Схема, показывающая, на что может быть направлено концентрированное внимание при контроле человека за произвольным движением
Переключение концентрированного внимания в отдельные моменты выполнения действия то на одно, то на другое – с действия на ситуацию или на результат (т. е. с внутреннего контура управления на внешний), вызванное необходимостью, я обозначаю как динамический контроль . Н. А. Бернштейн писал, что при автоматизации движений сознание разгружается лишь от второстепенных по смыслу деталей коррекционного управления движениями; ведущие же, т. е. главные на данный момент смысловые коррекции, никогда не уходят из поля сознания человека, они переключаются с одного уровня регуляции движений на другие, в соответствии с тем, что в данный момент человек хочет контролировать. Поэтому при выполнении автоматизированных движений отчетливому осознаванию и осмыслению могут подвергаться как результат совершаемого действия, так и тактильно-мышечные и другие ощущения (но в одно и то же время не в одинаковой степени).
Чем проще действие, тем легче оно выпадает из смыслового контроля, который вследствие этого может переключаться на ситуацию, результат и даже на другие действия (речевые, мыслительные). Чем сложнее действие и чем оно важнее для достижения цели, тем в большей степени оно находится под смысловым контролем. Внешний перцептивный контроль за простым действием тоже может сниматься; недаром одним из признаков навыка считается переход контроля за действием с внешнего (зрительного) контура на внутренний (проприоцептивный, вестибулярный). Правда, в этом утверждении также имеются моменты, требующие уточнения и оговорок, о чем речь пойдет дальше. Однако внутренний перцептивный контроль за действием остается, но проявляется в другой форме: не динамической, при интенсивном внимании, а тонической.
Тонический контроль – это перцептивный контроль за действием, осуществляемый постоянно (как фон) при минимальной интенсивности внимания. Примеров такого контроля множество. Следящая его функция отчетливо проявляется при чтении: увлекшись ассоциациями, возникшими в связи с прочитанным, человек не прекращает чтение, а механически бегает глазами по строчкам, осуществляя считывание слов, но не очень или совсем не понимая смысла читаемого. Однако такое отвлечение длится недолго: человек «вдруг» спохватывается, что он отвлекся. Это-то «вдруг» и показывает, что при чтении был задействован тонический (фоновый) контроль за осуществлением двигательной программы действия – перевода взгляда с одной строчки на другую, так как, пока мы пребывали в задумчивости, взор наш оказался уже внизу страницы. Нарушение программы (слежение за текстом и понимание его) приводит к включению динамического контроля.
Очевидно, тонический контроль имеет место и при позных реакциях, осуществляемых с включением безусловных тонических позных рефлексов, а динамический контроль включается для них только тогда, когда устают мышцы спины, шеи, ног, т. е. когда требуется произвольно изменить характер управления работой мышц (расслабить мышцы, сменить позу).
Тонический контроль может быть не только проприорецептивным, но и зрительным (слежение за маршрутом ходьбы).
Исходя из наличия двух видов контроля, можно по-иному представить себе феномен автоматизации действий. У человека, только начавшего освоение действия, поступающая к нему информация (в том числе и сигналы с рецепторов) служит не только для контроля за действием, но и для анализа. Что контроль не тождествен анализу, ясно из семантики этих понятий. Контроль – это проверка выполнения программы действия, а анализ – это поиск необходимой информации, расчленение ее, выделение информационных единиц, сопоставление, т. е. сложная мыслительная деятельность (что и как надо делать, где и по какой причине произошел сбой, как исправить, скорректировать программу действия). Ясно, что даже с одной такой задачей начинающему обучаться справиться трудно. А здесь еще добавляется и перцептивный контроль, как внешний, так и внутренний. Естественно, в данной ситуации субъект вынужден относить динамический концентрированный контроль либо к какому-то одному из его видов (смысловому, зрительному, мышечному), либо замедлять движение, расчленять его, чтобы после перцептивного контроля осознать, что же получилось в результате предпринятого управления движениями. Необходимо учитывать еще и то, что точный образ действия у обучающегося еще не сложился, а поступающие с проприорецепторов сигналы слабо дифференцируются.
При разученном действии отпадает необходимость смыслового контроля и анализа в процессе выполнения двигательного действия (за исключением особо ответственных случаев). При этом, казалось бы, отпадает необходимость и в перцептивном контроле, раз не нужна больше информация для осмысливания действия. Однако здесь-то, как мне представляется, и проявляется ошибочность обычного понимания феномена автоматизации действий. Важно учитывать, что при выполнении любых действий человек всегда осуществляет функцию слежения за ними за счет перцептивного тонического контроля. Идя по улице и разговаривая с попутчиком, мы четко придерживаемся намеченного маршрута, хотя и не привлекаем для этого динамический контроль (концентрированное внимание). Неся сумку, мы постоянно ощущаем давление на кожу кисти и напряжение мышц руки, хотя и не придаем этим ощущениям особого значения. В этих ситуациях мы контролируем действия – это видно благодаря тому, что как только мы получаем новые ощущения (сигналы), свидетельствующие о не зависящих от нас изменениях программы действия (препятствие на дороге, мы оступились, порвалась ручка у сумки и ее центр тяжести изменился), мы сразу реагируем на эти изменения, привлекая концентрированное внимание.
О природе автоматизации управления действиями. Рассмотрение этого вопроса традиционно считается прерогативой физиологов. Не вдаваясь в детальное рассмотрение различных точек зрения на автоматизацию действий (И. С. Беритов [1961а]; Н. А. Бернштейн [1966]; Е. В. Гурьянов [1945]; З. И. Ходжава [1960] и др.), отмечу их существенный недостаток: автоматизация рассматривается как спонтанно совершающийся процесс, независимый от психологического анализа человеком успешности научения. С точки зрения физиолога, это биологически целесообразный и неизбежный процесс оптимизации управления движениями, а не сознательная и преднамеренная перестройка самим обучающимся управляющих воздействий на совершаемые операции и действия.
С моей точки зрения, автоматизация – это лишь приобретенная в результате обучения возможность отключения динамического контроля за действием, не предполагающая обязательность и неизбежность такого отключения (поэтому П. А. Рудик прав, когда говорит о том, что строго привязывать навыки к феномену автоматизации вовсе не обязательно).
В связи с этим возникают вопросы: если умелое действие (т. е. хорошо освоенное, выполняемое правильно, быстро и экономно) в силу каких-то обстоятельств (например, значимости соревновательной ситуации) осуществляется полностью под динамическим контролем, перестает ли оно быть навыком? И еще: является ли плохо освоенное, неумелое, но автоматизированное действие навыком? Ответы на эти вопросы зависят от той позиции, которую мы займем: если принимать традиционную точку зрения, считающую навыком любое автоматизированное действие (вспомним определение из учебников: навык – автоматизированное действие), то на оба вопроса ответ будет положительным; если же придерживаться позиции, что навык – это сформированное в соответствии с требуемым эталоном умение, а автоматизация – это один из возможных (но вовсе не обязательный) способов управления выученным действием (умением), то ответ на оба вопроса должен быть отрицательным.
Почему же человек на определенной стадии овладения действием получает такую возможность? Прежде всего потому, что он запомнил – что и в какой последовательности надо делать, и это свое знание перевел на перцептивную основу (кинетическую мелодию): о правильности выполнения действия он узнает из ощущений, которые начинает тонко различать (вспомним положение А. Ц. Пуни о выработке тонких и специфических для каждого вида спорта ощущений), и, зная эталонные характеристики этих ощущений, «считывает» их при тоническом контроле, как буквы и слова при чтении. Многократное успешное выполнение действия создает чувство уверенности в себе, в овладении действием, чувство уверенности в том, что и при последующих попытках действие будет выполнено правильно и как бы «само по себе», без концентрированного динамического контроля за ним. На эту чисто психологическую сторону формирования навыков обратил внимание Н. Д. Левитов. Кроме того, образующийся динамический стереотип (по И. П. Павлову) облегчает во многих случаях использование смыслового и концентрированного контроля за пусковыми импульсами (произвольными командами) для следующих друг за другом движений: ведь особенностью динамического стереотипа является то, что переход от одной части действия к другой осуществляется автоматически, так как окончание одного движения служит сигналом для начала следующего (что наблюдается в бытовых действиях человека; однако при значимости этих действий, например на соревнованиях, сознательный контроль за переходом от одного движения к другому вряд ли снимается).Поскольку автоматизация действий не связана с необходимостью анализа совершаемых действий, резко сокращается время выполнения самого действия. Сокращает это время и предвосхищение каждого последующего движения [А. В. Запорожец], когда последующее движение готовится во время окончания предыдущего. Это, наряду с уточнением образа действия и исключением из двигательного акта лишних движений, ненужных мышечных групп, создает слитность, плавность движения.Итак, с моей точки зрения, автоматизация действий состоит в появляющейся в результате упражнения, обучения, тренировки возможности (но не необходимости!) отключать динамический контроль (отчетливое осознавание) за выполнением действия или его частей (с переходом на тонический контроль) и направлять этот контроль на внешнюю ситуацию. Именно благодаря этому и появляется возможность разыгрывать тактические комбинации в спортивных играх, выражать эмоциональную сторону танца и т. д. Однако все это не делает выполнение навыка неосознанным, не приводит к тому, что произвольное действие переходит в разряд непроизвольных. Оно остается сознательным и преднамеренным, а следовательно – произвольным.
5.5. Самоконтроль поведения
Самоконтроль поведения составляет особый аспект изучения «силы воли», так как связан с контролированием своих поступков в различных трудных ситуациях, со сдерживанием своих желаний. Для того чтобы контролировать свои поступки, человек должен иметь определенное психическое развитие: обладать способностью думать о себе как о независимом самостоятельном существе, могущем управлять собственными действиями, иметь представления о нравственном поведении. Зачатки этого появляются уже на 2-м году жизни ребенка.
Первым признаком формирования самоконтроля является уступчивость ребенка. Она появляется в период от 12 до 18 месяцев, когда дети начинают показывать осведомленность о желаниях и ожиданиях родителей и добровольно подчиняются их просьбам и командам. Развитие уступчивости приводит к похожим на сознательные вербализации ребенка, когда он делает замечание самому себе, говоря «нет, нельзя» при желании, например, дотронуться до электрической розетки. В связи с этим нельзя не вспомнить Л. С. Выготского (1934–1986), писавшего, что дети не могут управлять своим поведением до тех пор, пока они не интегрируют нормы поведения, рассказанные им родителями, в свою собственную речь.
Наиболее отчетливо самоконтроль поведения проявляется детьми в ситуации отсроченного вознаграждения , т. е. в ожидании подходящего места и времени для удовлетворения своего желания ( противостояние искушению ). Способность ждать постоянно усиливается в период между 18 и 30 месяцами, при этом особенно отличаются этим дети, имеющие успехи в языковом развитии. Кроме того, самоконтроль развивается эффективнее у тех детей, матери которых сопереживают и оказывают поддержку своим малышам.
…
Стратегии самоконтроля . Уолтер Мишел [Walter Mishel, 1996] попытался выяснить, что же дети думают и говорят сами себе, чтобы противостоять искушению. В серии исследований дошкольникам показывали два вознаграждения: чрезвычайно желанное, которого им пришлось бы ждать, и менее желанное, которое они могли получить в любое время. Дошкольники, обладавшие наибольшим самоконтролем, использовали любые способы, чтобы отвлечь свое внимание от желанных объектов: закрывали глаза, пели и даже пытались заснуть!
…Мишел выяснил, что научение детей трансформировать стимул таким образом, чтобы компенсировать его раздражающее качество, способствует отсрочке удовлетворения. В одном из исследований дошкольников просили образно думать о конфетах как о «белых и пушистых облаках». Других детей попросили сконцентрировать внимание на их реальных качествах: «они сладкие и их можно жевать». Дети, находившиеся в условиях трансформации стимула и воображения, ждали гораздо дольше, прежде чем съели положенную награду.
Берк Л. Е.2006. С. 802
Дети младшего школьного возраста довольно успешны в нравственном саморегулировании , т. е. умении следить за своим поведением в соответствии с общественными нормами поведения. Большую роль при этом играют соотношения между эмоциональной и когнитивной сферами: у детей, у которых последняя доминирует, самоконтроль осуществляется успешнее.
Глава 6. Волевая регуляция и волевое усилие (самомобилизация)
6.1. Что такое «волевой человек»
В представлении большинства людей волевым является человек, умеющий (или обладающий способностью) преодолевать возникающие на пути достижения цели трудности, или же смелый, отважный, решительный, т. е. не теряющий самообладания в опасной ситуации. При этом предполагается, что если человек волевой, то он волевой во всем.
К сожалению, подобные взгляды высказываются и сейчас. Например, когда читаешь статью Ю. Б. Гиппенрейтер (2005), так и кажется, что советское время еще не кончилось (см. врезку). И социально зрелая личность приравнивается к «волевой» личности, хотя не каждая «волевая» личность является социально зрелой.
…
Если кратко сформулировать интуитивное понимание воли в широком смысле, то можно сказать, что волевой личностью мы называем человека, который успешно реализует свои высокие, социально значимые мотивы.