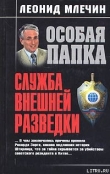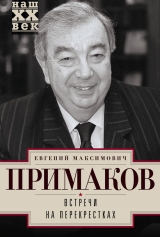
Текст книги "Встречи на перекрестках"
Автор книги: Евгений Примаков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
В стремлении преодолеть догматическое мышление, навязываемое официальной идеологией, большую роль сыграл Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО).
Второй мой приход в ИМЭМО состоялся после того, как, будучи корреспондентом «Правды» на Ближнем Востоке, я «умудрился» защитить докторскую диссертацию, тоже по экономике. «Главным» в «Правде» в то время был М.В. Зимянин[5]5
Я многим обязан ему по-человечески. Например, хотя бы тем, что он категорически воспротивился уже подготовленной редакцией моей командировке на юг Аравии, в партизанский отряд в Дофаре, который вел вооруженную борьбу против англичан, все еще правивших в Адене. «Это слишком опасно, я дорожу тобой» – такие слова Михаила Васильевича меня тронули до глубины души, хотя по-журналистски ох как хотелось дать материал в «Правду» с места боев, тем более что очень хорошо были встречены читателями «Правды» – тогда она издавалась тиражом 11 млн экземпляров – мои репортажи из иракского Курдистана.
[Закрыть].
Он отнюдь не был сторонником моей научной деятельности, предоставив мне перед защитой отпуск на две недели без сохранения содержания. Но я его не виню в этом. Может быть, он знал, что перед защитой, которая проходила в ИМЭМО, я получил предложение от Н.Н. Иноземцева, в то время уже назначенного директором института после смерти А.А. Арзуманяна, перейти на работу его первым заместителем. Аналогичное предложение мне сделал Г.А. Арбатов – директор нового, отпочковавшегося от ИМЭМО Института США и Канады.
В это время Иноземцев и Арбатов очень тесно работали с генеральным секретарем ЦК Л.И. Брежневым. В группу, готовившую материалы пленумов, съездов партии, выступлений Брежнева, входили и другие, в том числе Зимянин. От Иноземцева и Арбатова я знал (вопреки тому, что пишут во многих СМИ, ни разу в то время не участвовал в таких группах, обычно собиравшихся на загородных дачах, и ни разу не виделся с Л.И. Брежневым), что между составителями этих материалов не было единства. К «прогрессистам», отстаивавшим необходимость отойти хотя бы от самых очевидных нежизненных догм, приблизиться к реальному пониманию действительности и внутри страны, и в международной жизни, принадлежали Иноземцев, Арбатов, Бовин и некоторые другие. К противоположной стороне относился Зимянин, несмотря на то что его нельзя было, во всяком случае однозначно, отнести к самому консервативному крылу партии. Однако, как мне кажется, он обладал большим «партийным опытом», чем два академика, и четко придерживался табу на любое инакомыслие.
Характерно, что обе группы выходили и сближались с различными людьми в высшем руководстве партии. Тогда уже Иноземцев, например, с воодушевлением рассказывал мне, как отреагировал М.С. Горбачев – в то время секретарь ЦК – на замечания некоторых членов политбюро, потребовавших исключить из готовившейся речи генсека ссылку на необходимость дать большую хозяйственную самостоятельность колхозам.
– Если это не пройдет, – с восторгом пересказал Иноземцев слова Горбачева, – тогда народ сам все равно решит эту задачу.
Я понимал, что дискуссии в рабочих группах идут нешуточные и они давали определенный простор для новых идей. Но, опять-таки по словам Иноземцева, Брежнев, который был настроен на серьезную реформаторскую деятельность в партии и в обществе, коренным образом изменился после 1968 года – так его испугала Пражская весна.
– Николай, мы же с тобой фронтовики, неужели нам занимать мужества? – говорил он, прогуливаясь вдвоем с Иноземцевым во время работы на даче. За этим следовали рассуждения о необходимости радикальнейших перемен в стране, партии, кадрах. Такие разговоры прекратились после того, как советские танки вошли в Прагу. А потом к этому прибавились недомогание Брежнева и старческий склероз…
С постоянным нахождением Иноземцева в «брежневских группах», очевидно, было связано и сделанное мне предложение стать его первым замом в ИМЭМО – я оставался им с 1970 по 1977 год. Все серьезные, особенно кадровые, вопросы я решал только с Николаем Николаевичем, но повседневно практически руководил институтом.
Третий раз пришел в ИМЭМО уже в 1985 году, сменив на посту директора А.Н. Яковлева, который перешел на работу в ЦК заведующим отделом пропаганды. На моей кандидатуре настаивал Александр Николаевич.
Я переходил с директорской должности в Институте востоковедения – тоже очень важного академического института, не уступающего по размерам ИМЭМО. И все-таки ИМЭМО был значимее в плане выработки новых идей, новых подходов, нового отношения к процессам, происходящим в мире. Да и занимал особое место среди других академических институтов гуманитарного профиля своей близостью к практике, к структурам, вырабатывавшим политическую линию.
ИМЭМО возник после XX съезда партии в эпоху «оттепели» как преемник закрытого при Сталине Института мирового хозяйства и мировой политики, руководимого академиком Е.С. Варгой. До сих пор непонятно, как этот известный ученый, да еще с коминтерновским прошлым, осмелившийся писать о новых качествах капитализма, точнее, об «организованном капитализме», включающем в себя элементы плановости, и раскритикованный за это в пух и прах «самим», мог избежать ареста и умер своей смертью в 1964 году.
Когорта крупных научных исследователей – соратников Евгения Самуиловича Варги влилась в ИМЭМО в 1956 году. Заслуга его первого директора, Анушавана Агафоновича Арзуманяна, заключалась не только в том, что он широко открыл двери для этой плеяды прекрасных ученых и привлек для работы в институт целый ряд талантливых молодых специалистов, в том числе с «подпорченными» для того времени биографиями, но и создал атмосферу творческого поиска. В 50-х и 60-х годах ему в немалой степени помогало то, что он и А.И. Микоян были женаты на родных сестрах, и в этих условиях партийным реакционерам было трудно помешать развернуться институту как учреждению новаторскому, творческому.
Арзуманян ненавидел Сталина. Помню, во время моего первого пребывания в институте в 1962 году я был определен в группу по национально-освободительному движению, возглавляемую прекрасным ученым и человеком, к сожалению так рано ушедшим из этой жизни, В.Л. Тягуненко. Мы писали тезисы для ЦК, которые потом были опубликованы как интервью Хрущева. Арзуманян «завернул» первый вариант со словами: «Вы замаскированно используете сталинскую методику в определении разницы между буржуазной и национально-освободительной революциями. Это неприемлемо».
Разглядел все-таки…
По-настоящему ИМЭМО расцвел в те годы, когда его директором стал академик Николай Николаевич Иноземцев. У меня к нему особые чувства. Нас связывали, помимо служебных, дружеские и, что особенно важно, доверительные отношения. Это был, несомненно, выдающийся человек – образованный, глубокий, интеллигентный, смелый, – прошел всю войну офицером-артиллеристом, получив целый ряд боевых наград, и в то же время легкоранимый, главным образом тогда, когда приходилось решительно отбивать атаки своих личных противников, а таких было немало – злобных, завистливых.
Трудно было рассчитывать на то, что «старая гвардия» потеснится и уступит место тем, кто шел изнутри к обновлению системы. Противники ИМЭМО начали атаку на Иноземцева. Это было уже в то время, когда я стал директором Института востоковедения, но, что совершенно естественно, переживал за своих товарищей. Провокаторы пытались воспользоваться тем, что два молодых сотрудника ИМЭМО были арестованы по обвинению в связи с западной разведкой (позже обвинение не подтвердилось и они были с извинениями освобождены), затем последовали доносы на самого Иноземцева. В этой кампании активно участвовал член политбюро и секретарь Московского комитета партии Гришин, а также отдел науки ЦК. Подробности мне рассказал Ник Ник, которого я навестил в больнице на Мичуринском проспекте – у него резко ухудшилось здоровье. В.Н. Шенаев, в то время секретарь парткома ИМЭМО, несмотря на прямые угрозы высоких партийных боссов, занял жесткую, непримиримую позицию в защиту института и его директора. Особенно злило тех, кто занес руку над ИМЭМО, что в нем не оказалось предателей. Изнутри взорвать институт не удалось.
Все близкие советовали Ник Нику пойти к Брежневу – он наотрез отказывался. Тогда вместо него это сделали Арбатов и Бовин. Брежнев при них позвонил Гришину, и тот, будучи председателем специально созданной «по делу ИМЭМО» комиссии, не на шутку перепугавшись, на вопрос генсека, что там делается с Иноземцевым и его институтом, ответил: «Ничего об этом не знаю, Леонид Ильич, разберусь незамедлительно». Это означало конец открытой атаки. Противники нового затаились…
Нельзя не сказать и о том, что в самые застойные годы настоящим «островом свободомыслия» была Академия наук СССР. Парадокс заключался в том, что преобладающая часть ученых-естественников – а они задавали тон в академии – была так или иначе, прямо или косвенно связана с «оборонкой». Казалось бы, эта среда меньше всего подходила для политического протеста, больше всего должна была бы подчиняться диктуемой сверху дисциплине. А получилось совсем не так. Я был избран членом-корреспондентом АН СССР в 1974 году, а в 1979-м – академиком. Естественно, посещал все общие собрания, и на моих глазах часто разворачивались события, отнюдь не характерные для тех времен. Помню, как все руководство чуть ли не «на ушах стояло», чтобы провести в академики заведующего отделом науки ЦК Трапезникова – одного из близких Брежневу людей. На отделении истории его избрали, а на общем собрании – прокатили. Не помогли ни заранее проведенная работа, ни выступления, в том числе и некоторых уважаемых академиков, с призывом избрать Трапезникова. Говорилось не только о его «научных достижениях», во что мало кто верил, – подкупающе звучали слова о том, как много пользы академия получает от его поддержки, что, очевидно, было правдой. Но при тайном голосовании все-таки провалили.
Срабатывал синдром негативного отношения, может быть даже не всегда справедливого, ученых к партийным и советским функционерам, претендующим на членство в академии. Еще в члены-корреспонденты могли кое-кого пропустить, но в академики – как правило, нет. Вспоминаю общее собрание, на котором голосовалась в действительные члены АН СССР кандидатура члена-корреспондента министра высшего образования Елютина. Представлявший его академик – секретарь отделения – охарактеризовал Елютина как крупного ученого. Председательствующий, президент академии, спросил, есть ли замечания. Из зала потянулась рука и был задан вопрос: «Что сделал Елютин за тот период, который его отделяет от «членкорства», то есть за четыре года?» В ответ был приведен целый перечень работ, написанных претендентом и самостоятельно, и в соавторстве, и научным коллективом под его руководством. После этого академик, задавший вопрос, вышел на трибуну и сказал: «Если Елютин так много успел сделать по научной части, то, следовательно, он плохо работал министром – у него попросту на это не могло хватить времени. Или наоборот». В результате при тайном голосовании Елютина прокатили.
Были и другие причины отказа в избрании. Помню, как при обсуждении кандидатуры одного почтенного и достаточно известного юриста взял слово академик Глушко – дважды Герой Социалистического Труда, один из крупнейших конструкторов-ракетчиков, – и зачитал несколько выдержек из работ этого юриста – и старых, и не очень старых, – где тот высказывался в пользу так называемой презумпции виновности, то есть достаточности самопризнания для обвинения. Академик Глушко не только провел параллель этой позиции с трудами А.Я. Вышинского, но и спросил, где работал соискатель в 1937 году. Последовавший ответ – «в генеральной прокуратуре» – был достаточным. Итоги голосования не смогли изменить объяснения коллег-юристов, что кандидат был тогда на низших ролях и никаких связей с генеральным прокурором Вышинским, прославившимся во время процессов 1937–1938 годов, у него не было. Проявилась неприязнь, а подчас и прямая ненависть к тем, кто так или иначе ассоциировался с массовыми репрессиями. Картина была бы неполной, если не упомянуть, что репрессии не обошли и многих ученых, конструкторов, увешанных теперь орденами, тех, кто сидел в зале и голосовал.
Характерна и эпопея с А.Д. Сахаровым. Несмотря на то что некоторые коллеги подписались под письмом в «Правду», его осуждающим[6]6
Президент академии М.В. Келдыш сказал нам, нескольким представителям общественных дисциплин, которых он пригласил для составления ответа американским ученым, выразившим протест против гонений на Сахарова: «Под письмом в «Правду» подписались не все, кому это было предложено. И вы, пожалуйста, не переусердствуйте. Сахаров – крупнейший ученый и сделал очень много для страны. Его высказывания и занятая им позиция – во многом не его личная вина». Академик Келдыш, а он мог себе это позволить, возмущенно говорил о том, что высшие руководители партии и государства с Сахаровым вообще не встречались, а должны были это делать с «такой величиной» регулярно и объяснять нашу линию, нашу политику, реальное положение дел и в стране и на международной арене.
[Закрыть], при всем давлении сверху ни разу даже не пытались поставить вопрос об исключении А.Д. Сахарова из состава академии. Не было никаких сомнений, что тайное голосование по этому вопросу с треском бы провалилось.
Когда уже при Горбачеве Сахаров вернулся в Москву из своего вынужденного пребывания в Нижнем Новгороде (тогда г. Горький), все в академии, включая, я уверен, и «подписантов», вздохнули с глубоким облегчением.
Против «кривых зеркал»Стараниями многих теоретиков партии марксизм, научный характер которого бесспорен, был превращен в своеобразную религию, заявлен как единственно правильное научное направление – все другие относились к «ереси». Утверждалось, что он универсален, сохраняя без всякой адаптации к меняющейся действительности правоту всех своих выводов, – попытки оспорить провозглашались отступничеством. Наконец, «классики» марксизма обожествлялись, превращались, по сути, в иконы. Не мешало бы добавить, что это органично сочеталось с гонениями на истинные религиозные воззрения людей.
Характерно, что все это оставалось неизменным даже после публикации материалов о миллионах невинных жертв сталинских репрессий. Не могу сказать, что радикальный пересмотр отношения к Сталину произошел одномоментно и безболезненно. Нельзя недооценивать просталинских настроений, имевших широчайшее распространение в обществе, особенно после войны. Лишь единицы (естественно, из сохранившихся после репрессий) думали иначе. Одной из таких была моя мать – Анна Яковлевна, вокруг которой «попадали» все близкие и друзья в 1937 году, «уединившаяся» на тбилисском прядильно-трикотажном комбинате и проработавшая там врачом бессменно последние тридцать пять лет своей жизни.
Помню, как, будучи еще студентом, в самом начале 50-х годов я приехал на каникулы в Тбилиси и разговорился с матерью на «сталинскую тему». Был взбешен ее словами о том, что Сталин – негодяй, примитивный душегуб. «Да как ты смеешь, ты хоть что-нибудь читала из трудов этого «примитивного человека»!» – полез я. Меня сразил ее спокойный ответ: «И читать не буду, а ты пойди и донеси – он это любит». Я покрылся потом и не возвращался больше к этой теме в беседах с матерью никогда.
Но после XX съезда отношение к Сталину менялось. И тем более удивительно, когда часть КПРФ, претендующая на одно из лидирующих положений в обществе, не переосмысливала догматические коммунистические постулаты, а если и делала это, то как бы мимоходом. Однако любому объективно настроенному наблюдателю было понятно, что будущее у этой партии может быть в случае признания ею ценностей социал-демократии.
Сегодня, с расстояния пройденных лет, когда думаешь о том, какие идеи приходилось нам доказывать, пробивать через сопротивление, мягко говоря, консервативных элементов, иногда становится просто смешно. А тогда было совсем не до смеха – и еще задолго до массированной атаки на ИМЭМО, о чем писал выше.
Ну хотя бы такой курьезный случай из практики 70-х годов. ИМЭМО всерьез занимался долгосрочными прогнозами развития мировой экономики. Различные сценарии публиковались в нашем журнале. Один из его читателей – отставной генерал НКВД – пожаловался в ЦК на то, что во всех этих сценариях, содержащих прогнозные оценки до 2000 года, фигурирует «еще не отправленный на историческую свалку» капиталистический мир. Нас обвинили в ревизионизме, и пришлось по этому поводу писать объяснительную записку в отдел науки ЦК.
А сколько сил ушло, например, на то, чтобы доказать очевидное для нас, но не во всем совпадавшее с работами классиков марксизма-ленинизма положение о существовании универсальных законов в отношении производительных сил вне зависимости от характера производственных отношений. Иными словами, что существует ряд одинаковых закономерностей независимо от того, где развивается производство – в социалистическом или капиталистическом обществе. А ведь противники этого очевидного положения практически захлопывали дверь для использования у нас опыта западных стран.
Нас обуревала гигантомания. Мы строили огромные заводы – чуть ли не единственных производителей той или иной продукции в стране, считая, что выигрываем на производительности труда, и ставили себе в заслугу отсутствие конкуренции, в то время как на Западе давно уже поняли преимущества мелкого и среднего производства, рассредоточенного по всей стране. Или многоотраслевая структура управления – около 95 процентов корпораций в США многоотраслевые, а это высшая форма организации производства, над которой уже не стоят ни министерства, ни ведомства. Такая же картина в Японии, Западной Европе. Или создание всех условий, вплоть до организации безлюдных третьих смен, для того, чтобы быстрее амортизировать передовое и дорогостоящее оборудование. Или создание «венчурных» предприятий, призванных решить определенную задачу на острие научно-технического прогресса. Или оптимальная организация сбыта и утилизации сельскохозяйственной продукции. Этот список, конечно, можно было бы продолжать и продолжать.
Эти и многие другие проблемы становились содержанием записок, направляемых руководству страны. Щедро снабжал ими ИМЭМО и рабочие группы при Брежневе, а во времена Горбачева прорывался с такими записками на самый верх.
Но часто это происходило поистине в карикатурных формах. Уже в годы перестройки Николай Иванович Рыжков, тогдашний председатель Совета министров, понимая важность производственно-организационного преобразования подшипниковой промышленности для развития отечественного машиностроения, собрал у себя широкое совещание производственников и ученых. Мы в ИМЭМО серьезно подготовились к этой встрече, изучив опыт Швеции, ФРГ, провели несколько обсуждений, вовлекли в работу способных экономистов, в частности А.А. Дынкина и Р.Р. Симоняна. Были на совещании с ними в Кремле во всеоружии, предложив схему создания четырех научно-производственных объединений и подробно показав их структуру. На вопрос, как распределится между ними качественное производство подшипников, ответили, к удивлению многих присутствовавших, что все четыре объединения будут выпускать однотипную продукцию – так мы обеспечим конкуренцию. Тогда взял слово министр автомобильного транспорта и, обращаясь к председателю Совмина, сказал: «Я обещаю прорыв в подшипниковой области другим путем – мне нужен еще один заместитель министра, вот его «объективка».
Будучи умным человеком, Николай Иванович прервал заседание, сказав министру: «Вы явно не готовы к обсуждению». Но и в Кремль по этому вопросу нас больше не вызывали…
Помню, как, еще во времена Брежнева, Иноземцев пригласил меня к себе домой поужинать. Он был явно взволнован. Сказал, что впервые предложили ему, тогда кандидату в члены ЦК КПСС, выступить на пленуме Центрального комитета. «Не будьте «белой вороной», напишите текст», – посоветовал я Ник Нику. «Не могу, буду выступать без бумажки».
Я оказался прав – уже одно это вызвало неудовольствие многих присутствовавших в зале. Еще больше покоробило содержание выступления. Иноземцев возразил против монополии на внешнюю торговлю даже не государства, а, как он справедливо сказал, Министерства внешней торговли СССР. Кроме этого, Иноземцев говорил о необходимости целенаправленной работы для обеспечения наилучших результатов на прорывных направлениях научно-технического прогресса. И все бы ничего, но академик Иноземцев привел в пример капиталистическую Японию, которая концентрировала средства через министерство промышленности и торговли, чтобы помочь частному бизнесу вырваться вперед в производстве компьютеров. После успешного освоения этих средств и выхода на показатели нового поколения компьютерной техники компании снова «разбежались» по своим «квартирам» и продолжили конкуренцию за рынки.
Николай Николаевич был очень удручен, когда ему передали реплику одного из руководителей, сказавшего в своем «кругу»: «Вы разве не видите, он нас пытается поучать!» А бессменный помощник нескольких генеральных секретарей, безусловно очень остроумный, едкий человек, А.М. Александров-Агентов сказал Иноземцеву: «Николай Николаевич, после вашего выступления стало ясно, что мы стоим перед дилеммой: либо нужно выводить из ЦК интеллигентов, либо делать ЦК интеллигентным».
Кстати, когда я в единственном числе уже на XIX партконференции выступил против антиалкогольной кампании, которая осуществлялась чисто административными мерами и привела прямо-таки к плачевным результатам в экономике и нанесла вред здоровью людей (начала развиваться, пожалуй, впервые в таких масштабах в России наркомания, токсикомания, исчез сахар – гнали самогон, вырубили виноградники и так далее и тому подобное), тот же А.М. Александров, который в то время еще оставался помощником теперь уже у М.С. Горбачева, отвел меня в сторону и спросил:
– Любите Гашека?
– Конечно, его герой Швейк – один из самых моих любимых.
– Так вот, – продолжал Александров, – помните, как в кабаках висели портреты Фердинанда, обсиженные мухами? Теперь и ваши портреты в таком же виде будут висеть во всех советских пивных.
После моего выступления многие подходили и пожимали руку. Конечно, оно было далеко не главным в прекращении этой бессмысленной, волюнтаристской и совершенно неподготовленной антиалкогольной кампании, но вскоре ее свернули, а повсеместно созданные антиалкогольные комитеты канули в Лету.
Много шишек набил себе ИМЭМО, доказывая изменившийся характер капитализма. Очень нелегко было вопреки совершенно очевидным вещам, в эпоху научно-технической революции, быстро меняющей облик всего мира, преодолеть сопротивление тех, кто все еще считал, что производственные отношения при капитализме выступают как тормоз развития производительных сил. В штыки встречались догматиками – а они верховодили во всяком случае в соответствующих секторах отделов науки и пропаганды ЦК КПСС – такие бесспорные теоретические положения, выдвигаемые сотрудниками ИМЭМО и некоторых других институтов, как способность производственных отношений меняться в рамках капитализма, приспосабливаясь к требованиям научно-технической революции. Писали, в том числе и я, что этот процесс затрагивает такую политэкономическую «святая святых», как собственность, причем меняются не только ее формы, но и содержание.
Мы показывали, насколько серьезных успехов добился современный капитализм в контролировании инфляции, а подчас и в использовании ее для роста производства, вообще в регулировании на макро– и микроуровнях.
Известно, что Ленин, говоря об историческом месте капитализма, выстраивал следующую цепочку: свободная конкуренция способствует концентрации производства – концентрация в свою очередь приводит к монополии – монополия ограничивает и стесняет свободную конкуренцию. Конечно, и Ленин не считал, что монополии охватывают все, но главное все-таки заключалось в его выводе о том, что монополия является антиподом конкуренции, которая, как известно, выполняет функцию силы, движущей технический прогресс. А как сложилась жизнь, особенно во второй половине XX века?
Во время моего директорства в ИМЭМО мы создали кафедру на экономическом факультете Московского государственного университета, которую на общественных началах я возглавил. На 1 сентября 1996 года в 9 часов утра была назначена моя лекция для студентов третьего курса. Я тщательно к ней готовился, но, несмотря на последовавшие положительные отзывы, не заблуждался – был далек от успеха. В аудитории сидели студенты, не видевшие друг друга несколько месяцев летних каникул, и им было куда интереснее поделиться друг с другом своими впечатлениями. В общем, такого состояния, когда «слышно, как муха пролетит», в аудитории не было. Но все-таки вопросы задавали, и в том числе недоуменные по той части моей лекции, где я сказал: «Требует корректировки понятие монополии, которое так часто трактуется в научной и учебной литературе со ссылкой на Ленина. Во-первых, хотел бы обратить внимание на неустойчивость монополий в капиталистическом мире в современных условиях – возросшая зависимость от рынка поставила даже многие крупные компании на грань банкротства. При высоком научно-техническом уровне современного производства те, кто получает первыми новую технологию, могут ликвидировать монополию, выйдя на рынок с аналогичной продукцией. В таких условиях, приспособляясь к обстановке, преобладающее большинство монополий превращаются в многоотраслевые корпорации. Во-вторых, в капиталистическом мире происходит рост немонополизированного сектора. В 80-х годах на долю этого сектора в капиталистических странах приходилось более 40 процентов валового внутреннего продукта и 60 процентов численности занятых – и не только в наукоемких, но и в «традиционных» отраслях. В-третьих, конкуренция бурно развивается не только на национальном, но и на транснациональном уровне. Таким образом, можно сделать вывод, что концентрация и централизация капитала в новых условиях не вытесняет конкуренцию и не тормозит научно-технического прогресса».
Можно считать, что впервые в ИМЭМО вовсю заговорили об интеграционных процессах, о качественном сдвиге, связанном с созданием транснациональных компаний (ТНК).
Это кажется ныне забавным, но ИМЭМО не без причины считал тогда одним из своих несомненных достижений «идеологический прорыв», который заключался в том, что впервые было заявлено о необратимости и объективном характере экономической интеграции в Западной Европе.
А к каким только выкрутасам не прибегали, чтобы подтвердить «годную для всех времен» правоту Ленина, который «поверг ниц» Каутского, доказывая неизбежность абсолютного обнищания рабочего класса при капитализме!.. Это была далеко не шуточная проблема. Ведь из этого постулата выводилась универсальная неизбежность революции, свергавшей капиталистический строй. Особенно трудно стало догматикам доказывать незыблемость представления об абсолютном обнищании рабочего класса, когда перестал существовать железный занавес и те, кто выезжал за границу – а их становилось немало, – убеждались, насколько улучшалась жизнь, поднимался ее материальный уровень за рубежом.
Для того чтобы отстоять вывод о том, что абсолютное обнищание рабочего имманентно капитализму во все времена, прибегали даже к такому «объяснению»: потребности трудящихся с развитием научно-технического прогресса растут быстрее, чем реальная возможность удовлетворять эти потребности. При этом игнорировался относительный, а не абсолютный характер обнищания даже в такой, тоже не соответствующей действительности, ситуации.
В ИМЭМО открыто дискутировались такие проблемы.
Новому осмыслению начало подвергаться и такое, казалось бы, «железобетонное» положение марксизма-ленинизма, как неизбежность циклических кризисов при капитализме, разрушающих производительные силы и отбрасывающих все общество назад. Этому противопоставлялось в виде несомненного преимущества бескризисное развитие при социализме. Вместе с тем становилось все очевиднее, что, во-первых, циклические кризисы в капиталистических странах теряли свою первоначальную остроту, видоизменялся сам цикл и, во-вторых, именно на время спада производства приходилась наиболее активная фаза его структурной перестройки в пользу наукоемких направлений и его модернизации, что позволяло делать очередной рывок.
Переосмысливалось отношение и к структурным кризисам капитализма. Я выступил с докладом на ученом совете ИМЭМО по энергетическому кризису, разразившемуся в середине 70-х годов. Стремился не только показать неизбежность его развития, но и способность капиталистических стран справиться с кризисом, возникшим после того, как энергетическая составляющая стоимости продукции и услуг взлетела чуть ли не до небес.
На Западе действительно успешно отреагировали на кризис, начиная с экономии энергии, но не в банальном понимании этого, а целенаправленно изготавливая изделия, орудия и средства производства, потребляющие значительно меньше энергии, а также развивая новые «нетрадиционные» источники энергии.
Вместо того чтобы действовать так, как на Западе, адаптируя к новым условиям все свое хозяйственное развитие, мы сделали ставку на то, чтобы получить в этих условиях максимальную выгоду от увеличения экспорта нефти и других энергоносителей, а на вырученные средства закупали, увы, далеко не высокотехнологичное оборудование. К чему это в конце концов привело – хорошо известно.
Но самым главным препятствием, мешавшим реальному представлению об окружавшей нас действительности, было, пожалуй, отрицание конвергенции, то есть взаимовлияния двух систем – социалистической и капиталистической. Защита понятия конвергенции считалась полным отступничеством от марксизма-ленинизма. Впервые Ленин, а затем, в гораздо более отчетливой форме, Сталин утверждали, что, в отличие от всех других исторических формаций, социализм, как таковой, не возникает в недрах предшествовавшего ему капитализма. Материально – заводы, рудники, города, сельскохозяйственные угодья – да, это достается по наследству. Но ни одного элемента, составляющего отношения к производительным силам. Отсюда и «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем (лишь после полного разрушения. – Е. П.) мы наш, мы новый мир построим».
Отрицание конвергенции не укладывалось даже в систему самих марксистско-ленинских идеологических представлений, но это мало кого волновало. Утверждали же, что социализм оказывает влияние на все мировое развитие. Если так, то как можно абстрагироваться от того, что он влияет на капитализм, видоизменяя его хотя бы в определенных пределах? Но от признания этого – один шаг до признания и обратного воздействия. Открытых шагов ни в одном, ни в другом направлении сделано не было.
Но косвенное согласие с тезисом о взаимовлиянии двух систем содержалось во многих экономических работах академических институтов и в меньшей степени – в работах высших учебных заведений. Главный вывод, который отстаивали мы, состоял в тезисе о совместимости социализма с рынком, рыночными отношениями. По этому вопросу ученые ИМЭМО, ЦЭМИ, Института экономики и некоторых других «наглухо» разошлись со многими обществоведами, преподавателями политэкономии[7]7
Конечно, я не хотел бы, чтобы у читателя сложилось впечатление об ИМЭМО и отпочковавшихся от него институтах как о единственных научных центрах, противодействовавших догматическим и консервативным силам, пытавшимся сохранить и укрепить свои позиции в партии и государстве. Но факт остается фактом: многие прогрессивно мыслящие ученые, работавшие в других НИИ или высших учебных заведениях, тяготели к ИМЭМО.
[Закрыть]. Сама жизнь подталкивала к этому выводу. Здесь сказывалось большое влияние практики, которая демонстрировала ряд преимуществ рыночных отношений.
Что касается влияния социализма на капитализм, то без понимания этого трудно объяснить те изменения, которые произошли в капиталистическом мире, особенно после Великой депрессии 1929–1930 годов.
В этом вопросе я разделяю взгляды Г.Х. Попова, изложенные в его интересной книге «Будет ли у России второе тысячелетие». Я так же, как и он, считаю, что в применении к сегодняшнему дню нет никаких оснований оперировать такими категориями, как социализм и капитализм. В чистом виде их попросту нет.