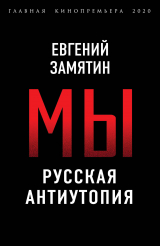
Текст книги "Мы. Русская антиутопия"
Автор книги: Евгений Замятин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Вариант 4
Конские ярмарки, цыгане, шулера, помещики[7]7
Впервые: Странник. 1991. № 1. С. 12–14. (Публикация А. Ю. Галушкина).
[Закрыть] – в поддевках, в «дворянских» с красным околышем фуражках. «Царские дни», на молебне в соборе впереди всех – исправник, за ним – чиновники, учителя гимназии в мундирах, со шпагами, купцы с медалями на шеях. Масленичные катания по Большой улице – в пестрых «ковровых», выехавших из 17-го века санях. Летние крестные ходы – с запахом полыни, с тучами пыли, с потными богомольцами, на карачках пролезающими под иконой Казанской. Бродячие монахи, чернички, юродивый Вася-антихрист, изрекающий божественное и матерное вперемежку…
Да полно: было ли все это? Так это далеко – на целые века – от нынешнего, что не веришь и сам. И все же знаю, что было, и было всего лет сорок назад. Это тамбовская Лебедянь, та самая, о какой писали Толстой и Тургенев и с какой связаны мои детские годы.
Дальше – Воронеж, серая, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером – чудесный красный флаг, вывешенный на пожарной каланче и символизирующий отнюдь не социальную революцию, а мороз в 20° – и отмену занятий. Впрочем, это и была однодневная революция в скучной, разграфленной гимназической жизни – с учителями в вицмундирах, с латинскими и греческими «экстэмпорале»[8]8
«Экстэмпорале» – классная работа без подготовки.
[Закрыть].
Из гимназического сукна вылез в 1902 году. Помню: последний день, кабинет инспектора (по гимназической табели о рангах – «кобылы»), очки на лбу, подтягивает брюки (брюки у него всегда соскакивали) и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись: «Моей almae matri[9]9
Almae mater (лат.) – букв, «кормящая мать»; у римских поэтов название богинь, покровительствующих людям (Цереры и др.); в переносном смысле – университет и вообще высшее учебное заведение (снабжающее духовной пищей).
[Закрыть], о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголев[10]10
Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) – историк, литературовед; автор известной работы «Дуэль и смерть Пушкина»; в 1899 г. дважды подвергался аресту за революционную деятельность (в ссылке находился вместе с А. М. Ремизовым).
[Закрыть] «. И инспектор – наставительно, в нос, на «о»: «Хорошо? Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути». Наставление не помогло.
Петербург начала 1900-х годов – Петербург Комиссаржевской, Леонида Андреева, Витте, Плеве, рысаков в синих сетках, дребезжащих конок с империалами, студентов мундирно-шпажных и студентов в синих косоворотках. Я – студент-политехник косовороточной категории.
В зимнее белое воскресенье на Невском – черно от медленных, чего-то выжидающих толп. Дирижирует Невским – думская каланча, с дирижера все не спускают глаз. И когда подан знак – один удар, час дня – на проспекте во все стороны черные человеческие брызги, куски «Марсельезы», красных знамен, казаки, дворники, городовые… Первая (для меня) демонстрация – 1903 год. И чем ближе к девятьсот пятому – кипенье все лихорадочней, сходки все шумнее.
Летом – практика на заводах, Россия, прибаутливые, веселые, третьеклассные вагоны, Севастополь, Нижний, Камские заводы, Одесса, порт, босяки.
Лето 1905 года – особенно синее, пестрое, тугое, доверху набитое людьми и происшествиями. Я – практикантом на пароходе «Россия», плавающем от Одессы до Александрии. Константинополь, мечети, дервиши, базары, беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый яффский прибой, черно-зеленый Афон, чумной Порт-Саид, желто-белая Африка, Александрия – с английскими полисменами, продавцами крокодиловых чучел, знаменитый Тартуш. Особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба. И по возвращении в Одессу – эпопея бунта на «Потемкине».
В те годы быть большевиком – значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком. Была осень 1905 года, забастовки, черный Невский, прорезанный прожектором с Адмиралтейства, 17-ое октября, митинги в высших уездных заведениях… Развязка – конечно, одиночка на Шпалерной и затем высылка (весною девятьсот шестого года). Место высылки было предоставлено мне выбирать самому. Я выбрал – Лебедянь. Но уездную тишину, колокола, палисадники – выдержал недолго: уже летом – без прописки в Петербурге, потом – в Гельсингфорсе.
Там однажды в купальне на Эрдгольмсхатан голый товарищ познакомил меня с голым пузатеньким человечком: пузатенький человечек оказался знаменитым капитаном Красной гвардии – Коком[11]11
Кок (Кокк) Йохан (1861–1915) – активный участник революции 1905–1907 гг. в Финляндии, начальник созданной финскими рабочими Красной гвардии. После окончания рижского военного училища служил офицером в Выборге, в 1896 г. вышел в отставку в чине капитана. Во время всеобщей октябрьской забастовки Красная гвардия под руководством Кока удерживала власть в Хельсинки в течение недели, Таммерфорсе и других городах. После подавления Свеаборгского восстания 1906 г. Кок эмигрировал.
[Закрыть]. Еще несколько дней – и Красная гвардия под ружье, на горизонте чуть видные черточки кронштадтской эскадры, фонтаны от взрывающихся в воде двенадцатидюймовок, слабеющее буханье свеаборгских орудий. И я – переодетый, выбритый, в каком-то пенсне – возвращаюсь в Петербург.
Парламент в государстве; маленькие государства в государстве – высшие учебные заведения, и в них свои парламенты: Советы старост. Борьба партий, предвыборная агитация, афиши, памфлеты, речи, урны. Я был членом – одно время председателем – Совета старост. Это было веселое и хорошее время. Оно кончилось в 1908 году.
Весною в 1908 году кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету, был оставлен при кафедре корабельной архитектуры (с 1911 года – преподавателем по этому предмету). Одновременно с листами проекта «башенно-палубного» судна – на столе у меня лежали листки моего первого рассказа. Отправил его в «Образование», которое редактировал Острогорский; беллетристикой ведал Арцыбашев[12]12
В журнале «Образование» был опубликован рассказ Замятина «Один» (1908, № 11). Острогорский Александр Яковлевич (1868–1908) – педагог, редактор журнала «Образование». Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927) – прозаик, драматург, публицист; автор нашумевшего романа «Санин» (1907); редактор альманаха «Грядущий день», лит. сборников «Земля» и др.
[Закрыть]. Осенью 1908 года рассказ в «Образовании» был напечатан.
Три следующих года – корабли, корабельная архитектура, логарифмическая линейка, чертежи, постройки, специальные статьи в журналах «Теплоход», «Русское судоходство», «Известия Политехнического института». Много связанных с работой поездок по России: Волга вплоть до Царицына, Астрахани, Кама, Донецкий район, Каспийское море, Архангельск, Мурман, Кавказ, Крым.
Летом 1911 года Охранное отделение опять выслало меня из Петербурга. Поселился сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом зимой – в Лахте. Здесь – в снегу, одиночестве, тишине – написалось «Уездное». После «Уездного» – сближение с группой «Заветов», Ремизовым, Пришвиным, Ивановым-Разумником[13]13
В журнале «Заветы» были опубликованы повести Замятина: «Уездное» (1913), «На куличках» (1914) и некоторые другие произведения.
Иванов-Разумник (наст, имя и фам.: Разумник Васильевич Иванов; 1878–1946) – критик, публицист, историк литературы и общественной мысли, мемуарист.
[Закрыть].
В 1913 году (трехсотлетие Романовых) – получил право жить в Петербурге. Теперь из Петербурга выслали врачи. Уехал в Николаев, построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и повесть «На куличках». По напечатании ее в «Заветах» – книга журнала была конфискована цензурой, редакция и автор привлечены к суду. Судили незадолго до Февральской революции: оправдали.
В начале 1916 года – через Швецию, Норвегию – уехал в Англию.
Там – сперва железо, машины, чертежи: строил ледоколы в Глазго, Нью-Кастле, Сэндэрланде, Саус-Шилдсе (между прочим, один из наших самых крупных ледоколов – «Ленин»). Немцы сыпали сверху бомбы с «цеппелинов» и аэропланов. Я писал «Островитян»[14]14
Эта повесть Замятина опубликована в 1918 г.
[Закрыть].
Когда в газетах запестрели жирные буквы: «Revolution in Russia», «Abdication of Russian Tzar»[15]15
«Революция в России», «Отречение русского царя» (англ.).
[Закрыть], в Англии стало невмочь, и в сентябре 1917 года на стареньком английском пароходишке (не жалко, если потопят немцы) я вернулся в Россию. Шли до Бергена долго, часов пятьдесят, с потушенными огнями, в спасательных поясах, шлюпки наготове.
Дальше – веселая, жуткая зима 17–18 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность.
Всяческие всемирные затеи: издать классиков всех времен и всех народов[16]16
Имеются в виду издательство «Всемирная литература», основанное М. Горьким в 1918 г., Союз деятелей художественной литературы (1918–1919) и Секция исторических картин при Петроградском театральном отделе Наркомпроса, созданная по инициативе Горького.
[Закрыть], объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей – практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист (от техники осталось только преподавание в Политехническом институте). И одновременно: чтение курса новейшей русской литературы в Педагогическом институте имени Герцена (1920–1921), курс техники художественной прозы в Студии Дома искусств[17]17
Дом искусств – Петроградская организация работников искусств (1919–1923) и здание, где находилась эта организация и жили многие литераторы, актеры, художники. Дому искусств посвящен роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль» (1931).
[Закрыть] («Серапионовы братья»[18]18
Литературная группа, образовавшаяся в литературной студии Дома искусств (Л. Лунц, М. Зощенко, В. Каверин, К. Федин, Н. Тихонов и др.), признанным руководителем которой считался Замятин.
[Закрыть]), работа в Редакционной коллегии «Всемирной Литературы», в Правлении Всероссийского союза писателей, в Комитете Дома литераторов[19]19
Всероссийский союз писателей (1920–1932), Дом литераторов (1918–1922) – объединения писателей.
[Закрыть], в Совете Дома искусств, в Секции исторических картин ПТО, в издательстве Гржебина, «Алконост»«, «Петрополис», «Мысль», редактирование журналов «Дом искусств», «Современный Запад», «Русский современник»[20]20
Журналы «Дом искусств», «Современный Запад» и «Русский Современник» выходили в 1921–1924 гг. под редакцией Замятина.
[Закрыть].
В эти годы – роман («Мы»[21]21
Роман «Мы» был закончен во второй половине 1921 г.
[Закрыть]), ряд повестей, рассказов, критических статей. И в эти же годы – новый соблазн: театр.
На четвертом этаже «Всемирной Литературы» за каким-то неестественно длинным столом заседала Редакционная коллегия Секции исторических картин: Горький, Блок, Гумилев, Ольденбург, художник Щуко, я – и еще три-четыре человека. Уже водрузили мы основные вехи в потоке всемирной истории, уже запрудили его мощной программой, как будто все готово, и вот-вот история завертит театральную турбину, но – исторических драматургов не оказалось. Едва ли не единственной в портфеле Секции была пьеса Чапыгина об удельно-вечевой эпохе[22]22
Речь идет о пьесе А. П. Чапыгина «Гориславич».
[Закрыть], написанная прекрасным и… никому не понятным подлинным языком XI века. Приняты были военные меры: редакторы Секции были мобилизованы для писания исторических пьес – и вскоре Блок дал «Рамзеса», Гумилев – пьесу об изобретении огня, а я – «Огни св. Доминика»[23]23
Н. Гумилев написал пьесу «Охота на носорога».
[Закрыть]. Для постановки их намечен был сначала театр Народного дома, потом предложен был Василеостровский, потом какой-то еще более захудалый районный театр. Секция отказалась дать туда пьесы – так они на сцену и не попали. Позже «Огни св. Доминика» попали в список пьес, не рекомендованных к постановке. Впрочем, пьеса эта, переведенная на немецкий, оказалась не рекомендованной к постановке и в Германии: там в ней усмотрели «оскорбление католической религии».
Это был мой первый драматургический опыт; вторая работа для театра – «Блоха», написанная для МХАТа 2-го.
О театрализации лесковского «Левши» МХАТ 2-ой мечтал уже давно, но все не мог найти подходящего автора. Когда, по предложению театра, я взялся за эту работу, я увидел, что задача – действительно очень трудная. Сюжет «Левши», как известно, взят из народного сказа, и эту сказовую форму – с ее особенным языком, с ее анахронизмами и условностями – надо было дать на театре. Единственно возможное решение мне увиделось в форме народной комедии, в форме «игры» – театра условного от начала до конца; эта условность была подчеркнута «раскрытием приема»[24]24
Имеется в виду принцип «обнажение приема» (термин теоретиков формальной школы в литературоведении).
[Закрыть] в лице трех ведущих масок – «халдеев». «Халдеи» пришли в «Блоху» одновременно из старинного русского «действа» и из итальянской импровизационной комедии, их предки – скоморохи, Петрушка, масленичный балаганный дед, Бригелла, Панталоне, Труффальдино. К весне 1924 года «Блоха» была закончена и в легкий, веселый майский день прочитана гастролировавшему тогда в Ленинграде МХАТу 2-му. Актеры смеялись так, что трудно было читать.
Премьера «Блохи» в МХАТе 2-м в постановке А. Д. Дикого и великолепном оформлении Б. М. Кустодиева состоялась в феврале 1925 года. В Ленинграде (тоже в декорациях Кустодиева и постановке Н. Ф. Монахова) «Блоха» была показана в ноябре 1926 года и затем обошла все крупные провинциальные сцены. В МХАТе 2-м пьеса шла до осени 1930 года, когда была снята – для «освежения» материала: роли «Раешника», «Левши» и «Англичан» написаны так, что они допускают введение рада реплик злободневного характера. Эта работа была проделана мною в течение зимы 1930-31 года, с осени 1931 года «Блоха» снова включается в репертуар МХАТа 2-го.
На большом производстве рядом с основным продуктом из «отходов» всегда получаются продукты побочные – «дериваты»: такие «дериваты» образовались и около «Блохи». К премьере «Блохи» в Ленинграде изд-вом «Academia» был выпущен небольшой сборник под заглавием «Блоха», куда вошли статьи: Б. Эйхенбаума, Б. М. Кустодиева, Н. Ф. Монахова, А. Лейферта и моя, в сборнике – иллюстрации Кустодиева. В 1929 году «Изд-вом писателей в Ленинграде» выпущена книга «Житие Блохи» – остроумные рисунки Б. М. Кустодиева и мой текст, дающие в пародийной форме историю постановки «Блохи» в Москве и Ленинграде. Превосходная музыка Ю. Шапорина к ленинградской постановке «Блохи» дала материал для симфонической сюиты «Блоха», исполнявшейся в Москве в сезон 1929-30 года; А. Коутс будет дирижировать[25]25
Английский дирижер; несколько лет работал в России, впоследствии неоднократно гастролировал в СССР.
[Закрыть] этой сюитой в Нью-Йорке в сезон 1931–1932 года. «Блоха»[26]26
«Блоха» в США так и не была поставлена.
[Закрыть] переведена на английский язык З. А. Венгеровой и переделана для американской сцены драматургом Генри Альсбергом.
Третья пьеса – трагикомедия «Общество Почетных Звонарей» (построенная на материале моей повести «Островитяне») – родилась под менее счастливой звездой, чем «Блоха». Пьеса эта была взята для постановки МХАТом 1-м в Москве и бывшим Александрийским в Ленинграде. В бывшем Александрийском театре пьеса стала плацдармом для войны двух режиссеров: в результате военных действий постановка была скомкана, перенесена в бывший Михайловский театр, на репетиции дано было всего только три недели. Для провала пьесы было сделано все возможное. Провала, правда, все же не получилось, но успех был довольно малокровный: пьеса продержалась только часть сезона 1925-26 года. В МХАТе 1-м ее начинали репетировать дважды, но до постановки дело так и не дошло. Очень хорошо эта пьеса была поставлена молодым театром «Красный факел», в течение нескольких сезонов игравшим ее в разных городах – главным образом, на юге России. С большим успехом «Общество Почетных Звонарей» шло в Театре русской драмы в Риге (сезон 1925-26 и 1926-27 гг.). Пьеса переведена на немецкий, английский, итальянский языки; осуществлена ли ее постановка в переводах на эти языки – мне неизвестно.
Как правило, – пьеса у меня пишется быстрее и легче, чем рассказ, повесть, роман (потому что повесть, роман – это пьеса плюс многое другое). Исключением была четвертая у меня пьеса – «Атилла»[27]27
Такое авторское написание этого имени сохраняется во всех изданиях пьесы и романа «Бич Божий».
[Закрыть]: работа над ней, включая «инкубационный» период и изучение материалов, заняла года три. Эпоха, когда состарившаяся западная, римская цивилизация была смыта волною молодых народов, хлынувших с востока, с черноморских, волжских, каспийских степей, – показалась мне похожей на нашу необычайную эпоху: огромная фигура Атиллы, двинувшего против Рима все эти народы, увиделась мне совсем в ином, не традиционном освещении. Уложить все это в четыре акта – было нелегко; нелегкой была и выбранная форма: чередование прозы с vers libre[28]28
Vers libre – свободный стих (фр.), верлибр.
[Закрыть] все время меняющихся размеров (в зависимости от перемен эмоционального ритма). Пьесу пришлось написать дважды: один, уже вполне готовый, вариант был разобран потом на кирпичи, и из них потом все здание было еще раз построено заново.
Работа была закончена осенью 1927 года. Право первого представления было предоставлено ленинградскому Большому драматическому театру. Пьеса была прочитана на заседании художественного совета – в присутствии делегатов от 18 ленинградских заводов; протокол этого заседания, где закреплена реакция рабочей аудитории на эту пьесу, – один из самых ценных документов в моем литературном архиве. Рабочие делегаты предлагали приурочить постановку пьесы к десятилетнему юбилею театра. С февраля 1928 года начались репетиции (Н. Ф. Монахов – в роли Атиллы), художник Н. П. Акимов сделал макет постановки; пьеса разрешена была Главреперткомом и объявлена на афишах, но, по независящим от театра обстоятельствам, до зрителя не дошла[29]29
После включения в репертуар и начала репетиций в мае 1928 г. решением областного реперткома пьеса была запрещена как «недостаточно идеологически выдержанная».
[Закрыть].
Две следующих пьесы – тоже остались в рукописях: это одноактная мелодрама «Пещера» (театрализация одноименного моего рассказа) и «История одного города» по Щедрину. «Пещера» написана по заказу Художественного театра (1-го), предполагавшего поставить спектакль из пяти одноактных пьес современных авторов (Вс. Иванов, Пильняк, Леонов, Бабель и я); проект этот не осуществился. «История одного города» – заказ театра Мейерхольда[30]30
Работа над пьесой шла в 1927 году.
[Закрыть] (1928 год); эта пьеса погибла на половине пути: из семи «эпизодов» закончены были три – остальные сохранились только в форме сценария.
Осенью 1929 года – пьеса «Сенсация» (переделка «The front page»[31]31
Здесь: «На первой странице» (англ.).
[Закрыть] Бен Хекта. В мае 1930 года «Сенсация»[32]32
Пьеса, написанная Б. Хектом и Ч. Макартуром, была переведена на русский язык З. А. Венгеровой.
[Закрыть] была показана в Театре им. Вахтангова в Москве и в июне – в Ленинграде, в бывшем Александрийском театре; в сезоне 1930-31 года, кроме этих театров, пьеса шла во многих театрах в провинции. И последняя, седьмая пьеса (если не считать незаконченной «Истории одного города») – «Африканский гость. Невероятное происшествие в трех часах». Этот сатирический фарс из советской жизни[33]33
Пьеса была впервые опубликована в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1963. № 73).
[Закрыть], написанный по заказу МХАТа 2-го, пока еще не напечатан и не поставлен.
Мы
Запись 1-я. Конспект: Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма
Я просто списываю – слово в слово – то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:
«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытаем слово.
От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:
Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.
Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.
Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»
Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнать дикую кривую, выпрямить ее по касательной – асимптоте – по прямой. Потому что линия Единого Государства – это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая – мудрейшая из линий…
Я, Д-503, строитель «Интеграла», – я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю – точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет – верю и знаю.
Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом – с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.
Но я готов, так же как каждый, или почти каждый, из нас. Я готов.
Запись 2-я. Конспект: Балет. Квадратная гармония. Икс
Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы – ежеминутно проводишь по ним языком – и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.
Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотолкущиеся кучи пара). Я люблю – уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения – видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.
Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится «Интеграл», и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.
И дальше сам с собою: почему красиво? Почему танец красив? Ответ: потому что это несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы в теперешней нашей жизни – только сознательно…
Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.
Милая О! – мне всегда это казалось – что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы – и оттого вся кругло обточенная, и розовое О – рот – раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки – такие бывают у детей.
Когда она вошла, еще вовсю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.
– Чудесно. Не правда ли? – спросил я.
– Да, чудесно. Весна, – розово улыбнулась мне О-90.
Ну вот, не угодно ли: весна… Она – о весне. Женщины… Я замолчал.
Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера – сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах[34]34
Вероятно, от древнего «Uniforme». – Прим. авт.
[Закрыть], с золотыми бляхами на груди – государственный нумер каждого и каждой. И я – мы, четверо, – одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа – два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.
Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица… Лучи – понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью – вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву…
И вот, так же как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я – именно я – победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин…
А затем мгновение – прыжок через века, с + на – . Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) – мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков, проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц… И ведь, говорят, это на самом деле было – это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.
И тотчас же эхо – смех – справа. Обернулся: в глаза мне – белые – необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.
– Простите, – сказала она, – но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно…
Все это без улыбки, я бы даже сказал, с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я – строитель «Интеграла»). Но не знаю – в глазах или бровях – какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.
Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним…
– Но почему же непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги – ведь это тоже было – и следовательно…
– Ну да: ясно! – крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она – почти моими же словами – то, что я записывал перед прогулкой). – Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы…
Она:
– Вы уверены?
Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови – как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево – и…
Направо от меня – она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее нумер); налево – О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки – неизвестный мне мужской нумер – какой-то дважды изогнутый вроде буквы S. Мы все были разные…
Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд – и со вздохом:
– Да… Увы!
В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе…
Я с необычайной для меня резкостью сказал:
– Ничего не увы. Наука растет, и ясно – если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет…
– Даже носы у всех…
– Да, носы, – я уже почти кричал. – Раз есть – все равно какое основание для зависти… Раз у меня нос «пуговицей», а у другого…
– Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки… Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!
Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые – какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и – по возможности посторонним голосом – сказал:
– Обезьяньи.
Она взглянула на руки, потом на лицо:
– Да это прелюбопытный аккорд, – она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.
– Он записан на меня, – радостно-розово открыла рот О-90.
Уж лучше бы молчала – это было совершенно ни к чему. Вообще эта милая О… как бы сказать… у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.
В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем S-образным мужским нумером. У него такое внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его – сейчас не вспомню.
На прощание I – все так же иксово – усмехнулась мне.
– Загляните послезавтра в аудиториум 112.
Я пожал плечами:
– Если у меня будет наряд именно на тот аудиториум, какой вы назвали…
Она с какой-то непонятной уверенностью:
– Будет.
На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.
Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне – налево.
– Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас… – робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.
Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» – как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.
При расставании я два… нет, буду точен, три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.








